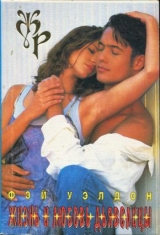
Текст книги "Жизнь и любовь дьяволицы"
Автор книги: Фэй Уэлдон
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 17 страниц)
– Похоже, ничего хорошего ему не светит, – сказала Полли Пэтч.
– Совсем не светит, – подтвердил судья. Грудь у нее была необъятная, как сама жизнь. Впрочем, она вся такая.
– Так что же все-таки ему помешало?
– Что-то помешало. Может, красотка надула его и сбежала с деньгами, а может, он просто ждал от нее условленного звонка – наверняка сказать трудно. К нему в контору как раз наведались ревизоры, заподозрили неладное, вызвали полицию, и дело пошло-поехало.
– Женщинам верить нельзя! – проронила Полли Пэтч, и судья порадовался, что она такая несовременная и позволяет себе откровенно антифеминистские высказывания, которые в прежние времена придавали пикантность и остроту общению мужчин и женщин, приятно будоражили воображение.
– Полагаю, обвинение может считать, что дело в шляпе, – сказала Полли.
– Думаю, да, – произнес судья. – Но защита настроена решительно, просто так они не сдадутся.
– Надеюсь, ему не удастся выйти сухим из воды, – сказала Полли. – Похоже, это отвратный и опасный тип.
Судья завороженно смотрел в темный провал ее рта. Она говорила с сильным пришепетыванием.
Жена заверила его, что как только десны заживут, ей вставят искусственные зубы, по крайней мере, на время, пока она дожидается косметической операции – ей будут на семь сантиметров уменьшать челюсть. Его давно подмывало поговорить с ней об этом.
– Болит? – решился он наконец.
– Само собой, болит, – сказала она, – как и положено. За все нужно платить, если хочешь чего-то добиться. И, наоборот, если ты готов заплатить соответствующую цену, то добиться можно практически чего угодно. В данном конкретном случае я плачу физической болью. У Андерсена русалочка хотела, чтобы вместо хвоста у нее были ножки, – и тогда ее дорогой принц полюбил бы ее. Она получила ноги и с ними, соответственно, все остальное. И с тех пор каждый шаг отдавался в ней такой болью, словно она ступала по ножам. А чего другого, спрашивается, можно ждать? Такая ей была назначена цена. Как и она, я сама сделала выбор – и не жалуюсь.
– А принц оценил ее жертву? – спросил судья. – Полюбил ее?
– Ненадолго, – сказала Полли Пэтч. Отблески огня придавали ее черным волосам красноватый оттенок. Судья взял ее руку в свою. Ему почему-то казалось, что рука должна быть теплой, но она была холодная. Полли вновь заговорила о бухгалтере.
– Кому доверяют больше других, – сказала Полли Пэтч, – тот больше других грешит, злоупотребляя доверием.
– Да, но у таких людей и искушение сильнее, – сказал судья. – Правосудие должно быть отмечено печатью милосердия, гуманности.
– А он проявлял милосердие к своим клиентам? – спросила Полли, и ее пальцы неожиданно нежно, ласково шевельнулись у него в руке. – А ведь это все писатели, художники, люди, не умеющие постоять за себя в нашем жестоком мире.
Судья, которому, в силу его профессии, чаще доводилось лицезреть писателей в роли плагиаторов, пасквилянтов и нарушителей авторского права, был не так уж уверен, что эта братия заслуживает большого сочувствия.
– Сколько вы ему дадите? – спросила она. Они сидели уже совсем близко, и его костистое, затянутое серой шерстяной фланелью бедро прижималось к ее бедру, упругому и широкому. В любой момент, завершив омовение, могла войти леди Биссоп.
– Год, – сказал он, – чуть больше, чуть меньше.
– Год?! Это после того, как несчастной, обезумевшей, умирающей женщине вы присудили целых три! Да он в сто раз хуже! Человек, облеченный доверием, позволяет себе хладнокровно, цинично, с преступным умыслом обманывать и подтасовывать – попросту плюет в лицо обществу, от которого он ничего худого не видел. Это будет скандал! С такой непростительной мягкотелостью вам никогда не стать Главным судьей.
– Так-то оно так, – сказал он, – но и один год для человека среднего класса, с привычкой к определенному уровню жизни, к положению в обществе, – это как другому все пять. Нельзя забывать, что он и так сурово наказан: прошел через унижение, его семья разрушена, он лишился всего – друзей, карьеры, пенсии!
– Простые люди, – сказала она, – как правило, действуют по наитию, их проступки более или менее случайны, а вот господа из среднего класса все заранее планируют и просчитывают. И наказывать их за это надо с удвоенной строгостью, а не вполсилы.
Чтобы заставить ее замолчать, он свободной рукой закрыл ей рот, для чего ему пришлось встать и склониться над ней. Все-таки, когда не видишь этого рта, как-то спокойнее – нет опасения, что тебя могут ненароком проглотить.
Она оттолкнула его и встала спиной к огню, выделяясь темным силуэтом на фоне пляшущих языков пламени. Ни с того ни с сего огонь с громким треском взметнулся вверх.
– Вы обязаны выслушать меня, – сказала она, – ибо я глас народа, и другого случая приблизиться к народу, хотя бы на такое же расстояние, у вас не будет.
– Слушаю, – сказал он. И в самом деле, она стояла, заслоняя собой огонь, словно статуя Свободы в нью-йоркской бухте или фигура Фемиды, украшающая Дом правосудия в Лондоне, – олицетворение закона, сам закон во плоти. Судья смотрел на нее во все глаза и слушал во все уши.
Леди Биссоп вошла в комнату, завернутая в синий махровый халат, вызывавший у него особое отвращение.
– Морин! – рявкнул судья. – Иди спать!
Леди Биссоп дрожащим голосом спросила, может ли она поговорить с судьей с глазу на глаз. Полли Пэтч моментально покинула комнату.
– Прошу тебя, не рискуй, – взмолилась леди Биссоп. – Если Полли обидится и уйдет – что мне тогда делать? Я так привыкла во всем на нее полагаться.
– Радость моя, – сказал он, – позволь мне самому судить о том, что тебе на пользу, а что нет. Пожалуйста!
И леди Биссоп, успокоенная, отправилась спать, а судья проследовал вместе с Полли в гостевую комнату, где пробыл два часа. Он был человек долга, и ночным развлечениям отводил строго определенное количество времени, чтобы наутро встать свежим и отдохнувшим. Полли понимала его – она вообще многое понимала – и не просила его остаться.
На следующее утро, когда все собрались к завтраку, Полли приступила к своим обычным обязанностям – вытирала подбородки, искала затерявшиеся шнурки, – как всегда, бодрая и энергичная; что до леди Биссоп, то она, не потревоженная никакими знаками супружеского внимания, прекрасно выспалась, и ее синяки и ссадины могли спокойно заживать, – в общем, она сразу оценила все преимущества нового распределения ролей в доме. Она даже отправилась в город и привела в порядок волосы – такую она вдруг ощутила бодрость духа, такой моральный подъем.
Судья же, обнаружив в Полли гораздо более отзывчивого сексуального партнера, нежели его жена, избавился наконец от чувства вины, и, по-новому взглянув на окружающий его мир, нашел, что он не так уж плох. Пожалуй, судья был счастлив. Он стал менее суров с детьми. Им теперь даже разрешалось играть в саду – его уже не так беспокоило, что они могут нечаянно засадить мячом в какое-нибудь растение и сломать его. Он замечал, как жена у него на глазах все больше впадает в детство, но даже это его почему-то не трогало. Наконец, он решил более равномерно распределять в течение месяца вынесение приговоров, и хотя поначалу это вызвало небольшой переполох у его подчиненных, они скоро перестроились на новый режим. По ночам судья проводил с Полли несколько приятных часов (правда, ему приходилось попотеть), привязывая ее за руки и за ноги к кровати и отхаживая ее старинной бамбуковой выбивалкой для ковров.
– Больно я тебя ударил? – спрашивал он.
– Да, очень больно, – отвечала она вежливо.
– Я не садист, – заявил он однажды. – Это у меня такая реакция на работу.
– Я понимаю, – сказала она, – прекрасно понимаю. То, что вы обязаны делать в силу служебного долга, противоестественно, и это форма вашего внутреннего протеста.
Он почти любил ее. Она, по его мнению, была потрясающе умна и прозорлива.
Леди Биссоп пришла к выводу, что пурпурный слишком бьет в глаза, и все ковры в доме заменила на коричневатые, на восемьдесят процентов состоящие из натуральной шерсти, и в результате дом стал похож на другие дома, если не считать того, что происходило здесь по ночам в. гостевой комнате. Леди Биссоп даже начала понемногу принимать у себя, поскольку теперь муж относился к ее друзьям без прежней обостренной подозрительности и даже допускал, что у них могут быть иные намерения, кроме как посмеяться над ним либо изучить планировку дома и затем его ограбить.
Между тем встал вопрос об освобождении злополучного бухгалтера под залог. Полли Пэтч была категорически против.
– Но он отсидел в тюрьме целый год, – удивился судья, – До суда, заметь!
– Ну, всем же ясно, что он виновен, – сказала Полли. – И не только в мошенничестве, если на то пошло. Так что приберегите жалость для тех, кто ее заслуживает. Добропорядочные семьянины, простые трудяги, которые наломали дров сгоряча, но уж если дали слово, будут его держать, – вот кто заслуживает, чтобы их отпускали под залог. Но этот человек!.. Разве можно доверять такому?
– Деньги обязуется внести его любовница. Судя по всему, она готова потратить на него целое состояние. Если человек способен внушить такое чувство, он не может быть абсолютно порочен.
– Еще как может, – заявила Полли. – Она любила его, а он ее предал. Он жил с ней, а спал с другими. Он вынашивал план бросить ее. Так с какой же стати теперь он будет ей верен? Нет! Пусть несчастная женщина сохранит хотя бы свои деньги. Не будет ему никакого залога, говорю я! Иначе он попросту не явится в суд – ищи его тогда где хочешь.
Судья отклонил ходатайство защиты. И Боббо снова вернулся в тюрьму дожидаться суда.
Дантист вставил Полли Пэтч ряд сверкающих временных зубов, и теперь она меньше шепелявила и выговаривала слова гораздо отчетливее. Судья был этим даже слегка опечален. Он успел полюбить глухие раскаты невнятных звуков, вырывавшихся из темного лабиринта ее глотки. Ему нравилось проталкивать язык в свежеобразованную расщелину в десне, и проводить по крошечным, сточенным пенькам – все, что осталось от коренных зубов. В то же время она теперь стала выглядеть более заурядно и лучше вписывалась в изменившуюся обстановку и атмосферу дома.
Иногда у него возникало желание узнать, откуда взялась Полли Пэтч и куда она держит путь; впрочем, это случалось нечасто. Он давно привык к тому, что люди возникают перед ним из ниоткуда, словно выхваченные ярким лучом прожектора, прямо посреди зала суда – только для того, чтобы вновь исчезнуть где-то в темноте, за границей светового круга; и, быть может, именно благодаря своей профессии, а не вопреки ей он редко задавал вопросы. Он не обладал пытливым умом. Ему это было просто ни к чему. Задача судьи – терпеливо ждать, когда факты сами заявят о себе, а вынюхивать и выведывать – не его работа. Для этого есть другие.
Полли Пэтч как-то ночью сказала ему, что сексуальная энергия озаряет вселенную и ее, как факел, надо донести до самых темных уголков. И когда она озарит все вокруг, в мире больше не будет ни стыда, ни чувства вины, ни войн. Еще она сказала, что боль и наслаждение – одно и то же, и суть Закона в том, чтобы поступать сообразно своим желаниям.
Слова эти, исторгнутые из беззубого рта (зубы вновь вернулись к дантисту для подгонки), звучали как грозное прорицание оракула. Причем, немного подумав, решил он, вдохновение сей оракул черпал не на Олимпе, а в Аиде – не в раю, а в аду. На том Олимпе, куда он сам был вознесен судьбой и где горная вершина здравомыслия теряется в заоблачных высотах интеллекта, – все разговоры сводились к тому, как ущемляется душа, когда потакают низменным чувствам, Полли Пэтч и слышать об этом не желала. Она, словно ее устами говорил сам дьявол, провозглашала, что душа и чувства – неделимое целое: потакать одному, значит потакать другому.
Полли Пэтч села на диету из расчета 800 калорий в день; но похудеть не похудела. Никто не мог понять, в чем причина. Леди Биссоп, соблюдая ту же диету, теряла по пять килограммов в месяц и в конце концов до того истаяла, что судья ощутил признаки возрождающегося сексуального интереса к жене: чем более несчастной и жалкой она казалась, тем, увы, сильнее его к ней притягивало; но она так пронзительно верещала, что он счел за благо вернуться в гостевую к выносливой и защищенной подкожным слоем жира Полли.
Дело бухгалтера было вынесено на предварительное слушание. Общественность негодовала, поскольку обвиняемый по-прежнему не желал оказывать помощь следствию и до сих пор скрывал местонахождение своей сообщницы, тем самым препятствуя возвращению денег владельцам. Упомянутая девица непродолжительное время работала у него в офисе, затем была уволена (вероятнее всего, для отвода глаз, чтобы остальные служащие ни о чем не догадались), бросила мужа, села в самолет и улетела в Люцерн – там след и обрывался.
– Какой у него был вид на скамье подсудимых?
– Невзрачный, – сказал судья Биссоп. – Кожа землисто-серая, типичная для тех, кто давно сидит в тюрьме, цвет лица отвратительный – тюремная пища никого не красит.
– Небось на свободе все больше икорку да лососинку кушал, – сказала Полли. – Бедняжечка!
– Прибереги свою жалость для кого-нибудь другого, – сказал судья, – Это закоренелый злодей, ничем его не собьешь. Упорствует, мерзавец!
– Сколько вы ему дадите?
– Дело пока даже не передано в суд, – уклончиво ответил судья. – Неизвестно еще, что скажут присяжные. Но, по моим прикидкам, лет пять.
– Мало, – сказала Полли Пэтч.
– Мало?.. В каком смысле? – Он ее поддразнивал. Рука с выбивалкой для ковров замерла над ее голым задом. Когда он опустит ее и снова поднимет, у нее на теле отпечатается красивый узор из взбухших красных полос.
– Мало… для моих замыслов, – пояснила она.
– Семь лет! – распалялся он.
– Хватит! – сказала она, и он хлестнул ее с такой силой, что на этот раз и ее проняло, и она вскрикнула на весь дом, и мальчики заворочались во сне, и леди Биссоп протяжно, со стоном вздохнула – ей снился деликатесный консервированный грибной суп с перчиком, – и где-то за окнами, в черной ночи, гулко заухала сова.
– Поистине глас дьявола, покидающего преисподнюю, – восторженно воскликнул он, припадая жадными губами к истерзанной плоти, и кого он имел в виду – ее, себя самого, – кто знает? В последнее время он стал подумывать, уж не ближе ли ему Аид, где душа и тело суть одно, чем Олимп, в самом деле. Преступник берет от жизни, что может, – судья вправе сделать то же самое. Одному боль – другому наслаждение. Из ночи в ночь он, не жалея сил, доказывал эту истину, стирая всякую разницу, уничтожая все границы между святостью и грехом, белым и черным – истязая и терзая плоть, дабы стала она духом.
– Разумеется, – сказал он как-то ночью Полли Пэтч, продолжая разговор о бухгалтере, который теперь не шел у него из головы, – его могут научить подать прошение о признании его невменяемым. Тогда у Него появится шанс вместо тюрьмы оказаться в хорошо охраняемом сумасшедшем доме – и уж оттуда ему вовек не выйти. Наверное, такой исход дела был бы самым правильным, учитывая, что речь идет не просто о растратчике, а, по всей вероятности, о поджигателе и убийце.
– По-моему, суд расписывается в собственном бессилии, – заявила Полли Пэтч, – раз у преступника всегда есть лазейка: сказаться невменяемым и уйти от наказания. Судья обязан быть бескомпромиссным в оценке причиненного зла, а не прятаться за удобными отговорками о психической неполноценности. Судить должно преступление, а не мотив и не причину. Судьи существуют для того, чтобы наказывать, а не исцелять.
Давно, очень давно судья Биссоп не слышал подобных суждений, да еще в такой категоричной форме. Он воспринял ее слова как предвестие назревающих перемен в общественном мнении. Стрелка правительственного компаса на протяжении многих лет упорно смещалась влево, и людей гораздо больше беспокоили преступления против личности, чем посягательства на собственность. Но вот теперь стрелка дрожит, вибрирует, собираясь с силами для мощного рывка вправо – и тогда собственность и деньги вновь будут признаны святая святых, а на страдания человека и разные причиняемые ему неудобства будут смотреть как на мелочи жизни. Такие перемены он только приветствовал.
Когда бухгалтер наконец предстал перед судом, судью Биссопа уже не надо было убеждать в том, что он заслуживает сурового наказания. Двое детей подсудимого присутствовали в зале на нескольких заседаниях – тупо жуя жевательную резинку с видом полнейшей апатии вообще и равнодушия к судьбе родителя в частности. Одеты они были кое-как и кого-то отдаленно ему напоминали – он так и не вспомнил кого. У него мелькнула мысль, что по такому случаю их могли бы помыть, причесать и приодеть и что все вместе – их поведение и внешний вид – можно при желании расценить как откровенное неуважение к суду.
Ввиду серьезности предъявленных обвинений – холодный, расчетливый, предумышленный обман с целью наживы и злоупотребление доверием клиентов, – он не считает возможным (как он указал защите в своем заключительном слове) поднимать вопрос о вынесении приговора условно, даже принимая во внимание то обстоятельство, что обвиняемый уже несколько месяцев находится в заключении. Все задержки в слушании дела происходили по вине самого же обвиняемого, поскольку он не желал нести моральную ответственность за свои преступления, не предпринял никакой попытки хотя бы частично возместить ущерб пострадавшим, более того, отказался передать полиции необходимые сведения относительно его сообщницы. И если защита полагает, что имеет дело с добреньким судьей, то это заблуждение: он судья справедливый. Обвиняемый проявил бездушие, оставив жену и заведя двух или нескольких любовниц, и тем причинил моральный ущерб сразу многим; и хотя частная жизнь любого гражданина является его личным делом и не может служить предметом судебного разбирательства – о чем господа присяжные обязаны помнить, вынося вердикт, – тем не менее безответственность в одной сфере жизни распространяется на все остальное. «Кроме того, – заметил он напоследок, – собственность есть краеугольный камень, на котором зиждется все здание общественной морали». Он покосился в сторону журналистов, чтобы убедиться, что эта его сентенция занесена в их блокноты, и, убедившись, испытал удовлетворение.
Присяжные гуськом потянулись совещаться и почти сразу вернулись.
– Виновен, – сказал старшина присяжных.
– Семь лет, – объявил судья.
Вскоре после суда Полли Пэтч оставила службу у леди Биссоп. Судья вернулся домой с заседания комиссии по реформе закона об абортах (сам он придерживался мнения, что аборты должны оставаться в рамках государственного регулирования, а не быть частным делом каждого отдельно взятого родителя, и в принципе их следует запрещать на том основании, что белых младенцев из обеспеченных семей рождается явно недостаточно, и, увы, они-то чаще всего и гибнут, не родившись, под скальпелем хирурга) и застал жену в слезах.
– Ушла, ушла! – плакала она. – Полли Пэтч ушла! Подъехала машина с шофером и увезла ее. Она даже жалованье не взяла!
– Еще бы она взяла! – сказал судья по привычке. – Раз ушла без предупреждения, никакого жалованья ей не положено. – Но сам он тоже плакал, и дети плакали, и все они сплотились в общем горе, и между ними возникла душевная близость, дотоле им неведомая, но с благодарностью ими вспоминаемая до конца их дней.
– Я так думаю, она была нам послана Богом, – сказала Морин Биссоп.
– Или дьяволом, – сказал судья. – Иногда мне кажется, что дьявол добрее Бога. – Он что-то стал сильно сомневаться в непререкаемой добродетельности Господа.
Весьма скоро судье удалось оставить уголовное право и заняться налоговым законодательством; в результате их с женой сексуальная жизнь вошла в более спокойное, даже обыденное русло. Он перестал затыкать детям рты пригоршнями песка и прибегать к другим подобным методам, чувствуя, что Полли Пэтч этого не одобрила бы, и смутно понимая, что, если на одну чашу весов положить обиду и, мягко говоря, некоторый дискомфорт, испытываемый при этом его детьми, а на другую – его собственный покой, ради которого он это проделывал, то первое явно перетянет. Мало того, у леди Биссоп и судьи родилась девочка, которую по его настоянию назвали Полли (по счастью, прехорошенькая, в отличие от ее тезки), – забавная резвушка, принесшая в дом много радости. Видимо, благодаря ей леди Биссоп окончательно утратила пристрастие к ярким, кричащим тонам и прикипела к нежным, в мелкий цветочек узорам – простеньким, но миленьким.








