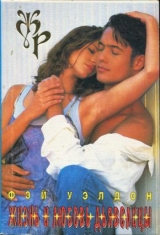
Текст книги "Жизнь и любовь дьяволицы"
Автор книги: Фэй Уэлдон
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 17 страниц)
Конечно, ему хотелось сделать это достоянием гласности. Такая уж у него была натура. Ему хотелось крикнуть на весь мир, что он больше не полумужчина; заявить, что никто не отнимет у него права спать со своей экономкой, если ему пришла охота. Но Молли этого не одобряла.
– Понаедут, фотографировать начнут, – сказала она. – Ненавижу фотографироваться.
Что ж, ее можно было понять.
Шел третий месяц, и Молли купила ему новые рубашки и брюки на деньги из приходской кассы – он годами тратил на себя меньше, чем положено. Они устроили себе гнездышко в комнате Молли, а если было холодно, включали электронагреватель на полную мощь. Он начинал понимать – с нетерпением ожидая, когда же придет ночь и можно будет забраться в постель, – почему его паства так цеплялась за свое право на сексуальные утехи.
Однажды ночью, спустя еще месяц, Молли сказала, что главная проблема в западных предместьях не секс, который, как всем известно, есть священное таинство, а любовь. Не случалось ли ему в последнее время заглядывать на книжные прилавки? Сознает ли он в полной мере, что чуть не все умеющие читать женщины покупают любовные романы? На какое воспитание чувств, духовную зрелость, о нравственности уже речь не идет, можно после этого надеяться?
– В любви земной есть отблеск любви небесной, – сказал отец Фергюсон. – По-моему, все не так страшно, как тебе кажется.
Но он запомнил ее слова и на своей следующей пресс-конференции – он устраивал их каждую неделю с тех пор, как получил от епископа послание, призывающее его обуять гордыню, – заметил, что, поскольку мы живем в такое время, когда сочинители романов стали бесспорными властителями дум в национальном масштабе (ибо одряхлевшая церковь утратила роль духовного поводыря – его мнение на этот счет господам репортерам хорошо известно), – церковь должна установить над ними контроль. При этом особое внимание следует уделить не столько творениям, сколько творцам: о каждом ли можно сказать, что у него есть чувство гражданской ответственности перед обществом? Тот, кто благополучно выдержит проверку на благонадежность, получит карт-бланш и может писать, что ему вздумается. Это ни в коем случае не цензура, скорее призыв воспитывать внутреннего цензора в самом себе.
Что тут началось: шум, гам, протесты писательских организаций – словом, отец Фергюсон почуял, что попал в точку. Если ты ткнул наугад в некое политическое тело и оно взвизгнуло, – значит, что-то тут нечисто. Но вскоре от его начальства последовал реприманд за то, что он вмешивается в дела, не имеющие к церкви никакого касательства, и он благоразумно сложил оружие.
– Уж очень ты послушный, как я погляжу, – ворчала Молли.
– Я обязан подчиниться, – возражал он. – Пока что я еще священник.
– Но ты же знаешь, что церковь заражена чумой бюрократизма. Не ты ли сам твердил мне об этом? Они там все политиканы, а тебя ведет высшая сила – сам Господь Бог.
– Ну-ну, дорогая, это уж ты слишком. – Однако слова ее были ему приятны. Тем не менее он оставил писателей в покое. Он все с большим удовольствием предавался праздности, чтобы не сказать лени.
Молли к началу пятого месяца своей службы потеряла одиннадцать килограммов, а он двенадцать набрал. Теперь он просто не смог бы пробежаться трусцой до Брэдвелл-парка, даже если бы попытался, хотя в последнее время у него таких поползновений и не было. В вестибюле миссии он повесил объявление, где прихожанкам предлагалось обращаться за советом и наставлениями в клинику напротив, сам же приезжал в миссию раз в неделю, на такси, правда, испытывая при этом тягостное чувство вины.
Молли установила в доме центральное отопление. Он ощущал, как тепло проникает в его кости; мозг его теперь не работал с постоянным напряжением и холодной четкостью, а включался какими-то внезапными вспышками, и ему это, в общем, нравилось. Большую часть времени он находился во власти приятной, чувственной истомы. Старая дубовая мебель – сундуки, бюро, шкафы, – веками пылившаяся в темных углах, стала трескаться по швам и перекашиваться во все стороны под воздействием непривычно жаркого сухого воздуха. Призраки исчезли безвозвратно, вытесненные теплом, вином, яствами и сексом. Больше их никто никогда не видел.
Шел шестой месяц, когда Молли провозгласила, что отец Фергюсон по характеру скорее прирожденный администратор, а не рабочая лошадка. Наверное, ему лучше совсем не ездить в миссию в Брэдвелл-парке.
– Но это значит, миссия прекратит свое существование!
– Твое призвание, душа моя, в том, чтобы быть жалом в плоти церкви твоей – для ее же блага. Вспомни притчу о талантах.
И миссия закрылась, и отец Фергюсон избавился от чувства вины. Тогда он поглядел окрест себя в поисках, чем бы ему заняться.
– Может, имеет смысл вернуться к твоей теории относительно ответственности литературы перед обществом? – подсказала Молли.
– Слишком рискованное предприятие.
– Но, радость моя, риск – твоя стихия!
Он направил красноречивое послание шестерым самым известным авторам любовных романов список имен для него подготовила Молли. Четверо ответили, двое промолчали. Из двоих одна была Мэри Фишер.
– Думаю, тебе следует с ней повидаться, – сказала Молли. – Мне кажется, такое нельзя спускать – это же откровенный вызов! Вот так взять и пропустить мимо ушей обращение слуги Господня! Какая наглость! Это почти то же самое, что надругаться над самим Господом!
– Отрадно, что ты всегда на моей стороне, – сказал он. – Когда привыкаешь, что с тобой никто никогда не соглашается, а потом вдруг появляется человек, готовый во всем тебя поддерживать, – это как чудо.
Отец Фергюсон облачился в сутану, сел в свою новую машину и покатил к Высокой Башне. Молли махала ему вслед.
28
Мэри Фишер живет в Высокой Башне и размышляет над тем, что есть вина и что есть долг. Она часто плачет. Она уже целую вечность не была в постели с мужчиной. Она любит Господа, ведь ей некого больше любить, и наделяет Его качествами, присущими, по мнению отца Фергюсона, самому отцу Фергюсону.
Она бы и отца Фергюсона полюбила, но он священник, из чего она делает вывод, что он дал обет до конца дней своих не прикасаться к женщине; ей и в голову не приходит, что он не чужд сексуальности. Он для нее посредник между ней и Богом. Больше ничего.
Старая миссис Фишер время от времени вскакивает с кровати и вопит:
– Прочь, воронье семя! Попы всегда к беде!
Будто беда уже не обступила Мэри Фишер со всех сторон, словно волны Башню, с того дня, как Боббо бросил ради нее свою жену.
Отец Фергюсон говорит, что это не беда, а Божья кара за ее грехи. И в этом ей крупно повезло, говорит он, ибо на нее снизошло благоволение Господне. Кого Он решил покарать в сем мире, а не в ином, того Он воистину возлюбил.
Отец Фергюсон всласть отвел душу в винном погребе Мэри Фишер, перепробовав все ее лучшие вина. Правда, запасы оказались не так уж велики. Закупкой вина у Мэри Фишер всегда ведали мужчины, но в последнее время мужчины исчезли из ее жизни.
Это знак времени – все постепенно приходит к концу. И так всюду, куда ни взгляни. Ребенок Гарсиа и Джоан родился с пороком сердца. У нее нет оснований желать этому младенцу, тем более его нечистой на руку матери, какого-то особого счастья, но видеть их несчастье и отчаяние ей тяжело. Отец Фергюсон говорит утешительные слова и объясняет ей суть любви Всемогущего Господа Бога, и у него каким-то образом – она не может запомнить, каким именно, – получается, что любовь эта даже боль и муку делает сладостными.
Мэри Фишер рассказывает отцу Фергюсону о том, как она обошлась с женой Боббо и его детьми. Она говорит, что осознала, какое зло причинила им. Говорит, что сама понимает: любовь не может служить оправданием дурных поступков. Она хочет знать, как ей исправиться.
– То, что выходит из-под вашего пера, есть зловредное пустозвонство, – без обиняков заявляет отец Фергюсон. – Вы обязаны остановить себя. Это и будет первый шаг на пути к исправлению.
Как, еще и это? Отец Фергюсон разъясняет ей, что она сломала жизнь миллионам своих читательниц: она поселила в их душах ложные надежды. Она несет персональную ответственность за печальную судьбу несметного количества женщин. Даже пристрастие ее современниц к валиуму он ставит ей в вину. Рука Мэри Фишер, скользящая по листу бумаги, дрожит и замирает.
Отец Фергюсон говорит, что Господь всемилостив. Он простит искренне раскаявшихся, если они уверуют. Мэри Фишер жаждет прощения. Она желает уверовать, принять католичество – и принимает.
Обретя в новой вере душевный комфорт, Мэри Фишер заодно обретает былую округлость и привлекательность. Она и отец Фергюсон вместе совершают молитвы, два раза в неделю. Он ужинает у нее по вторникам и четвергам – в четверг еще и ночует. Спасти этот мир, а не усугублять бремя его страданий – вот на что она жаждет употребить свое имя, славу, репутацию. Она садится за новый роман – «Жемчужный чертог любви». Роман о монахине и ее борьбе за возвышенную, небесную любовь. Издатели в восторге.
Отец Фергюсон гораздо более сдержан. Он объясняет Мэри Фишер, что любовь небесная и любовь земная не есть понятия взаимоисключающие.
– Существует еще художественная правда, – говорит на это Мэри Фишер, переводя разговор в профессиональное русло, где она чувствует себя увереннее всего. – Для книги это самое главное. А если я на ней заработаю, как знать, может, я построю здесь часовню.
Его шокируют ее слова – во всяком случае, он делает ей внушение. Это происходит под вечер в четверг. Она уходит в свою комнату и там плачет, а он остается один. Гарсиа напрягает слух в ожидании шагов отца Фергюсона – вслед за ней, вверх по каменным ступеням, к серебристо-белой спальне Мэри Фишер, – но в доме тихо. Он доволен: он уже начал было ревновать. Мэри Фишер вновь являет собой предмет его вожделения – он разочаровался в Джоан, которая, во-первых, воровата, а во-вторых, произвела на свет неполноценного ребенка. И тогда он сам идет в спальню Мэри Фишер.
Все происходит так, словно время, давно остановившееся, впавшее в спячку, вдруг очнулось, заскакало как бешеное и проглотило собственный хвост – и она вернулась к тому, с чего все началось. Неужели она излечилась от Боббо – наконец-то?!
А потом в спальню входит отец Фергюсон, и Гарсиа в мгновенье ока исчезает – священник есть священник.
Мэри Фишер цепенеет от ужаса.
– Пусть ободрится дух твой, – говорит отец Фергюсон, запросто присаживаясь к ней на постель. – Сравнительно с другими, сей грех невелик и простителен.
Но она не верит ему. Она все понимает. Она исповедует любовь, а предается похоти, поклоняется Богу, но повинуется дьяволу. Даже страсть к Боббо не может ее спасти. Она теперь воспринимает его как существо мифическое, вроде русалки – ниже пояса один рыбий хвост и больше ничего.
Она раздавлена. Она, в ком отец Фергюсон признал христианскую душу, застигнута в разгар непристойного барахтанья и пыхтения – точно животное, точно сучка-доберманиха, если не хуже.
Мэри Фишер видит, как Бог удаляется прочь из ее жизни: становится все меньше и меньше, тает, исчезает в бесконечности – покидает ее без прощения, оставляет ее с ее виной.
– Настало время объявить перемирие, – на удивление спокойно говорит отец Фергюсон, – перемирие между добром и злом, душой и телом, духом и плотью. Добро Должно вобрать в себя зло, как целое – часть. Грядет новый Бог, который не отринет грех, но примет его в свои объятья. Ибо спасемся не иначе, как через познание самих себя.
Так, значит, он хочет забрать у нее последнее – ее вину! Больше ведь у нее ничего не осталось. Это единственный оплот порядка в безумном хаосе ее жизни.
– Все на свете должно меняться, – говорит отец Фергюсон. – И грех в этом смысле не исключение. – Но уж больно он в этот момент смахивает на чосеровского капеллана – упитанный, охочий до всего, и очень всем довольный, как будто он всю жизнь был тут неподалеку и только ждал момента, чтобы собрать дань. Он обхватывает ее миниатюрное тело большими, сильными руками, обвертывает его в просторную коричневую сутану. Сутана у него из тонкой шелковистой шерсти, не какая-нибудь колючая дрянь. – Не должно отвергать наши негативные порывы, – говорит он. – Мы Божьи твари, и все в нас – от Бога. Восславим же плоть, как славим мы душу!
Что ж, мои уроки он усвоил неплохо. Я желаю священнику добра, Мэри Фишер – зла. Гарсиа перестает подглядывать в замочную скважину, и я больше не вижу, что происходит за закрытой дверью. Но я знаю одно: если она не прочь с Гарсиа, то будет не прочь и с ним; если он не прочь со мной, то с ней и подавно – и на здоровье, жаль только дарить Мэри Фишер хотя бы десять минут удовольствия. Больше он ей не подарит.
Не спорю, мне нравится немного подразнить Мэри Фишер, потрясти у нее перед носом крохотной звездочкой надежды – чтобы тут же ее и отдернуть. Почему бы нет, собственно говоря? Я помню, как я готовила грибной суп, в надежде угодить Боббо, увидеть его благодарную улыбку, и волованы с курятиной, надеясь заслужить его одобрение, и шоколадный мусс – все ради того, чтобы он оставил ее и вернулся ко мне. А он не вернулся. Ну и пусть теперь получает все, что заработала, и не возникает. Ничего другого ей не остается.
Тем временем я приметила, что возле церкви ходит кругами страховой агент – тот самый, который приходил в Совиный проезд после пожара: пепел разгребал. Конечно, он вряд ли признает во мне ту покорную, раздавленную горем, надышавшуюся до тошноты едким дымом огромную тетку, которая смотрела, как в огне исчезает ее дом. Теперь я стройна, энергична, проворна. И все же осторожность подсказывает – пора уносить ноги. У стервятников острый глаз.
Однако я все-таки недостаточно похудела, нужно сбросить еще шесть килограммов. Разменивая монету достоинством в жизнь отца Фергюсона, превращая аскета в эпикурейца, я вынуждена была чем-то пожертвовать. Теперь я знаю совершенно точно: женщины толстеют по вине мужчин.
Я должна уйти туда, куда мужчинам путь закрыт. В любом случае, мне здесь больше не нравится. Отец Фергюсон, разумеется, продал землю компании по недвижимости – теперь у начальства в любимчиках. Рабочие из фирмы, подрядившейся снести дом, то и дело приходят произвести необходимые замеры – так гробовщики измеряют тело, прежде чем сколачивать гроб. Я видела, как этот дом умирал, я сама навлекла на него погибель. Теперь это уже неважно. Изгнав из него духов, я отняла у него душу.
29
Руфь вступила в коммуну феминисток-сепаратисток. Женщины эти не имели с миром мужчин никаких дел. Ее приняли радушно, как свою. Она назвалась именем Милли Мейсон. Одета она была в точности как они: джинсы, футболка, грубые башмаки и спортивная куртка; документов у нее никто не спрашивал. Она была женщина, за что и пострадала, и больше им ничего не требовалось. Ее новые подруги не употребляли в пищу ни мяса, ни молочных продуктов и сексуальное удовлетворение получали, общаясь между собой. Они были свободны от желания нравиться мужчинам, хотя многие явно не могли бы не нравиться. Амазонки, как они сами себя называли, жили лагерем неподалеку от города в домиках на колесах, сгрудившихся вокруг заброшенной фермы. Они возделывали поле площадью в четыре акра и выращивали зерно, бобы и лекарственные травы – окопник и тысячелистник: собранный урожай они обрабатывали и продавали в магазины, торгующие экологически чистыми продуктами. Они растили дочерей, но не сыновей – способы, с помощью которых они избавлялись от младенцев мужского пола, посторонним могли бы показаться варварскими; сами же они считали их вполне оправданными.
Руфь была физически сильна, расторопна и начисто лишена того, что Принято называть «женские штучки». Она честно старалась вносить свою лепту и помогать общине, но в душе радовалась, что задержится здесь ненадолго. Ей бы не хотелось остаться в их мире навсегда. В нем не было ни одной живой искорки – все сплошь джинсовое, все практичное, немаркое, словно насквозь пропитанное мутными сточными водами чистилища, нигде ни отблеска дразнящего адского пламени.
Но жизнь здесь была не из легких, пища богата клетчаткой и бедна жирами, и с каждой неделей джинсы все свободнее повисали на ней, пока она не жалея сил ходила за плугом или работала лопатой и мотыгой попеременно. Взвешиваться ей было не на чем, и даже зеркало удалось найти с большим трудом.
– Какая разница, как ты выглядишь? – отмахивались от нее старожилы. – Важно, как ты себя ощущаешь, остальное ерунда.
Но она-то знала, что тут они заблуждаются. Она хотела жить на стремнине, чтоб от скорости захватывало дух, а не хоронить себя в этом стоячем болоте незыблемых идейных принципов. Но вслух она этого не высказывала. Не то живо оказалась бы без крыши над головой. Феминистки не жаловали тех, кто не разделял их убеждений: таких торжественно объявляли антиамазонками.
Когда Руфь заметила, что ее талия и бедра по объему почти сравнялись, она позвонила мистеру Рошу из телефона-автомата. В коммуне телефонов не было, ведь телефон – это элемент мужской технократии, а значит, один из инструментов порабощения. И, кроме того, зачем вообще женщинам связь с внешним миром?
– Пятнадцать килограмм? Вы сбросили пятнадцать килограмм?
– Думаю, даже больше.
Он назначил ей явиться на следующей неделе, чтобы ее смог досмотреть мистер Чингиз, который, подчеркнул он, специально для этого прилетит из Лос-Анджелеса.
– Вы очень интересная пациентка.
– Это почему же?
– Есть над чем поработать!
– Мне нужно, чтобы я выглядела так, как я хочу, а не так, как хочет он, – напомнила она.
На несколько секунд воцарилось молчание.
– Это может вылиться в большую сумму, очень большую, – произнес наконец мистер Рош.
Руфь перевела свои деньги из Швейцарии в лос-анджелесский банк; никаких трений не возникло. Потом зашла в книжный магазин и купила экземпляр романа «Жемчужный чертог любви».
– Как продается? – спросила она.
– Хуже некуда, – сказала заведующая. – Кому нужно это религиозное занудство! – И она крикнула своей помощнице: – Элис, убери с полки всю Фишер. И заруби себе на носу: на полки ставить только ходовой товар!
Руфь вырезала из суперобложки портрет Мэри Фишер, а книгу выбросила в урну. Взгляд Мэри Фишер был устремлен в небо, на фоне которого выделялся ее аккуратненький, нежный профиль, – так, словно у нее прямой канал связи с самим Господом Богом. Глядя на нее, вы видели, какая она обворожительная, счастливая и – миниатюрная. Руфь прошлась по магазинам в поисках других романов Мэри Фишер, рассчитывая найти ее фотографию в полный рост, и ей повезло – она нашла то, что искала.
Взглянув на фотографии, мистер Чингиз даже присвистнул.
– Ну и ну! Задали вы мне задачу!
– А что такое? – спросила Руфь недовольно.
– Волосы не проблема, лицо тоже сделаем – черты классические, сами видите. Рост будет посложнее, но справиться можно. Челюсть уменьшим, и линия губ сама встанет на место. У нас такой принцип: сначала внутренние работы, потом наружные, насколько это возможно, разумеется. Тело тоже поддается существенным изменениям – сумели же вы похудеть до неузнаваемости! Кстати, как вам это удалось?
– Держалась подальше от мужчин, – сказала Руфь.
– Не самый популярный рецепт среди моих пациенток! Они скорей согласятся отрезать от себя сколько и где угодно. И все же, дорогуша, с пропорциями у нас не получается. Эта дамочка ниже вас, как минимум, сантиметров на двадцать.
– Значит, вам придется укоротить мне ноги, – сказала она. – Я знаю, это делают.
Он ответил не сразу.
– Больше семи сантиметров бедренной кости никто никогда не убирал. Собственно кость убрать – дело нехитрое: отпилил, и готово. Но мышцы, сухожилия, артерии – все нужно соответственно подтянуть или укоротить. Это совсем не просто и не совсем безопасно.
– Ответственность я беру на себя, – сказала Руфь. – Вы же ставите людям новое сердце, почки, печень, что угодно; а я всего только и прошу: убрать то, что мне не нужно.
– Но не столько же!
– Современная хирургия год от года все более совершенствуется технически. Уже есть микрохирургия, криохирургия, лазеры. Вы же можете все это использовать?
– Тело есть тело, – сказал мистер Чингиз, – и после любого хирургического вмешательства на нем остаются шрамы. Бывает, что и келоидные, от которых вся кожа вокруг безобразно стягивается, сморщивается. Жуткая картина! И если такое случается, мы бессильны. Короче говоря, мы не сможем уменьшить вам бедро больше, чем на семь сантиметров. Спорить тут бессмысленно.
– Тогда уберите еще кусок голени.
– Этого никто никогда не делал.
– Значит, вы будете первый. А то, хотите, пожертвуем несколькими позвонками?
– Нет!! – В его голосе звучал, неподдельный ужас.
Она снисходительно улыбнулась. Она уже поняла, что победа за ней. И он тоже это понял. Но отважился на последний отчаянный рывок.
– Есть еще одна особенность, с которой нередко сталкивается наш брат, – сказал он. – С помощью косметической операции можно изменить тело, но не личность. И мало-помалу – это может показаться мистикой, но мы это наблюдаем в реальности – тело начинает меняться, подстраиваясь под внутреннюю сущность человека. А внутренняя сущность тех, у кого достаточно отваги и воли, чтобы решиться на косметическую операцию, может быть прекрасной и замечательной, но не красивой в общепринятом смысле. Вы же просите, чтобы вас сделали красивой – простите за прямоту, шаблонно красивой.
Он и так зашел слишком далеко. И не стал продолжать.
– Моя внутренняя сущность обладает исключительной способностью к адаптации, – заметила Руфь. – Я перепробовала всевозможные способы приспособиться к телу, данному мне природой, и к миру, в котором мне суждено было появиться на свет, – и потерпела поражение. Революционного запала во мне нет. И раз мне не дано изменить внешние обстоятельства, я изменю себя. У меня нет ни малейшего сомнения, что я удобно устроюсь в своем новом теле.
– Вам это обойдется в миллионы. Стоит ли игра свеч?
– У меня есть эти миллионы. Да, стоит.
– На это уйдут годы.
– И они у Меня есть.
– Я могу сделать так, что ваш возраст не будет заметен, но вы все равно будете его ощущать.
– Не согласна. Возраст – это то, что видно со стороны, а вовсе не то, что ты чувствуешь сам.
Он сдался. Он дал согласие взять ее к себе в клинику для, как он выразился, глобальной реновации. Ассистировать ему будет некий доктор Блэк. По мере надобности будут привлекаться и другие специалисты. Когда придет время, он с ней спишется. А пока что пусть возвращается к своей обычной жизни.
Руфь вернулась в коммуну и принялась возделывать участок земли площадью в пол-акра. Она чувствовала, как работают мышцы ее сильных ног; чувствовала, как по ее мощной спине, под мужской джинсовой рубашкой, стекает пот. Она видела жаворонка – хрупкую пичужку с переливчатым, звонким голосом, – взмывающего все выше и выше в клочке синего неба, сквозь который проникали лучи жаркого полуденного солнца. Но вот набежали низкие черные тучи, сомкнулись, закрыли просвет, и кругом сразу сделалось темно, и молния вилкой воткнулась в небо – туда, где только что звенел жаворонок.
Руфь подняла лицо навстречу крупным, тяжелым каплям, и земля под ее резиновыми сапогами мгновенно превратилась в липкую грязь, и она пошла прочь с поля, к навесу, волоча за собой тяжелый плуг.
Вскоре все женщины собрались в доме – скидывали сапоги, дождевики, было шумно и весело. Они то и дело трогали друг друга – вообще прикосновения и объятья были у них нормой поведения. Руфь почувствовала, что слабеет, что ей почти хочется стать одной из них, разделить с ними радость всеобщей приязни. Но она не могла себе этого позволить. Она была из другой стаи. И еще она знала, что едва наступит ночь, кто-то будет лить горькие слезы – в эти короткие минуты веселого оживления, избавления от трудовой грязи кто-то кого-то полюбит, а кто-то разлюбит, – и что самые красивые будут страдать меньше других, а самые некрасивые больше: здесь, как и везде.
Спустя примерно дней девять Руфь получила письмо из клиники мистера Чингиза, в котором были перечислены основные стадии предстоящих операций с указанием ориентировочной стоимости каждой. Более точный подсчет не имел особого смысла, поскольку процесс реабилитации зависит от индивидуальных особенностей пациента; к тому же, как можно было понять из письма, хирург никогда не может знать наверняка, какие сюрпризы готовит ему тело пациента, пока он в него не влезет. Сама бумага была изысканного, нежно-сиреневого цвета, а слова «Клиника Гермиона» были вытиснены золотом, и под ними шла широкая, гладкая, стерильно белая полоса. Руфи припомнилась обложка одного из романов Мэри Фишер, которая выглядела бы точно так же, если бы туда добавить этот элемент стерильности. Бумага пробуждала надежду и одновременно вселяла уверенность. В ней удивительным образом сочетались наука и романтика.
Предполагалось, что в клинике уменьшат на семь сантиметров челюсть Руфи, подправят линию бровей, поднимут линию волосяного покрова, используя пересадку кожи, сделают необходимые подтяжки и уберут кожные складки над веками. Уши будут плотнее прижаты к голове, а длина и толщина ушных раковин уменьшена.
Ей предстоит слетать самолетом к мистеру Рошу, который займется ее носом – спрямит и укоротит его, – поскольку он «лучший в мире специалист по носам». (Руфь заключила, что ее нос – это его комиссионные.)
Что касается ее тела: обвисшая кожа на руках будет подтянута, а с плеч, спины, ягодиц, бедер и живота уберут жир. Если она по-прежнему настаивает на укорачивании ног, то плечи придется несколько отвести назад, чтобы скорректировать пропорции рук и тела. Дойдя до этого места, Руфь нахмурилась.
Ей следует иметь в виду, что все перечисленные этапы займут не менее двух лет, а если ей угодно уменьшить свой рост, то все четыре. Ее телу и сознанию потребуется время, чтобы восстановить силы после столь радикальных изменений. Она должна быть готова к тому, что ее ждет некоторый дискомфорт. (Руфь прекрасно усвоила, что ощущения пациента, предшествующие операции, квалифицируются хирургами как «боль»; после операции пациент испытывает только «дискомфорт».)
Она может сама выбирать время, когда ей будет удобнее ложиться в клинику для проведения очередного этапа, но следует учитывать, что ее ожидают длительные периоды строгого постельного режима – до и после каждой операции. Более детальный график будет составлен, когда ее госпитализируют и проведут дополнительные обследования.
Отдельно прилагалась примерная поэтапная смета. Ориентировочные суммы составляли около 110 000 долларов – за лицо, 300 000 долларов – за тело и 1 000 000 долларов – за ноги. Как она, несомненно, понимает, потребуется привлекать ведущих специалистов из многих стран мира. Впрочем, не исключено, что услуги некоторых из них могли бы быть оплачены фондами содействия научным исследованиям.
«Творить историю медицины (приписал мистер Чингиз от руки в конце третьей страницы письма) – удовольствие не из дешевых. Ногами мы будем заниматься в последнюю очередь – надо дать науке хотя бы скромный шанс: пусть попробует угнаться за человеческой мечтой. А пока могу порадовать вас вот чем: недавно разработана новая техника удаления значительных участков вен с последующим «завариванием» шва при высокой температуре. Метод уже испытан на кошках и дал отличные результаты».
Руфь читала это письмо за завтраком, в одиночестве сидя за длинным, в пятнах, столом – ближе к тому концу, где горел, отражаясь в металлических ножках стульев, огонь в камине. Она рассеянно жевала «мюсли» – дежурное блюдо, которое каждое утро готовила кто-нибудь из женщин, в порядке очереди. В тот день у духовки хозяйничала рыжеволосая пигалица Сью.
– Ну как, нравится? – спросила Сью. У нее было миловидное, неулыбчивое лицо с белесыми прямыми бровками, которые сходились на переносице, словно линия, делящая на две части не только ее лицо, но и саму ее натуру.
– Объедение, – похвалила Руфь.
– То-то, – сказала Сью. – Я хочу, чтобы за эту неделю мы приучили себя обходиться не только без сахара, но и без сухофруктов. Вот ты сейчас ешь овсяные хлопья, можно сказать, в чистом виде, почти без добавок. Как видишь, все, возможно, стоит только захотеть. Постепенно мы научимся получать удовольствие от того, что нам полезно. Главное, воспитывать себя в нужном направлении.
– И то верно, – кивнула Руфь. – Зачем пить молоко, когда есть отличная колодезная вода!
– Что интересного пишут? – спросила Сью, почуяв угрозу для устоев в листочках сиреневатой бумаги, такой соблазнительной и в то же время такой изысканно стерильной.
– Да вот мать письмо прислала, – сказала Руфь. Соврала первое, что пришло в голову. И тут же вспомнила, как и в самом деле, когда-то давным-давно, с наступлением Нового года, мать садилась за письма – благодарить всех, кто прислал поздравления, – и писала она их на бледно-лиловой бумаге, пропитанной запахом сирени.
Руфь позвонила в агентство Весты Роз, и ее тут же соединили с сестрой Хопкинс. В агентстве теперь был свой коммутатор, и девушки-телефонистки, обслуживающие его, разговаривали деловито, толково и корректно.
– Дорогая! Ну, как ты там поживаешь?
– Ах, дорогая! Я так по тебе скучаю, но у меня столько дел, что, честно говоря, скучать особенно некогда.
– Чисто мужской ход мысли, – заметила Руфь. – Как наш малыш? – Она имела в виду Ольгиного больного мальчика.
– Был малыш, да вырос! А силы сколько набрал – не справиться! – счастливым голосом пожаловалась сестра Хопкинс.
– Ну-ну, сил теперь и у тебя немало, так что не прибедняйся!
– Ты права, и, знаешь, я, кажется, нашла решение проблемы. В Лукас-Хилле сейчас испытывают новый транквилизатор; через одну из наших я могу доставать препарат в нужных количествах. Для ребенка начнется новая жизнь. Я в этом уверена!
– У нас есть кто-нибудь в Гринвейзе? – Так называлась тюрьма, где отбывал срок Боббо.
– Специалистка по изотерапии и секретарша начальника тюрьмы. А что?
– Хорошо бы мне с кем-нибудь из них познакомиться.
– Я бы попробовала начать с изотерапевта, – сказала сестра Хопкинс бодро. – Ее ребенок ходит к нам в ясли. Она оставляет его очень рано – для нее сделано исключение. Способная художница, мечтает устроить выставку. Звать – Сара.
Руфь встретилась с Сарой за чашечкой кофе в тихом, малопосещаемом кафе. Ее интересовал Боббо.
– Он понемногу успокаивается, – сказала Сара, – наконец-то!
– Наконец?..
– После оглашения приговора он на время впал в довольно-таки буйное состояние. Типичная паранойя, разумеется. Всём рассказывал, что судья подкуплен. По-моему, ему самоё место в Лукас-Хилле. Грань между безумием и криминальностью так условна!








