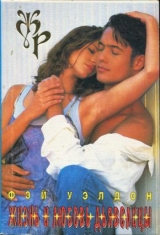
Текст книги "Жизнь и любовь дьяволицы"
Автор книги: Фэй Уэлдон
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 17 страниц)
Мистеру Чингизу было под пятьдесят, на десяток лет меньше, чем мистеру Рошу, но в своих честолюбивых замыслах он давно обогнал старшего коллегу. На заре своей самостоятельной жизни он работал механиком в гараже; в возрасте около двадцати пяти ему удалили аппендикс, и тут его осенило, что человеческое тело – та же машина, и он переметнулся в медицину, обзаведясь для начала поддельным дипломом несуществующего университета, и вскоре зарекомендовал себя настолько блестящим врачом, что на эту маленькую провинность, выволоченную на свет Божий какой-то въедливой больничной сестрой, все попросту закрыли глаза.
Несколько лет подряд он ассистировал мистеру Рошу, затем переехал в Калифорнию – как раз когда начался бум вокруг генной инженерии. И по сию пору он периодически наезжал к мистеру Рошу и брал на себя тех немногих пациентов, перед которыми растерянно пасовал, опасаясь не справиться, его наставник и которые располагали солидными средствами. Солидные средства для тех, кто привык иметь дело с мультимиллионерами, означают, будьте уверены, большие деньги. Мистер Карл Чингиз был щеголеват, с гладкой кожей и гладкими манерами, энергичный и собранный, как пружина, и одновременно изящно-стройный. Глаза у него были добрые, ласковые, а цвет лица слегка смугловатый. Двигался он как молодой, ступая легко, словно на цыпочках, – того гляди, вспорхнет. Пальцы у него были бледные, длинные, сильные и немного сплющенные на конце, словно скальпель.
Он взял большие Руфины руки в свои, провел по ним, разглаживая кожу, долго что-то разглядывал – так мать разглядывает ручку ребенка, – затем поднял на нее глаза.
– Все можно изменить, только не руки, – сказал он. – Они всегда хранят печать наследственности, печать нашего прошлого.
– Значит, буду ходить в перчатках, – сказала Руфь, теряя терпение. Сознание того, что у нее есть деньги, и немалые, сделали ее весьма смелой и резкой на язык, и она теперь чуть что давала выход своему раздражению.
– Скажите, только честно, – вкрадчиво произнес он, поскольку был убежден, что доверительные отношения с пациентом – залог успеха, – чего вы хотите на самом деле?
– Я хочу смотреть на мужчин снизу вверх, – ответила она, сменив гнев на милость, и рассмеялась своим жутковатым, каркающим смехом.
– Вот чего я хочу.
Что ж, можно подтянуть голосовые связки, прикидывал он, изменить резонанс гортани, и смех зазвучит по-другому. Он отказывался принимать что-либо как данность. Человеческое тело он воспринимал, мягко говоря, как не слишком совершенный инструмент, который нуждается в тщательной настройке и подгонке, прежде чем будет достигнуто гармоничное единство тела и духа. Взять хотя бы его самого: раньше пальцы у него на ногах были некрасивые, деформированные; теперь же, с помощью маленьких пластиковых шин пальцы выпрямились, и в бассейне они прекрасно смотрелись и, конечно, гораздо больше соответствовали его внутренней сущности. Его мать жила в нужде, и он донашивал обувь после старшего брата – результат был печальный.
Мистер Чингиз и мистер Рощ раздели, взвесили, сфотографировали и досконально изучили Руфь во всех возможных ракурсах.
– Много – не мало! – шутливо заметил мистер Чингиз, обращаясь к мистеру Рошу. – Убирать всегда проще, чем добавлять. Как думаете, не загноится она у нас?
– Да вроде как не должна, – сказал мистер Рош. – Десны зажили просто замечательно. Видите?
И они в четыре глаза уставились ей в рот – точно лошадь покупали.
– А все-таки я не отказался бы сам повозиться с ее носом, – сказал мистер Рош.
– Я оплачу вам билет на самолет, когда очередь дойдет до носа, – сказал мистер Чингиз, сама любезность.
– Разве вы не здесь будете оперировать? – Мистер Рош, по-видимому, был удивлен. – Ей нужно ехать за границу?
– Ко мне в клинику, – пояснил мистер Чингиз. – В Калифорнию.
– Что ж, я не прочь на время сменить обстановку, – сказал мистер Рош, посмотрев на дождь за окном. Затем он вновь переключил все внимание на пациентку. – Сердечный ритм сильно замедлен.
– Медленно – не быстро!
– И давление пониженное, даже странно, – добавил мистер Рош.
– Это все нам на руку, – сказал мистер Чингиз. – Плохо другое – слишком много сала.
– А не хотите просто отчикать его – заодно уж? – предложил мистер Рош.
– Чересчур большая поверхность, – сказал мистер Чингиз. – Для нее же лучше, если она скинет вес сейчас, естественным образом.
– Какой именно вес? – поинтересовался мистер Рош.
Мистер Чингиз перевел взгляд на Руфь, натягивающую за ширмой одежду. Ширма едва доходила ей до плеч. – Похудеете килограмм на пятнадцать-двадцать, – сказал он, – тогда и начнем.
От совместного житья с Вики Руфь распухала как на дрожжах. Доступные по цене продукты были богаты углеводами, а тоска – неизбежная спутница безденежья – приводила к тому, что обе женщины беспрерывно что-то жевали, да еще подъедали за детьми. Сладкий кофе с печеньем помогал скоротать бесконечное утро, сладкий чай с булочками – кое-как дотянуть до вечера.
Руфь, придя домой, к Вики, заявила ей, что больше не нуждается в комнате.
– Но я же беременна! – взвыла Вики, как будто это давало ей какие-то особые права.
– Да ты всю жизнь будешь беременна, – сказала Руфь мрачно, собирая свои немногочисленные, огромного размера, вещи. Кровать здесь была для нее коротковата, но, с другой стороны, когда и где бывало иначе? Постельное белье было выношенное, дрянное – сколько его ни стирай, все равно все в кляксах от фломастеров: дети повсюду их разбрасывали, разумеется, без колпачков.
– Что теперь со мной будет? – стенала Вики, а Марта и Пол цеплялись за столбы Руфиных ног, но она без особого труда стряхнула их. Энди и Никола впивались в нее куда как больнее. Они до сих пор еще иногда снились ей, ее дети, – тянули к ней свои ручонки, – но стоило ей открыть глаза, и она мгновенно понимала, что за это время «ручонки» у детей успели вырасти и обнять обоих сразу будет трудновато.
– На твоем месте, – сказала Руфь, – я продала бы свое нерожденное дитя – прямо сейчас, не откладывая, – за большие деньги каким-нибудь приемным родителям. Пола и Марту, конечно, тоже неплохо бы продать. На свете достаточно состоятельных людей, которые мечтают взять на воспитание симпатичных, здоровых, белых малышей. В этом случае твои дети получат гораздо лучшие стартовые возможности, дольше проживут, приобретут более интересных друзей, более привлекательных сексуальных партнеров, и вообще будут жить более содержательной и наполненной жизнью, чем если, по твоей милости, застрянут здесь и станут барахтаться вместе с тобой на самом дне. Продай их!
– Но я их люблю! – вскричала Вики, потрясенная до глубины души.
– Так ведь и приемные родители будут их любить. В ком не проснется родительский инстинкт при виде эдакой крохи с распахнутыми глазами.
Что дети! Любой детеныш вообще! Стоит какому-нибудь малютке-крокодильчику захныкать, все племя людоедов кинется ему на помощь. Ты только подумай, Вики, какой праздник ты можешь себе устроить на вырученный барыш!
– Но они будут тосковать без меня. А «неразрывная связь» как же?
В клинике без конца твердили о неразрывной связи «мать-ребенок» и делали все возможное, чтобы связь эта крепла день ото дня. Социальным фондам все же легче было справляться, когда матери сами занимались своим потомством, а не перекладывали все бремя на государство.
– А все их болячки как же? – вопросом на вопрос ответила Руфь. – А простуды, а сопли?
Вики, обидевшись на «сопли», сказала, что, коли Руфь решила уходить, пусть уходит немедля, и что, может, оно и к лучшему: Руфь всю дорогу ела больше, чем ей полагалось, а по дому работала меньше, просто она, Вики, из благородства до сих пор помалкивала.
– И где же твоя хваленая женская солидарность? – возмущалась Вики. – Не ты ли мне внушала, что женщины должны держаться вместе? А сама!..
Руфь пожала плечами. Вики пошла за ней до дверей.
– Ты мне противна, – говорила она. – Ты испорченная, бессердечная, противная! Слава Богу, хоть я не такая! Ты думаешь, все счастье в деньгах? Как бы не так! Да разве я смогла бы променять родных детей, смысл всей моей жизни, на какие-то жалкие деньги?
Вики семенила за Руфью до самых ворот.
– Допустим, я была бы не я, допустим, я пошла бы на такое кощунство, – говорила Вики, – и кроме шуток захотела бы продать детей – как, по-твоему, я бы это провернула?
Руфь, успевшая изучить все ходы и выходы в городе, а также ловкость и находчивость огромного числа людей, живущих по ту сторону закона, в двух словах все ей объяснила. После чего она направилась к дому отца Фергюсона. Она знала, что преподобный крайне воздержан в своих привычках, а ей, если она хотела похудеть, необходимо было поселиться в доме, где еды мало и достаток скуден.
26
У Мэри Фишер совсем мало денег на счете в банке, а из недвижимости осталась лишь Высокая Башня. Другие дома пришлось продать, чтобы покрыть судебные издержки. Налоговые службы, имея на Боббо большой зуб, заодно невзлюбили и Мэри Фишер и решили, что, если подумать, она задолжала им уйму денег – недоплачивала налоги несколько лет подряд. Судья Биссоп собственной персоной поддерживает их притязания и отклоняет апелляцию повергнутой в изумление Мэри Фишер. Таким образом, ей предстоят новые расходы. Ее гонорары арестованы на несколько лет вперед. Роман «Чертог желания» почти закончен. Она возлагает на него большие надежды. Ей надо хоть на что-то надеяться. Человеку без надежды нельзя.
Мэри Фишер просыпается одна в своей постели, рыдает, мечется на шелковых простынях. Ей нужен Боббо, только Боббо, больше никто – да, собственно, больше и нет никого. Гарсиа любит Джоан, свою деревенскую подружку, и заваливает ее где только может, во всех укромных уголках дома. Мэри Фишер негодует.
– Я буду делать, что мне нравится, – парирует Гарсиа. – И кто бы говорил! Было время, вы и сами не терялись – вам даже трубку телефона снять было недосуг, и чихать вы хотели, застанет вас кто или нет!
Мэри Фишер боится Гарсиа – он слишком много знает, еще вздумает распустить язык, хотя кому и о чем он мажет рассказать, она уже и сама с трудом припоминает. Но сердить его нельзя, это она помнит твердо.
Она все больше скатывается вниз: муки неутоленной страсти как-то сами собой притупились, а может, она просто привыкла. Она уплетает равиоли прямо из консервной банки, и целыми кульками – восточные сладости, и заметно расползается в талии. Она пытается вспомнить лицо Боббо и не может, как и он не помнит ее лица. Она, однако, помнит любовь и продолжает о ней писать. Она заканчивает «Чертог желания». Издатели довольны. Неужели она снова разбогатеет? Посмотрим!
Мэри Фишер не находит себе места, томится и ждет, когда наконец заполнится зияющая пустота внутри, – и пишет о любви. Теперь ее вранье особенно непростительно, поскольку она врет сознательно. Теперь она помнит, откуда она вышла, и знает, к чему она пришла.
Мэри Фишер совершила страшный грех, уединилась в высокой башне на краю высокого морского утеса и зажгла во тьме свет надежды. То был предательский свет: он обещал вам тихую гавань, и веру, и жизнь, тогда как на самом деле там подстерегали вас острые скалы, кромешный мрак и бури – даже смерть; и не завлекать надо было бы сюда мореплавателей, но предупреждать их о грозящей опасности. Так что я ищу возмездия не только ради себя.
Думаю, сама я, в конце концов, многое могу простить Мэри Фишер. У нее есть оправдание: все, что она делала, она делала во имя любви, пока я не помогла ей понять, что такое любовь – каково быть брошенной мужем, похороненной заживо, осужденной на унижение и тоску. Честно говоря, не поручусь, что я поступила бы иначе, окажись я волею судьбы в ее обольстительной шкуре. Но я отказываюсь простить ей ее книги. Прихоть, конечно, но дьяволицам позволено иметь свои капризы.
Звонит Гарсиа – спросить меня, усыплять ли ему Гарнеса. От Мэри Фишер он не может добиться вразумительного ответа: она, как и пес, неутешна в своем горе – из-за разлуки с Боббо. Гарнес, объясняет Гарсиа, стал беспокойным, гадит где попало, на улице норовит выскочить на проезжую часть, а недавно еще повадился таскать куски прямо из тарелки Мэри Фишер. Ветеринар и тот говорит, что лучший выход для этой собаки – уснуть вечным сном. Что по этому поводу думаю я?
– Я думаю, вам нужно последовать совету ветеринара, – говорю я. Я не могу допустить, чтобы Гарнес объедал Мэри Фишер. Чем она толще, тем я тоньше. Все познается в сравнении.
Гарнеса увозят к ветеринару, и назад он не возвращается.
– Ты веришь в Бога? – допытывается Мэри Фишер у Гарсиа.
– Конечно, верю! – отвечает он.
– Раньше я тоже верила, – говорит она. – Ах, если б я снова могла обрести веру! Мне это так помогало!
27
Отец Фергюсон жил в доме по соседству с церковью в центральной части города, где новые многоэтажки еще не успели вытеснить низкие каменные дома, когда-то определявшие облик города. Он давно пытался найти себе экономку, но безуспешно: дом был большой; холодный и ветхий и, согласно молве, с привидениями; зимой там не было отопления, летом кондиционеров. Отец Фергюсон избегал чрезмерных удобств – на душе у него было спокойнее, когда он чуть-чуть недоедал, терпел зной и холод или когда у него, скажем, болел зуб. Всем в городе примелькалась его тощая фигура, седая голова, изможденный вид; вот он рысцой бежит из церкви в миссию, что в Брэдвелл-парке, или наоборот, и так изо дня в день, утром и вечером. Пять миль в один конец.
– Ишь, как бежит! – говорили, завидев его, прихожане. – Просто диву даешься! Конечно, для священника у него довольно-таки странные представления, но священник-то он настоящий! Святой человек!
Ему было тридцать пять лет. Голова у него поседела в двадцать девять, когда он был вынужден принимать роды у матери-наркоманки в какой-то трущобе. Ребенок родился мертвым, к вящей радости роженицы. В тот миг им овладело такое чувство, будто миром правит дьявол.
Теперь он трудился в самой гуще людской. Церковные власти смотрели на него косо – мало того, что он вечно совал свой нос в политику, он вообще был непредсказуем. Например, позволял себе публично заявлять, что людям нужно прежде дать хлеб насущный, а уж потом кормить их духовной пищей. Во всех людских грехах он винил государство – чем не проповедь революции? (При этом в частной жизни он придерживался квиетизма, граничащего с идиотизмом.) Он боролся за то, чтобы вино для причащения было безалкогольным. Он подписывал воззвания против применения ядерного оружия. Паства тоже его недолюбливала, хотя все считали своим долгом восхищаться его подвижничеством: он призывал холостяков отказаться от половой жизни, а семейных – воздерживаться, если появление детей для них нежелательно. Понятно, прихожане решили, что он просто спятил: в наше-то время, когда на каждый социальный недуг есть свой антибиотик, когда существует контрацепция – на худой конец аборты, – чтобы предотвратить незапланированное деторождение, о чем это он толкует? Службы соцобеспечения считали его деятельность вредной, а его самого безнадежно устаревшим. Но с таким же успехом можно обвинить луну в том, что она светит ночью!
Церковь отца Фергюсона в буквальном смысле разваливалась на части, и никто не хотел поддержать ее. Не только в его доме, но и в церкви, по слухам, обитали призраки. И если ближе к ночи кому-то случалось открыть церковную дверь, то можно было услышать, почувствовать и увидеть тихую музыку, запах ладана, сполохи яркого света. Снаружи шумел большой современный город, движение на дорогах не прекращалось ни днем, ни ночью. Здесь же, в старой церкви, еще витала память о том давно ушедшем уютном, маленьком мире, который дал жизнь нынешнему, оставил ему в наследство свою поэзию и свои проверенные временем традиции, чтобы эту поэзию развивать и дальше. При одном упоминании призраков люди вздрагивали и поеживались, не понимая, что то духи рая, не ада. Болтали еще, будто в доме при церкви бродят тени монахов, хотя никакие монахи в этом доме отродясь не жили.
Сам отец Фергюсон ни призрачной службы у себя в церкви, ни призрачных монахов в доме ни разу не видел и яростно обличал тех, кто распускал эти бредни.
– Я верую в Господа нашего, – говорил он, – в призраков – нет. Кто верит в призраков, тот наносит оскорбление Творцу.
Одна компания, скупающая землю под застройку, пожелала приобрести участок, на котором размещались церковь и дом священника, с тем, чтобы застроить его стандартными высотными зданиями под офисы. Церковное начальство отца Фергюсона, испытывая финансовые затруднения, охотно пошло бы на эту сделку, но отец Фергюсон стоял насмерть. Местные газеты цитировали его высказывания, в которых он критиковал церковные власти за преступное забвение своего святого долга, за то, что самое сердце города они готовы кинуть на поругание дьяволу и феминисткам (компанию, претендовавшую на церковную землю, возглавляла женщина) и что сирых и страждущих они оставляют на произвол судьбы. Отец Фергюсон, по-видимому, отождествлял дьявола с капитализмом, что было, конечно, весьма прискорбно. Скандал разрастался и попал на страницы общенациональных газет, и тут отец Фергюсон всколыхнул прессу сенсационным заявлением: он предлагал разрешить священникам вступать в брак и настаивал, что каждый сам должен решать, принимать ему обет безбрачия или нет, – дескать, невозможно воспитывать род человеческий, неустанно плодящийся и размножающийся, если сам ты полумужчина. Это были его собственные слова.
– Отец Фергюсон, – сказали ему начальники, – мы не ослышались? Вы проповедуете брак без секса для паствы и брак с сексом для пастыря? Вы непоследовательны, вам не кажется?
– Не более, чем сам Иисус, – отвечал отец Фергюсон, ничуть не смущаясь. – Сегодня он проклинает несчастную смоковницу, а завтра смиренно подставляет щеку.
Отец Фергюсон каждую неделю печатал в газете объявление, что ему в дом требуется экономка. И она действительно была ему нужна. Он совершенно не справлялся с одеждой. Не жалея сил, он стирал свои рубашки, а они все равно выглядели несвежими. Он чуть не до дыр тер воротнички, но грязный след оставался; он не понимал, в чем дело. Каждый раз, когда он открывал дверцы огромного скрипучего гардероба, доставшегося ему от матери (свадебный подарок ее бабки), и вынимал оттуда брюки, он обнаруживал на них пятна, которых – он мог поклясться! – еще накануне не было. Может, он убирал их при тусклом свете, а доставал при ярком? Впрочем, с освещением в доме теперь всегда было неважно. Когда-то здесь кругом простирались поля, росли цветы и деревья, и через окна света проникало больше чем достаточно. Ныне дом со всех сторон обступили гаражи и многоэтажки, забирая весь Божий свет себе и оставляя на долю других лишь полумрак и выхлопные газы.
Иногда ему начинало казаться, что он живет в аду. Продукты в холодильнике у него постоянно портились. Он не мог понять, в чем дело. Ведь всем известно, что в холоде продукты хорошо сохраняются. Стены морозильной камеры изнутри были сплошь усеяны какими-то черными пятнами. Может, он оставлял продукты слишком надолго, забывая, что время все-таки не стоит на месте? Он плохо разбирался в еде и вообще мало ею интересовался, но все же ему было бы приятно без хлопот съесть на ужин кусочек сыра или яичко.
Когда Молли Уишент пришла наниматься к нему в экономки, отец Фергюсон сразу подумал, что его трудностям пришел конец. Перед ним была женщина особенная, на других непохожая. Уж ее-то прихожане наверняка не заподозрят в способности вызывать у мужчин эротическое влечение. Сильная, с хорошей речью, умная; явно не в ссоре с законом; а причина, по которой она согласилась наняться к нему на работу, – желание с пользой употребить время, пока она, согласно предписанию врача, сбрасывает вес, – показалась ему не совсем обычной, но достаточно правдоподобной. Такая не станет закатывать истерики, вопя, что в доме водятся привидения. Ей не придет в голову утомлять его пустой трескотней во время завтрака, и она не нацепляет на себя золотой крестик, надругаясь над смертью Спасителя, как это делают многие в наши дни. На лице у нее родинки, из которых торчат волосы, и, значит, ее нельзя упрекнуть в самовлюбленности – она не будет утром и вечером часами торчать в ванной, создавая для него неудобства. Не станет жульничать, предъявляя счет за продукты. Он подумал, что такая малость, как избавление от лишнего веса, вряд ли что-то изменит в судьбе этой несчастной – увы, красоты ей это не прибавит; но, разумеется, это не его дело и было бы глупо высказывать свои мысли вслух.
– Мы с вами никогда раньше не встречались? – спросил он.
– Я жила у Вики, помогала ей по дому. Это, если помните, беременная молодая женщина, уже мать двоих детей, без мужа, живет в Брэдвелл-парке.
– Что-то не припоминаю, – сказал он. – Их столько – таких!
– И будет еще больше, – сказала Молли Уишент, – если вы и впредь собираетесь наставлять их в том же духе.
– Все мы чада Господни, – пробормотал он, немало изумившись.
Он выразил надежду, что она не очень боится холода и не станет без крайней надобности включать электронагреватели. Она заверила его, что будет согреваться работой. Разговор происходил в ее первый день на новой службе. Спальню ей отвели в одной из комнат, под крышей, и всякий раз, когда внизу по улице проезжал грузовик, с потолка сыпалась штукатурка. Кровать была железная с провисшей сеткой и очень древним волосяным матрасом.
Спустя неделю Молли посоветовала отцу Фергюсону купить новые рубашки. Отец Фергюсон заметил, что им всего десять лет, а когда она сказала, что для рубашек это весьма солидный возраст, он возразил – у его отца рубашки держались двадцать лет; тогда ей пришлось сдаться. Она отрезала подшивку внизу и поставила заплаты под мышками. Воротнички у священника были съемные; по наследству от дяди ему достался еще десяток запасных.
– Господь не забывает рабов своих, – заметил отец Фергюсон.
Вскоре ей потребовались мыло и горячая вода – мол, без этого трудно справится со стиркой; а он вспомнил годы учебы в семинарии, в Италии, – там все стирали в студеной речной воде и безо всякого мыла. Молли высказала предположение, что, скорее всего, вода там была мягче, тогда как у них в городе вода жесткая; но она все же согласилась подобрать какой-нибудь стиральный порошок (благо они недавно появились), который одинаково отстирывает как в горячей, так и в холодной воде.
Она внимательно изучила пятна на его брюках и затем обследовала гардероб. На верхней крышке она обнаружила какой-то грибок, который время от времени выделял капельки липкой жидкости. Грибок сей же час был решительно искоренен.
Она ввернула стосвечовые лампочки взамен сорокасвечовых, которые всегда казались ему единственно возможными, и сразу стало понятно, откуда взялись пресловутые тени монахов: длинные занавески в холле, подхваченные сквозняком (когда в столовой зажигали камин, холодный воздух с чердака устремлялся вниз), приходили в движение, развевались – и наверху, в полумраке галереи появлялись загадочные тени. Отец Фергюсон беспокоился, как бы эти более мощные лампы не ввели его в расход, однако она заверила его, что разница в цене пустяковая.
Он ей поверил. Она вообще располагала к доверию. К концу первого месяца работы у него в доме она похудела на шесть килограммов. По-видимому, она слов на ветер не бросала. Она была одинока, и он ее жалел.
Убирать в церкви она наотрез отказалась. Безбожнице вряд ли пристало этим заниматься, сказала она со смехом. Она призналась, что не верит в Бога, а вот в дьявола – верит. Ей недавно представился случай с ним познакомиться, притом довольно близко, ближе, чем хотелось бы. Он рассудил про себя, что лучше иметь дело с кем-то, кто открыто признает дьявола, чем с толпами так называемых верующих, которые способны воспринимать Бога лишь на уровне примитивного антропоморфизма. То есть с теми, кто трактует Его вульгарно.
Он рассказал ей, что про его церковь распускают слухи, будто там водятся привидения, и она сразу сообразила, что слух пущен, несомненно, компанией, претендующей на церковную землю.
По прошествии примерно шести недель он пришел к выводу, что ей просто цены нет – в сравнении с другими женщинами она чистый бриллиант. При ее росте и габаритах двигалась она на удивление бесшумно. У него появилась робкая надежда, что, может, она останется у него насовсем. Он принялся соблазнять ее разными вкусными вещами – поначалу это были брусочки сыра, яблоки, но потом он стал захаживать в магазин на углу и приносить ей оттуда ватрушки с вареньем и слоеные пирожки с яблоками. Дороговато, спору нет, но чем быстрее она сбросит вес, тем скорее покинет его.
Ему открылось, что, пожалуй, можно получать от жизни удовольствие, не впадая в беспутство. Он согласился принять бутылку хереса – подношение одной из его прихожанок, которая, как выяснилось впоследствии, отдала троих детей (включая одного еще не родившегося) на усыновление. Все попали в семьи к добропорядочным христианам, проживающим, правда, в Ливане. Он пригласил Молли спуститься вниз с ее чердака и помочь ему справиться с угощением. Огонь в его запавших глазах полыхал в тот день не так яростно, а в ее глазах мелькал красноватый отсвет. Снаружи громыхали громадины-трейлеры, в доме звенели чашки и качались люстры, как при землетрясении. В этом доме никогда не бывало абсолютно темно и тихо – даром что его населяли призраки из непроглядной глуби веков.
– Как зовут вашу прихожанку? – спросила Молли.
– Вики, если не ошибаюсь, – ответил отец Фергюсон, и Молли подняла бокал.
– Сколько она за них получила? – спросила она.
– Даже в Брэдвелл-парке, – ответствовал отец Фергюсон, – женщины не торгуют своими детьми!
– И напрасно, – сказала Молли.
Вдвоем они уговорили всю бутылку.
– Иисус обратил воду в вино, – напомнила Молли. – Значит, не видел в нем большого зла.
– Верно подмечено, – сказал отец Фергюсон и открыл вторую бутылку, которая так кстати оказалась у Молли с собой. Сама она пить больше не стала, сославшись на диету, и ему пришлось управляться в одиночку.
– Раз открыли – надо пить, – сказала Молли, – а то выдохнется.
Отец Фергюсон на днях получил от епископа послание, в котором ему предлагалось, во-первых, не вступать ни в какой контакт с прессой без предварительной консультации с начальством, а во-вторых, серьезно задуматься, не обуяла ли его греховная гордыня.
– Разве можно, оставаясь смиренным, улучшить сей мир? – недоумевал он.
– Нельзя, конечно, – согласилась она, тем самым словно разрешая ему грешить дальше. – И потом, что значит гордыня? Слово, не больше, звук пустой. Да я совершенно уверена: у вас просто есть чувство собственного достоинства, а вот кто одержим гордыней, так это ваш епископ.
– А разве можно, соблюдая обет безбрачия, познать самого себя?
– Нельзя! – подтвердила она, тем самым как бы оправдывая фривольный ход его мыслей.
Он испытующе посмотрел на нее. Два ряда дешевых, временных зубов зазывно сверкнули в полумраке.
– Согласитесь выйти за меня замуж? – спросил он.
Она ошарашенно смотрела на него.
– Я имею в виду гражданский брак. И пускай попробуют отлучить меня, если посмеют!
Тут он краем глаза уловил – вернее, ему так показалось – какое-то беспокойное движение наверху, в галерее: будто фигуры в капюшонах бродили там взад и вперед. Он не сомневался, что это не более чем игра воображения, а может, следствие винных паров – он ведь не имел привычки к алкоголю.
– Вы ничего не заметили там, наверху? – спросил он.
– Ровным счетом ничего. – (Но она-таки заметила.) – Привидения мерещатся тем, кто чувствует за собой вину, – добавила она, и он подумал, что, наверное, она права.
Она сказала, что не выйдет за него – не может: она уже замужем, а по ее глубокому убеждению, в брак нужно вступать один раз на всю жизнь, до самой смерти. Что же касается всего остального – есть ведь и другие способы устроить совместное житье-бытье и помочь ему лучше познать самого себя и более успешно справляться с обязанностями приходского священника, – тут, как говорится, поживем – увидим.
Отец Фергюсон никак не ожидал, что его предложение может встретить отпор. Получалось, что священнослужителю мало отстоять право вступать в брак, чтобы в плотском союзе познавать противоположный пол, – получалось, что надо еще суметь вступить в брак, найти ту, которая согласится разделить с ним ложе. Он начинал понимать всю сложность земного бытия.
– Видите ли, в чем дело, – сказал он, – чтобы я как мужчина подарил свое целомудрие вам как женщине, нужны иные основания, чем, скажем, минутный порыв, – о зове плоти тут и говорить не приходится. Наш союз виделся мне как воплощение чистой идеи: союз людей, столь несхожих физически, нельзя трактовать иначе как единение душ – моей и вашей. Я предлагаю вам частицу моей бессмертной души – это высшая жертва.
– Какой вы настойчивый! – сказала она, давая понять, что готова уступить его настойчивости. При этих словах теснившиеся наверху призраки пришли в ужасное смятение, но она устремила в их сторону бесстрашный взгляд, и они испарились, слились с пустотой, а он, взяв ее за руку, повел в свою комнату.
Лежа подле нее, он ощутил себя согретым и укрытым от всех невзгод. Ему показалось, что никакая часть его естества не перешла в нее – вопреки его представлениям о сексуальном контакте, – напротив, что-то от нее передалось ему.
Они позавтракали яичницей с беконом, гренками с джемом и кофе. И он не попрекнул ее за расточительность. Будь его воля, он бы сейчас устроил небольшую пробежку в Брэдвелл-парке, да только потом разговоров не оберешься.
– Ты послана мне либо во благо, либо на погибель, – сказал он Молли. Когда же она набрала полтора килограмма, махнув рукой на всякую диету, он повторял только одно: – Ты мне во благо.
Он замечал, что сильно переменился: когда вскоре ему случилось исповедовать женщину, которая пользовалась противозачаточными средствами и от которой ушел муж, он, вопреки обыкновению, не стал ставить знак равенства между ее прегрешением и последующим развитием событий.
Прежде в подобной ситуации он бы сказал: «Дитя мое, ты приняла кару на земле, отпускаю тебе грех твой». Теперь же он произнес решительно: «Дитя мое, я убежден, что Отец наш небесный похвалил бы тебя за твое благоразумие. Ибо у тебя достало ума вовремя понять, что муж твой скоро покинет тебя, и ты не убоялась взять на себя грех и тем избавила государство от лишнего рта. Ступай с миром!» А другой, матери пятерых детей, из которых двое были слабоумные, и чей муж, известный пьяница и дебошир, продолжал настаивать на своих супружеских правах, он – не больше, не меньше – посоветовал обратиться в клинику по планированию семьи, напрочь забыв о своем любимом выражении: «отдельные оправданные исключения перерастают в дурное правило» – принцип, равно применимый как в сфере духовной, так и в мирских делах.








