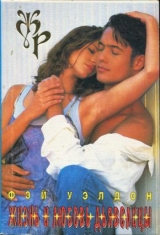
Текст книги "Жизнь и любовь дьяволицы"
Автор книги: Фэй Уэлдон
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 17 страниц)
Она пошла домой и всю ночь об этом думала, лежа без сна. Боббо, конечно же, домой не явился, и с утра пораньше Руфь накричала на детей, а потом казнилась, что вымещает на них свои неурядицы, и кое-как взяла себя в руки и, оставшись одна в пустом, притихшем доме, заглотила подряд четыре сдобные булочки, густо намазывая их абрикосовым джемом.
Боббо пришел домой в полном изнеможении, от еды отказался и прямым ходом направился в кровать и спал, как убитый, до следующего утра, и в семь часов, проснувшись, заявил: «Теперь я знаю, что такое любовь», после этого встал с кровати и оделся, непрерывно глядя на себя в зеркало, словно увидел там Бог знает какую невидаль. Он не приехал ночевать и на следующую ночь и с тех пор не ночевал дома раза два-три каждую неделю.
Иногда он говорил, что будет допоздна работать и заночует в городе; но иногда, под влиянием усталости или перевозбуждения, он признавался ей, что был у Мэри Фишер, и без умолку рассказывал, какие люди собираются у нее в доме – разные знаменитости и богачи, о которых даже Руфь что-то слышала краем уха; что подавали на ужин; какие остроумные, милые и солененькие шуточки она отпускала; какое на ней было платье и как все было потом, когда он мог наконец это платье с нее снять.
– Руфь, – проникновенно говорил он, – ты мой единственный друг; ты должна радоваться, если мне хорошо, если судьба мне улыбнулась. Жизнь так коротка! Потерпи. Не заставляй меня отказываться от этой любви. Я тебя не брошу, не бойся – на этот счет можешь быть совершенно спокойна. Ты ни в чем не виновата, тебя не за что бросать. Наконец, ты мать моих детей. Наберись терпения – это пройдет. Прости, если я делаю тебе больно. Но позволь мне, по крайней мере, рассказывать тебе все без утайки.
И Руфь улыбалась, и слушала, и ждала, ждала, но это не проходило. Она пыталась понять, в те дни, когда ей не было совсем тошно, как могут некоторые женщины абсолютно не думать о других женщинах – женах.
– Мне кажется, – сказала как-то она, – тебе следовало бы хоть раз взять меня с собой на ужин в Высокую Башню. Неужели ни у кого не возникает вопроса, почему ты всегда один, без жены?
– Да это совершенно не твоя компания, – ответил Боббо. – Писатели, художники и прочие в этом роде. А что до жен, так сейчас ни один уважающий себя человек вообще не женится, если хочешь знать.
Но, по-видимому, он все-таки передал Мэри Фишер ее слова, потому что вскоре Руфь получила приглашение на ужин в Высокую Башню. Кроме них, гостей было всего двое – местный адвокат и его жена, оба уже в возрасте. Мэри Фишер сказала, что остальные в последний момент не смогли приехать, но Руфь ей не поверила.
Боббо всеми силами пытался удержать Мэри Фишер и не дать ей пригласить Руфь, но потерпел поражение.
– Раз она часть твоей жизни, милый, – сказала Мэри Фишер, – пусть станет частью и моей жизни тоже. Я намерена принять ее как подобает – в конце концов, она же не просто случайная попутчица, которую ты высадил на углу среди ночи. Ни одна из моих героинь не потерпела бы такого обращения! Знаешь, что мы сделаем? Устроим по такому поводу строгий, респектабельный ужин, веселиться будем в другой раз.
Время от времени Боббо спрашивал Мэри Фишер, за что она его любит. За то, отвечала Мэри Фишер, что он одновременно и ее возлюбленный, и отец семейства, и что запретное и дозволенное, все сплелось в один клубок, а вообще любовь – великая тайна, и Амур пускает свои стрелы наугад, да и к чему докапываться, разве нельзя просто принимать?
И Боббо принимал. Руфь получила приглашение и прибыла на ужин. Она спотыкалась и краснела. А когда они сидели за столом, свет падал так, что волоски над ее верхней губой и на подбородке особенно бросались в глаза. Она залила вином скатерть и что ни говорила – все невпопад и не к месту, повергая всех в полнейшее недоумение и сбивая с толку.
– Вам не кажется, – говорила она, обращаясь к адвокату, – что чем больше у нас полицейских, тем больше преступлений?
– Вы хотите сказать, – терпеливо поправлял ее адвокат, – что чем больше полицейских, тем меньше преступлений. Да, именно так.
– Совсем не так! – в волнении протестовала Руфь, не замечая, что у нее по подбородку течет шпинат. И Боббо пришлось двинуть ее под столом ногой, чтобы она замолчала.
Временами Боббо казалось, что Руфь вообще малость того. Не только внешне она не была похожа на всех нормальных людей, она и вела себя не как все – никогда нельзя знать, что она выкинет.
Боббо очень боялся, что после того ужина, когда Мэри приняла Руфь «как подобает», она могла несколько охладеть к нему самому. Хуже нет, когда тебя невольно ассоциируют с людьми несчастными или невезучими. Любовь, успех, жизненная энергия, здоровье, счастье всегда шагают рука об руку, образуя некий замкнутый круг, самодостаточную и самовоспроизводящуюся систему, сбалансированную, однако весьма не надежную. Задень одну спицу в колесе, и весь механизм начнет давать сбой, а то и вовсе заглохнет. Улыбка судьбы с такой легкостью превращается в злую гримасу! Вот сейчас он любит Мэри Фишер, так любит Мэри Фишер, ах как любит Мэри Фишер, и родители пришли к ним в гости, и его жена пустила слезу, и устроила истерику, и вывалила весь ужин на пол, и он не испытывает к ней добрых чувств. Руфь встала у него на пути, когда до счастья рукой подать, – встала во весь свой рост! Ну, скажите на милость, где и когда, за всю историю человечества, перед бедным мужем вставала бы преграда таких немыслимых размеров?
Однажды Боббо спросил Мэри Фишер:
– Мэри, ты не чувствуешь угрызений совести?
Все-таки у тебя роман с женатым мужчиной. И Мэри ответила:
– А ты вполне уверен, что у нас с тобой роман? – И его сердце гулко забилось в груди от страха, и он затаил дыхание, пока она не сказала:
– Я-то считала, что наши отношения гораздо глубже и серьезнее. Я чувствую, что это так! Я чувствую, что это на всю жизнь. – И он от счастья потерял дар речи, а она продолжала: – О каких угрызениях совести ты говоришь? Нет. Над любовью никто не властен. Так уж вышло, что мы полюбили друг друга – и тут ничьей вины нет. Ни твоей, ни моей. А кто от жизни ничего не ждет, как Руфь, тот, боюсь, ничего и не получит. И если Руфи на роду написано жить без радости, то почему мы тоже должны страдать? Ты сделал для нее все, что мог, даже женился из жалости, и за это я люблю тебя еще сильнее, но теперь, любимый, пора сделать что-то и для меня. Оставайся жить со мной. Здесь, сейчас, насовсем!
– А дети?
– Для Руфи они бесценное сокровище, ее отрада. Счастливица! Вот у меня детей нет. У меня никого нет – только ты.
Она говорила именно то, что он хотел услышать. И он слушал, как завороженный. А теперь он сидел за скучным семейным столом вместе со своей матерью, с отцом, со всем своим прошлым, и думал о Мэри Фишер и о том, как он ей необходим, и мечтал о будущем – и тут наконец появилась Руфь с супницей в руках.
Руфь опустила глаза на открытую супницу, и бодренькая улыбка медленно сползла с ее лица. Свекор со свекровью смотрели на нее с выражением ласковой доброжелательности, предвкушая долгожданное угощение. А Руфь не могла оторвать взгляд от трех ворсинок, трех собачьих волосков на густой сероватой пене, которая всегда бывает в наваристом грибном супе, щедро сдобренном сметаной.
Собаку звали Гарнес. Боббо подарил ее Энди на день рождения, когда тому исполнилось восемь лет. Ухаживала за псом Руфь. Гарнес Руфь не любил. Он воспринимал ее как великаншу, скандальное отклонение от естественного порядка вещей. Он соглашался принимать от нее пищу, но при этом спать он устраивался непременно там, откуда она его постоянно гоняла. Он то и дело норовил залезть под какой-нибудь шкаф и хватал ее за руки, когда она шарила по полу, пытаясь выволочь его оттуда. Он грыз обивку кресел и диванов и подымал истошный лай, если его запирали там, где он не желал находиться. Он повсюду оставлял свою шерсть, воровал еду и жрал масло (если мог до него добраться) огромными кусками – и тогда его начинало рвать. Боббо, если в воскресенье он оказывался дома, любил прогуляться с Гарнесом по парку, и Энди всегда увязывался за ним, и в эти часы отец с сыном чувствовали себя счастливыми, нормальными и довольными жизнью. Руфь оставалась дома и с остервенением счищала со всевозможных поверхностей следы собачьей и кошачьей шерсти, орудуя специальной щеткой-пылесосом на батарейках. Нет, не любила она Гарнеса.
– Не надо ждать, пока суп совсем остынет, Руфь, – сказал Боббо таким тоном, будто она всю жизнь подавала ему остывший суп.
– Там шерсть! – только и смогла вымолвить Руфь.
– Собачка домашняя, чистенькая, – сказала Бренда. – Нас это нисколько не смущает, правда, Энгус?
– Само собой, – сказал Энгус, которого это еще как смущало. В детстве Боббо без конца приставал, что хочет собаку, но Энгус сумел этому воспротивиться.
– Неужели ты даже этого не можешь – приготовить суп так, чтобы не выкупать в нем собаку? – Зря он это сказал, он сам понял, что зря, едва закрыл рот. Он, правда, старался следить за собой и не говорить Руфи «неужели ты даже этого не можешь», но эти слова почему-то сами срывались у него с языка всякий раз, когда он был ею недоволен, то есть в последнее время все чаще и чаще.
У Руфи на глаза навернулись слезы. Она схватила со стола супницу.
– Я процежу! – сказала она.
– Прекрасная мысль! – одобрила Бренда. – Процедить, и все дела!
– Поставь суп на место! – заорал Боббо. – Не сходи с ума, Руфь! Из-за чего весь сыр-бор? Подумаешь, три собачьи шерстинки. Вылови их, и все!
– А вдруг они не от собаки, а от морской свинки? Эта тварь бегала по буфету. – Морскую свинку она не любила больше всех их домашних животных, которых завели ради детей. У зверька были противные, глубоко посаженные глазки и толстый загривок. Она усматривала в свинке сходство с самой собой.
– Ты просто устала, – сказал Боббо. – Переутомилась, иначе ты бы не говорила такой чепухи. Сядь на место!
– Не трогай ее, сынок, – сказала Бренда. – Хочет процедить – пусть процедит.
Руфь успела уже дойти до двери. Но там, передумав, она обернулась.
– Устала, не устала – можно подумать, ему до этого есть дело! – сказала Руфь. – Да он теперь двух минут обо мне не думает. У него голова занята только одним – Мэри Фишер. Слыхали про такую? Романы пишет. Любовница его.
Боббо был поражен этим коварством, этим, прямо скажем, гнусным предательством – и в то же время ему словно бы даже стало легче: на Руфь ни в чем нельзя положиться. Так он и знал.
– Руфь, – сказал он, – как тебе не стыдно? При чем тут мои родители? С какой стати ты их втягиваешь в наши семейные проблемы? Им-то что за дело до всего этого? Ты бы хоть стариков пожалела, помочь они все равно ничем не могут. Постыдилась бы!
– Постой, постой, мне очень даже есть дело до всего этого, – сказала Бренда. – Твой отец не позволял себе ничего подобного, уж не знаю, где ты этому научился.
– Прошу тебя, мама, не лезь в мою жизнь! – сказал Боббо. – Не тебе читать мне нотации. Если на то пошло, у меня и детства-то нормального не было.
– Вот как! И что же такого ненормального было в твоем детстве? – потребовала у него ответа Бренда, постепенно пунцовея.
– Мать все правильно говорит, – вступил в разговор Энгус. – По-моему, ты должен перед ней извиниться. Но, справедливости ради, Бренда, тебе лучше не встревать. Молодые без нас разберутся.
– Вот-вот, в этом ты весь, папа! – сказал Боббо. – Да будет тебе известно, что именно это твое всегдашнее ко всему отношение отравило мои детские годы. Какая это была пытка – врагу не пожелаю!
Мэри Фишер недавно очень кстати объяснила ему истоки всех его несчастий.
– По крайней мере, твоя мать никогда из-за меня не плакала, – сказал Энгус. – Ты можешь говорить обо мне что угодно, но я за всю свою жизнь ни разу сознательно не обидел женщину.
– Выходит, – вскинулась Бренда, – ты делал это бессознательно.
– Женщинам вечно что-то мерещится, – пробурчал Энгус.
– В чем в чем, а в этом Руфь любую за пояс заткнет, – подхватил Боббо. – Мэри Фишер – мой клиент, притом из самых дорогих. Получить такого клиента – все равно что выиграть лотерею. Вместе с тем, не буду скрывать, я ценю ее как человека творческого, одаренного – она невероятно талантлива, и мне приятно сознавать, что между нами установились дружеские отношения. Но при чем тут все остальное? Я могу отнести это только на счет болезненной подозрительности, которой, по-видимому, страдает наша бедная Руфь.
Руфь посмотрела на свекровь, потом на свекра, потом снова на свекровь, потом взглянула на мужа – и выпустила из рук супницу. Грибной суп растекся по полу как раз в том месте, где заканчивался линолеум и начинался ковер, и тут прибежали дети и с ними все их домашние животные, почуяв, что в доме происходят какие-то новые потрясения. Руфь могла побиться об заклад, что, глядя на все происходящее, Гарнес смеялся.
– Может быть, Руфи имеет смысл устроиться на работу, не запирать себя в четырех стенах, – сказал Энгус, стоя на коленях на полу и орудуя ложкой, как черпаком, в попытке вернуть суп обратно в супницу, пока он весь не стал добычей прожорливого толстого ковра. Энгус с силой вдавливал ложку в густой ворс, отвоевывая последние капли драгоценной сероватой жидкости. – Больше дел – меньше будет времени для разных фантазий.
– Какая работа! Все места давно заняты, – резонно возразила Руфь.
– Ерунда! – сказал Энгус. – Было бы желание, а работа найдется.
– Зачем говорить неправду? – сказала Бренда. – А как же инфляция, спад производства… Постой-ка, ты что, считаешь, что мы должны это съесть, Энгус?
– Кто кусок бережет, до нужды не дойдет! – провозгласил Энгус.
Боббо вдруг мучительно захотелось оказаться где-нибудь далеко-далеко отсюда, вместе с Мэри Фишер, услышать ее переливчатый смех, взять ее бледную руку в свою и один за другим подносить ко рту ее изящные пальчики, пока дыхание ее не начнет учащаться и она проведет по пересохшим губам своим восхитительно розовым язычком.
Никола пихнула ногой кошку по имени Мерси, чтоб не путалась под ногами, и та в мгновение ока прыгнула на коврик у камина, подняла хвост и мстительно, бесстыдно нагадила, и Бренда, тыча пальцем в Мерси, истошно завопила, и Гарнес пришел в неистовое возбуждение и стал как-то не вполне пристойно наскакивать на Энди, а Руфь стояла посреди всего этого, огромная и неподвижная, и ничего не предпринимала, и тогда Боббо окончательно вышел из себя.
– Полюбуйтесь, из чего состоит моя жизнь! – кричал он. – И так всегда. Там, где появляется моя жена, все летит вверх дном! Удивительная способность всем устраивать веселую жизнь, всем без исключения!
– Если бы ты хоть немного любил меня! – причитала Руфь.
– Да как же можно тебя любить?! – орал Боббо. – Тебя в принципе любить невозможно.
– Будет вам. Вы сегодня оба не в себе, – сказал Энгус, отказываясь от дальнейшего единоборства с ковром. – Успокойтесь – все встанет на свои места. Устали, заработались…
– Еще бы, такую лямку тянуть! Шутка ли – двоих детей поднимать, – заметила Бренда. – Кстати, Боббо, характер у тебя всегда был не подарок, даже в детстве.
– Да что ты привязалась к моему характеру! – истерично завопил Боббо. – Что ты о нем знаешь? Тебе всю жизнь было не до меня!
– Пойдем, Бренда, – сказал Энгус. – Меньше слов, меньше слез. Поедим в ресторане.
– Мудрое решение! – не унимался Боббо. – Скажу вам по секрету, что моя драгоценная женушка успела вывалить все волованы на пол!
– Нервы, нервы! Надо быть добрее! – сказала Бренда. – Вон в Лос-Анджелесе строят дома без кухни – там давно уже никто сам не готовит. И правильно делают!
– Ну вот, для кого же я старалась? Весь день у плиты провела, – жалобно всхлипнула Руфь. – Никто даже не хочет попробовать.
– Да что там пробовать – все равно жрать нельзя! – рявкнул Боббо. – Почему мне так не везет? Всю жизнь мучаюсь с женщинами, которые элементарно не умеют готовить!
– Я позвоню тебе утром, детка, – сказала Руфи Бренда. – По-моему тебе нужно сейчас принять ванну, лечь пораньше и хорошенько выспаться. Вот увидишь, сразу станет легче.
– Никогда не прощу тебе, что ты так по-хамски вела себя с моей матерью, – ледяным тоном сказал Руфи Боббо – достаточно громко, чтобы мать могла услышать.
– Твоя жена меня ничем не обидела. А вот ты действительно вел себя по-хамски. И я отлично умею готовить, только не вижу в этом большого смысла.
– Семейная жизнь – вещь непростая, – философски заметил Энгус, надевая плащ. – Как, впрочем, и воспитание детей – с наскоку тут ничего не добьешься, это труд, ежедневный, кропотливый труд. Конечно, распределить обязанности поровну не всегда получается, кому-то приходится львиную долю забот брать на себя.
– Да уж! – со значением произнесла Бренда, сердито натягивая перчатки. Глаза у нее рассеянно блуждали. Справа под мышкой – где она забыла побрызгать дезодорантом – на ее элегантной телесно-бежевой блузке расползалось темное пятно. Из-за этого она казалась слегка асимметричной.
– Ну, довольна? – обернулся к Руфи Боббо. – Рассорить моих родителей – это, знаешь ли, надо постараться! Но ты же не можешь спокойно видеть, когда другим хорошо, тебе надо тут же все испортить. Так уж ты устроена.
Бренда и Энгус удалились. Они шли по дорожке рядом, но не касаясь друг друга, каждый сам по себе. Семейные неурядицы – заразная штука. И те, кому повезло в браке, трижды правы, если сторонятся тех, кому не повезло.
Руфь укрылась в ванной и заперла за собой дверь. Энди и Никола извлекли из холодильника шоколадный мусс и на пару его уничтожили.
– По-настоящему, мне надо бы тебя проучить и сию же минуту отправиться к Мэри, – прокричал Руфи Боббо, пригнувшись к замочной скважине.
– Натворила ты сегодня дел! Всех взбаламутила, всех вышибла из колеи – родителей, детей, меня! Даже животные, и те занервничали. Но зато теперь мне все с тобой ясно. И где только раньше были мои глаза? Ты просто жалкая, ничтожная личность. Ты плохая мать, никудышная жена и отвратительная хозяйка. Да что говорить, разве ты женщина? Знаешь, кто ты? Хочешь я тебе скажу? Ты дьяволица, чистая дьяволица!
Едва он произнес эти слова, как ему показалось, что в неподвижной тишине за дверью произошло некое качественное изменение. Он подумал даже, что ему, вероятно, удалось поразить ее в самое сердце, и вот сейчас дверь тихо откроется, и она выйдет к нему с повинной головой и станет просить прощения, но сколько он ни стучал, ни бился в дверь, она так и не вышла.
7
Так. Понятно. Я-то считала себя преданной женой, которую судьба, как водится, решила подвергнуть испытанию – пусть даже на пределе человеческих сил. Ан нет. Он заявляет, что я – дьяволица.
Пожалуй, он прав. Иначе как объяснить, что у него в жизни все складывается так удачно, а у меня, напротив, из рук вон? Я поневоле вынуждена согласиться, что да, он-таки прав. Я и точно дьяволица.
Но это же замечательно! Восхитительно! Стоит сказать себе, что ты дьяволица, сознание моментально проясняется. Уныния как не бывало. Нет больше ни стыда, ни чувства вины, ни изнурительных попыток быть хорошей. Есть только то – по большому счету, – чего ты хочешь. И теперь я сумею получить то, что я хочу. Я – дьяволица!
А чего я хочу? Вообще говоря, вопрос непростой, кого-то он мог бы поставить в тупик. Всякие сомнения, шатания и колебания по этому поводу могут продолжаться всю жизнь – у большинства людей обычно так и бывает. Но к дьяволицам это, само собой, не относится. Сомнение – удел добродетели, не порока.
Я хочу мстить.
Я хочу иметь власть.
Я хочу иметь деньги.
Я хочу быть любимой и не любить самой.
Я хочу, чтобы ненависть шла своим путем – пусть прогонит любовь, пусть ведет меня за собой; а когда она все сметет на своем пути, не раньше и не позже, тогда я подчиню ее себе.
Я смотрю на себя в зеркало в ванной. Я хочу увидеть в знакомом отражении что-то, чего раньше не было.
Я снимаю одежду. Я стою совершенно голая. И смотрю. Я хочу стать другой.
На свете нет ничего невозможного – для дьяволиц, во всяком случае.
Содрать с себя шкуру жены, матери, добраться до сути, до женщины и – вот она, прошу любить и жаловать – дьяволица!
Прекрасно!
Сверк-сверк. Неужели это мои глаза? Так сверкают, будто свет зажегся в темной ванной.
8
После того, как Энгус и Бренда с испорченным настроением (от их привычной бодрой жизнерадостности не осталось и следа) скрылись в надвигавшихся сумерках, и дети затолкали в рот последнюю ложку шоколадного мусса, и кошка по имени Мерси устала жевать пропитанный супом ковер, и пес Гарнес, забившись под кухонный стол, изрыгнул из своего чрева соседский мусс из авокадо, и Руфь засела в ванной, решительно меняя самые основы своего естества, – Боббо собрал дорожный чемоданчик. Он был из натуральной кожи, с латунными замками и, несмотря на компактность, довольно увесистый.
– Ты куда? – спросила Руфь, выходя из ванной.
– Я ухожу от тебя, поживу у Мэри Фишер, – сказал Боббо, – пока ты не научишься вести себя прилично. Всему есть предел. Сколько можно закатывать истерики и срывать на всех свое дурное настроение? Лично я сыт по горло.
– И надолго? – чуть выждав, спросила Руфь, но Боббо не удостоил ее ответом. – А можно узнать причину? – задала она следующий вопрос. – Я имею в виду истинную причину. – Но она сама знала ответ. Причина состояла в том, что Мэри Фишер имела рост метр шестьдесят, сама себя обеспечивала, не была обременена детьми, не держала дома животных, кроме, кажется, попугая-какаду, не хватала, как безумная, воздух растопыренными пальцами, и могла без смущения быть предъявлена в любом обществе. Не говоря уже о Таинственной власти той пылкой любви, которую эта мерзавка Мэри Фишер воспламенила в чувствительной душе Боббо.
– А как же я? – спросила Руфь, и слова эти унеслись во вселенную, слившись с мириадами других «а как же я», которые растерянно произносили в этот день мириады других женщин, оставленных своими мужьями. Женщины в Корее и Буэнос-Айресе, и в Стокгольме, и в Детройте, и в Дубае, и в Ташкенте – но навряд ли в Китае, разве что в исключительном случае, поскольку там это наказуемо. Звуковые волны не умирают. Они без конца курсируют туда-сюда. Все, что мы изрекаем, бессмертно. Наше жалкое, бесполезное блеяние кругами носится по вселенной, и продолжается это целую вечность.
– В каком смысле – как же ты? – сказал Боббо, но на этот вопрос еще никому не удавалось вразумительно ответить. – Деньги я тебе перешлю, – благородно добавил Боббо, укладывая в чемоданчик сменные рубашки. Они были выглажены так тщательно и сложены так безупречно, что сделать это было проще простого. – Уверяю тебя, ты не почувствуешь никакой разницы: есть я, нет меня – не все ли равно? Тебе ведь очень мало до меня дела, даже когда я здесь, а до детей и вовсе дела нет.
– Зато соседушки сразу заметят, – сказала Руфь. – Они и так со мной почти не общаются, а уж теперь от них лишнего слова не дождешься, это точно. Ведь все считают, что невезенье – заразная болезнь.
– При чем тут невезенье? – сказал Боббо. – Ты пожинаешь плоды своих собственных действий. Кроме того, я, наверное, скоро вернусь.
Однако у нее на этот счет было другое мнение – неспроста он прихватил с собой еще и большой зеленый тканевый чемодан, и галстуки, которые надевал только на выход, тоже не забыл.
Потом он ушел, и Руфь осталась одна. Под ногами у нее был темно-зеленый ковер, а вокруг стены цвета авокадо. Наутро взошло солнце, и, когда первые лучи ударили в огромные окна гостиной, стало очевидно, что стекла неплохо было бы помыть – и что Руфь этого делать не намерена.
– Мам, – сказала Никола, – у нас окна грязные.
– Не нравится – помой, – отрезала Руфь. – Не маленькая.
Никола не стала ничего мыть. В полдень Боббо позвонил из офиса и сообщил, что он сделал Мэри Фишер предложение и что она приняла его, и, следовательно, домой он не вернется. Он посчитал, что Руфь имеет право знать об этом, поскольку отныне она может строить свою жизнь как ей заблагорассудится.
– Но… – сказала Руфь.
Он повесил трубку. В закон о разводе недавно были внесены существенные послабления, и теперь не требовалось непременного согласия обеих сторон для того, чтобы разделить семейную пару на две самостоятельные единицы. Желание одного из супругов – вполне достаточная причина.
– Мам, – сказал Энди, – а где папа?
– Уехал, – коротко ответила Руфь, и Энди не стал ни о чем ее расспрашивать.
Дом был записан на Боббо. Все правильно – куплен он был исключительно благодаря помощи его родителей. Руфь пришла к нему ни с чем. Если не считать внушительного роста и физической силы – а это по-прежнему оставалось при ней.
– А что на обед? – поинтересовалась Никола.
Но обеда не было. Тогда она намазала несколько кусков хлеба арахисовым маслом – себе, брату и матери. Она выковыривала из банки масло хлебным ножом и порезала палец, и очередной готовый к употреблению кусок украсили ярко-алые капельки крови. Но никто ничего не сказал по этому поводу, как будто так и надо.
Ели в полном молчании.
Никола, Энди и Руфь поглощали свои бутерброды, сидя перед телевизором. Так едят малочисленные компании – из женщин и детей, – когда мир разваливается на куски.
Но вот Руфь что-то пробормотала.
– Что ты сказала? – спросила Никола.
– На помойку, – сказала Руфь. – Некрасивым и добродетельным одна дорога – на помойку.
Никола и Энди закатили глаза, как бы призывая небо в свидетели. Они решили, что она сошла с ума. Отец, кстати, не раз утверждал то же самое. «Ваша мать чокнутая», – то и дело говорил он.
Утром Энди и Никола ушли в школу.
Через несколько дней Боббо позвонил снова – на сей раз сказать, что он разрешает Руфи с детьми еще какое-то время пожить в его доме, хотя такой огромный дом им совершенно не нужен, это очевидно. В небольшом, скромном домике – совсем небольшом – им будет гораздо уютнее.
– Что значит «еще какое-то время»? Как долго оно продлится? – поинтересовалась она, но он не ответил. Сказал только, что будет выплачивать ей 52 доллара в неделю (в дальнейшем сумма может быть изменена, о чем он заблаговременно ее известит), то есть на двадцать процентов больше официального минимума. По новому закону, который более последовательно, нежели предыдущий, защищает интересы жен во втором браке, ему в обязанности вменялось лишь материальное обеспечение рожденных от него детей. Физически полноценные жены от первого брака должны, образно выражаясь, стоять на своих ногах.
– Руфь, – сказал ей Боббо, – с ногами у тебя все в порядке. Дай Бог каждому такие ноги. На этот счет я спокоен.
– Но на один только дом уходит в неделю не меньше 165 долларов, – сказала Руфь.
– Так я же и говорю – придется его продать, – сказал Боббо. – И потом ты забываешь одну простую вещь: меня-то ведь уже нет, значит, расходы должны существенно сократиться. У женщин и детей уровень потребления намного ниже, чем у мужчин – это не мои домыслы, а данные статистики. И, кроме того, дети ходят в школу, они уже не маленькие, можно сказать, совсем взрослые – самое время потихоньку выходить на работу. Куда это годится, чтобы женщина замыкала себя собственным домом:
– Но дети болеют, и в школе бывают каникулы – полгода, если все сложить. И главное – где взять работу?
– Было бы желание, а работа найдется, – сообщил ей Боббо. – Это прописная истина.
Он говорил с ней из Высокой Башни. В дальнем углу просторной комнаты Мэри Фишер, прелестно изогнув гибкую шейку, писала что-то проникновенное о подлинной любви.
«Внезапно он поднял руку и коснулся ее лица. Затрепетав, она почувствовала, как он медленно, словно дразня, провел кончиками пальцев по ее щеке, дотронулся до мягких, дрожащих губ…» – написала Мэри Фишер. Боббо опустил на рычаг трубку, и она отложила перо, и они слились в поцелуе, скрепляя им, как печатью, свое совместное будущее.








