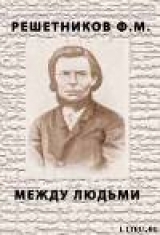
Текст книги "Между людьми"
Автор книги: Федор Решетников
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 15 страниц)
– Слава тебе господи, что я почтмейстерша! Не последняя же я какая-нибудь… Право!
– Вам нужно ладить с тамошними барынями.
– Мне-то?! Ни за что! Первая ни за что никому не поклонюсь! Да я и дома все буду сидеть; где мне, старухе, знаться с модницами? их, поди, много там.
Дядя купил ей косу и чепчик. Она приладила это на голову; и в каком восторге она оглядывала себя в зеркале!
– Ах, как идет!
– Не очень.
– Ты ничего не знаешь. Ты женись наперед; попадется жена модница – утрет тебе нос!
– Да это-то к вам нейдет!
Она посмотрелась в зеркало, чавкнула губами от удовольствия, улыбнулась и стала еще старательнее охорашивать свою голову. В этом наряде и надевши хорошее шелковое платье, она пошла к почтовым. Шла она странно, точно кто толкал ее вперед: шагнет раз пять, не покачнется, словно пава какая; ветер ее толкнет вперед, то набок, и пойдет она скоро, переваливаясь с боку на бок. Пришла она домой недовольная.
– Смеются надо мной, скоты, что я почтмейстершей стала.
– Что так!
– Платье, говорят, у вас хорошее, чепчики, говорят, вы нынче носите.
– Вам бы приличнее шляпку надеть – здесь ведь губернский…
– Я – почтмейстерша, мне чепчик приличнее носить.
– У, дура; я говорил тебе: надень шляпу, – так нет. Ну, кто ходит по улице в чепчике? – сказал ей дядя.
– Да ведь я платком закидывалась. Все смеются, а нет, чтобы радоваться.
Дяде и тетке не понравилось жить у меня. Им показалось, что я не рад им.
– Нет, какой ты племянник!
– Я вам готов всем угодить, но если я не имею много денег, чтобы угостить вас богато…
– Не угостить, а ты косишься. Ишь, учен больно стал. Почитайте, говорит, книжку, а мне на службу надо. Плевать мне на твои книги! Ты брат, мигнешь, а я все вижу. Нет, брат, – я уеду и больше ни ногой к тебе, – говорил дядя.
Перед отъездом я сказал дяде:
– Мне хочется ехать в Петербург.
– За каким лешим?
– Служить хочу.
– А здесь тебе еще не служба?..
– Я там доучиваться буду.
– Доучиваться! А меня ты знаешь?
– Здесь я не могу доучиться, а там к этому больше возможности…
– А! тебе не нравится с нами жить. Ишь, дядя стар стал, так и не мил больше? Черт с ним, издыхай он, а я, мол, и знать его не хочу… Бессовестный ты эдакой! За это, знаешь, тебя отодрать нужно хорошенько.
– А если я, выучившись, сделаюсь хорошим человеком, могу тогда больше и лучше помогать вам.
– Ну-ну!.. Служи-ка, брат, на одном месте; ты знаешь: камешок на одном месте обрастает.
"Ну, – подумал я, – с ним толковать не стоит. Стань его уговаривать, он хуже озлится". Но все-таки мне не хотелось ехать без его согласия, иначе он будет думать, что я обижаю его. Я замолчал, а он стал мне рассказывать свою тяжелую жизнь, как он из почтальонов сделался почтмейстером, никому не кланяясь, что и все его товарищи, никуда не ездя, дослужились хороших мест и теперь благоденствуют. Я представил себе положение дяди и то, что он рассчитывал на меня в будущем, и это он отчасти сам говорил мне. Вот ревизор сделает меня бухгалтером в палате, рисовал он мне мое будущее, – все мне буду кланяться; сердце дядино будет радоваться, когда он увидит меня бухгалтером: "Такой молодой – бухгалтер! Вот значит, ты умный человек. Все твои сочинения гроша не стоят против такой должности. Женишься ты на секретарской дочери, чин и дом получишь… Казначеем тебя сделают! Ишь ты! мой племянник казначей, а я почтмейстер! а? – и дядя щелкнул языком. – Вот я и буду радоваться да казать всем фигу: каков, мол, я, черти вы эдакие… А то, ишь ты, выдумал в Петербург, учиться вздумал…"
– Ну-с, я буду казначеем, а потом что?
– А какого тебе черта нужно?
– Я совсем оглупею тогда, да еще детей, дураков, наделаю.
– Ты мне этого не говори. Ты сам глуп – и больше ничего. А если ты будешь туда проситься, то не знай больше меня, и я тебя знать больше не хочу! Черт с тобой!
"Ладно", – подумал я и, проводив дядю, решился, при первом же удобном случае, поговорить об этом предмете с ревизором.
Как человек робкий, я боялся высказать ревизору на словах свое желание и поэтому написал ему письмо, в котором подробно изложил свое желание ехать в Петербург, и для удостоверения того, что я умею сочинять, я предлагал ему прочитать какую-нибудь свою драму. Ревизор прочитал письмо при мне и при чтении несколько раз улыбался.
– Так вы сочинитель? – спросил он меня и сам засмеялся.
Я покраснел.
– Что краснеете? Вы драматический писатель? Ха-ха-ха!..
Я осердился; мне обидно сделалось. Ну, думал я, – что я наделал?..
– Я вам скажу, что сочинители все ни к чему не годный народ… Впрочем, я вас испытаю. Приготовьте мне через две недели рекрутский устав.
– Очень хорошо.
– Я вас проэкзаменую. Ступайте!
Когда я выходил из комнаты, то слышал, как он хохотал, рассказывая своему помощнику про меня.
Мне сделалось досадно, что я написал ему это письмо.
Когда я сказал товарищам, что ревизор велел мне приготовить рекрутский устав, они заговорили: ну, брат, должность он тебе хочет дать… экое, подумаешь, счастье людям… Стал я читать закон, – плохо понимаю; иные статьи вовсе не понимаю, да и читать много некогда. Дел под руками не было, посоветоваться не с кем, и я не знаю, о чем меня будет спрашивать ревизор. Пришел я к нему храбро, думая: если он обругает меня и не согласится перевести в Петербург, я поступлю на должность по пароходству, куда приглашали меня за тридцать рублей в месяц. Ревизор спросил меня:
– Вы читали рекрутские дела?
– Нет.
– Отчего же вы не читали?
– Вы велели мне читать закон, а дел мне, без вашего разрешения, никто бы не дал.
– Вот вам два дела. Ступайте в ту комнату, прочитайте и скажите: как, отчего и почему?
Рекрутские дела у меня никогда не бывали в руках; о рекрутском уставе я не имел никакого понятия. Прочитавши закон, я узнал очень немного, но, вероятно, столько же, сколько и он знал. Теперь мне попались дела уже решенные, и я должен сказать о них свое мнение: похвалить палату или нет. Дела были маленькие – на десяти-двадцати листах. Читал я их два часа и путался на докладах, сочиненных тяжелым канцелярским слогом; мне казалось, что палата сделала верно, по крайней мере, так выходит по-человечески, да и в законе так же писано. Я решился сказать, что дела решены правильно, и угадал. Но ревизор хотел сбить меня с толку некоторыми канцелярскими неправильностями, разными расспросами и указаниями на статьи закона. Я хотя и отвечал неповоротливо, но попадал на что следовало.
– Теперь я вижу, что вы читали закон, кое-что смыслите… Вы хотите ехать в Петербург, а не знаете, что это за город… Вы представьте себе, что ваш Орех, в сравнении с Петербургом, – дрянной угол, деревня; там один квартал больше вашего города. Вы мечтаете, что вы гений. Удивительно! Да вы и доклада хорошенько не в состоянии сочинить, не только что печатать ваши марания. Получше вашего брата сочинители там голодают.
– Перепиской я никому не принесу пользы.
– Врете, отечеству принесете пользу.
– Себе я приношу только пользу, – ту, что я получаю жалованье как переписчик; а переписываю я не отечеству, а людям обыкновенным, как и я.
– Вот вы и вольнодумствуете. Знаете, что с вами за это можно сделать?
Много он говорил мне о том, как трудно жить в Петербурге бедному человеку, и что я, желая ехать туда, возмечтал о себе очень много. Наконец, видя мое смирение, он сказал, что примет во мне участие, переведет, но с условием, если я не буду там сочинять; в противном случае он не переведет. Чтобы подумать об этом, он дал мне сроку десять дней.
Думать мне было нечего, потому что если он согласился меня перевести, то гораздо лучше будет для меня, если я скажу ему, что я сочинять не буду. Так я и сказал.
– Ну, и хорошо. Я вас переведу и принимаю в этом участие, как отец. Вы там будете одинокий человек, соблазна будет много. Но помните, что там надо трудиться, а вы с чистым почерком найдете работу. Кроме департамента, вы можете заниматься в квартале. Там дадут вам рублей восемь. Через два года я сделаю вас помощником столоначальника… Главное, почитайте меня, ласковы будьте с служащими и не глядите исподлобья на начальников. Понимаете?
"Вероятно, – думал я, – чиновники там почище здешних. Уж если ревизор рассуждает так, то что хорошего можно ожидать от его товарищей?" Однако я очень радовался, что ревизор дал мне слово перевести меня, и сказал об этом секретарю. Тот был тоже рад и, с своей стороны, не утерпел, чтобы не сказать обо мне чиновникам. Вся палата узнала об этом.
– Что, брат, советником захотелось быть?
– Ишь, несидячая пташка!
– Смотри, коли ревизором будешь, не забывай своих товарищей: пирог сделаем, – говорили старики.
– Где ему… Он хоть похвастает.
– Верьте вы ему!
– Чего верить? всякий на его месте получил бы то же.
– Счастье этим дуракам… Дурацкое это счастье, – завидовали молодые.
– Молчи, – сочинитель… Ужо он нас опишет, – говорили те, которые не любили меня.
После этого ревизор скоро уехал. Мне опять сделалось скучно. В надежде, что я, может быть, скоро уеду отсюда, я невзлюбил палату сильнее прежнего. Мне казалось, что я уже доживаю здесь последние дни; работа не шла на ум, книги плохо читались; я только и думал о Петербурге; как я приеду туда, как я буду жить, каково-то мне там будет… Ах, как бы скорее уехать туда! Но дни шли за днями, шли месяцы; город все более и более казался противным… В палате я уже гордился, важничал над писцами, капризничал, думал: погодите, уеду же я от вас, досадно вам будет, проклянете вы мое счастье, потому что всем вам хочется хоть одним глазком посмотреть на Петербург…
– Ишь, как переваливает! А тоже свою персону показать хочет, – издевались надо мною.
– Нате, мол; еще моей персоны недоставало…
Прошло три месяца со времени отъезда ревизора, и об нем в палате все забыли. Сначала, как водится, все перекрестились, пожелали ему всяких чертей и болезней, пождали два месяца – не сменят ли какого-нибудь советника с должности, не отдадут ли кого-нибудь под суд. Но ничего особенного не случилось, и чиновники вошли в прежнее состояние, дела начали совершаться по-прежнему. Но вот на четвертый месяц получили в палате запрос от министерства. Запрос большой. Чиновники общими силами написали ловкое объяснение. Отослали его и сказали: "Знай наших!" – и сделали пирушку… Через неделю после этого одного советника перевели в другую губернию, председателя причислили к министерству. Чиновники сказали, что ревизор щупает старших, и стали ждать себе беды. Поругали на прощанье самодура председателя, и на прощанье собрали по подписке денег и поднесли ему подарок. Секретарь получил орден, одного бухгалтера сделали советником, двух столоначальников отдали под суд, и начался скрежет зубов у чиновной палаты. "Погодите, еще не то будет!" – говорили одни. "Он нас всех приберет!" – говорили другие. Наконец и я получил письмо от ревизора, которым он уведомил меня, что я могу теперь подать прошение в такой-то департамент и ехать, когда будут требовать от меня формулярный список. Служащие завидовали мне больше прежнего еще потому, что видели письмо ревизора, и напрашивались на поздравку. Одно было только сомнение, это то – если там вакансию заместят другим чиновником, не дождавшись моего прошения? Все-таки я надеялся на перевод и с каждой почтой ожидал из Петербурга запроса от департамента на мое прошение. Я написал дяде, что буду служить в министерстве и через ревизора могу выиграть по службе много. А еду я на свои деньги, которые я получу от лотереи. В эту лотерею я задумал разыграть старые книги и подаренные мне дядей часы. Предполагалось получить сорок рублей, да жалованье. Ехать было можно; даже я рассчитывал эти деньги употребить на поездку назад, если меня, по какому-нибудь случаю, не переведут. Дядя все-таки злился и стал писать ко мне реже.
Прошло четыре месяца, и о моем переводе не было и слуху. Чиновники сначала очень интересовались моим переводом; потом стали смеяться надо мной.
– Что, брат, верно, подлил только? – Ты, поди, теперь славно поживаешь! – Не езди, брат, послужи с нами. Пословица говорит: везде хорошо, где нас нет.
И это продолжалось каждый день. На лотерею никто не подписывался. А тут повторилась старая история, которая едва-едва меня не задержала и не оставила навсегда в Орехе.
Как-то я шел из палаты. Вдруг попадается мне старая знакомая, Степанида Кирилловна. Она была жена станционного смотрителя и часто прежде ходила к матери Лены, жила около них и постоянно пьянствовала.
– Здравствуйте, Петр Иваныч! – сказала она.
– Здравствуйте.
– Давно не видались, сударик. Елену Павловну не видали?
– Нет. А что?
– Да она ведь овдовела…
– Так что же?
– Экой злодей… Ведь вы же жених были!
– Так что же, что жених? Ведь она все-таки вышла замуж, и между нами не было очень близких отношений!
– Ну-ну, полноте. Овдовела, бедняжка! Такая жалость. Мать при смерти.
– Что так?
– Да водку все пила – водянка сделалась. Проведайте.
– Ловко ли это будет?
– Ничего, право. Пойдемте теперь!
– Теперь я не могу, потому что сплетничать, пожалуй, станут.
– А вы не женились? Я слышала, вы в Петербург собираетесь.
– В Петербург еду, а не женился.
– Ну, вот и женитесь.
– Вы, Степанида Кирилловна, передайте только Елене Павловне и ее мамаше, что я бы зашел к ним, да, понимаете, неловко. Если это не будет неловко, то пусть они известят меня. – Она ушла.
"Зачем я сказал это? – думал я, – если я пойду к Лене, то опять пробудится моя страсть, опять я буду думать о ней, и она обо мне. Теперь она женщина, испытавшая супружескую жизнь, знает все приемы этой жизни, потому что около года была замужем. Опять эти ласки и заискиванья… И зачем эта баба встретилась со мной и наговорила мне столько вздору?"
Через день я получил от Лены записку. Она писала, что мамаша ее рада видеть меня и даже что-то хочет сообщит мне важное.
"Что же это такое важное хочет сообщить мне ее мать? – думал я всю дорогу. – Уж не замуж ли за меня она хочет спихнуть свою дочь? Покорно благодарю".
Квартира Лены заключалась в двух комнатах с кухней; другую половину дома занимала свекровь с сыном-чиновником и дочерью, девицей годов пятнадцати. Лена сидела около больной матери своей и утирала глаза платком. Мать лежала бледная и постоянно кашляла.
– Ах, как я вам благодарна, голубчик! Здравствуйте, Петр Иваныч! Садитесь. Ох! – И она закашлялась.
Лена тяжело вздохнула. Кажется, ее давило какое-то горе. Она мне поклонилась и подала руку. Рука была холодная.
– Давненько мы с вами не видались, – проговорила мать.
– Да, целый год.
– А сколько перемен-то! Вот Лена замужем была, ребенка недавно схоронила. Ну, да бог с ним; успел и муж умереть.
– Что же он, больной был?
– Чахоточный… Ну, а вы как поживаете? Поставь-ка, Лена, самовар.
Лена ушла ставить самовар, а мать ее начала рассказывать о себе и муже Лены.
– Вы не поверите, Петр Иваныч, какая моя жизнь проклятая, – просто мученье, да и только… Еще когда он был жив, я захворала; вот теперь пятую неделю не встаю с кровати, ноги отнялись, пухнут… Кашель проклятый смучил. А все, будь оно проклято, с водки… Пить бы не надо. И вы не пейте.
– Я пью, да так, балуюсь.
– Ох, вредно, родной! Ну, как ваши?
– Ничего. Почтмейстером теперь…
– Ну, слава богу. О чем я говорила-то?.. Вот и память всю отшибло…
– А каков был муж Елены Павловны?
– Ах, и не говори! Сначала такой славный был, только кашлял постоянно. Не рада я, что и отдала ее за него. Дура я, дурища…
– Что же делать!
– Да-да, воля божья! Такой знаете ли, капризный, пьющий; все ее, бедную, бить лезет. Ну, и вступишься. Он-то еще ничего, бог с ним, Леночку любил, одевал хорошо, и меня не обижал, а вот мать его – просто змея. Эдакой я в жизнь свою не видала… Я вот тоже поколачивала Лену, – так маленькую, на то я родная мать, а то она, ехидна, скупая-прескупая, всем ее попрекать стала, и меня туда же. Целый день крик.
– Ты, шлюха, опять самовар ставишь! – закричала какая-то женщина в кухне.
– Я свой ставлю, – послышался нежный голос Лены.
– Я тебе дам! Ты сходила по воду-то? Твои дрова-то?
– Да гость к маменьке пришел!
– Я тебе дам – гость! Всяких шалопаев принимаешь, всякой дряни самовар ставишь! Не смей угли брать!
– Я лучинкой достану…
– Ах ты шлюха! Ах, господи, нет у меня ног-то, а то я бы тебе задала! – сказала громко, через силу, мать Лены.
В дверях показалась женщина лет сорока восьми, толстая, румяная.
– Докудова это вы будете командовать! Завтра чтобы час не было! – закричала эта толстая баба.
– Я тебе дам! – прошипела мать Лены.
– Что-о?
– А вот тебе! – И мать Лены плюнула на толстую женщину. Мне становилось неловко от этой сцены.
– А ты кто такой? – вдруг спросила меня толстая женщина.
– Я пришел к Анисье Васильевне.
– А! не успел муженек-то умереть, она и женихов подзывает! Так вот же вам! – И она, сдернув с гвоздя висевшее шелковое платье Лены, утащила его.
Мать озлилась; с нею сделался нервный припадок.
Пришла Лена, заплакала.
– Чей это дом?
– Свекрови… Она вот уж вторую неделю гонит нас.
– Что же вы не едете? Эдак она измучит вас.
– Куда ехать, Петр Иваныч?
– Отправьте мать в больницу, а сами на квартиру съезжайте или к родственнице.
– Неловко маменьку оставить, она не может жить без меня. Мать очнулась. Я ей посоветовал уехать в больницу.
– Я это хочу, да боюсь, – уморят.
– Там вам спокойнее будет.
– Похлопочите вы, ради бога, а ее пошлю к родственнице.
Эту родственницу я часто видал. Она была вдова, получала большую пенсию и, кроме этого, имела свой дом; но она была скупая женщина. Отправился я к ней; она сказала, что у нее негде жить Лене. Я сообразил, что, нанявши квартиру, Лене неловко будет жить одной, без матери, жить работой, да и работы скоро не найдешь. Оставить их тут долее не было возможности. Я решился найти им квартиру. Квартиру эту я нашел им недалеко от своей квартиры – две маленькие комнатки за два рубля в месяц, с тем чтобы стряпать за эту же плату в хозяйской кухне. Когда я сообщил это матери Лены, она очень осталась довольна.
Таким образом, мне привелось устроить Лену и мать ее. Но чем им было жить? Без работы им нельзя было жить; да к тому же матери нужно было покупать лекарства. Я дал им своих пять рублей и советовал что-нибудь заложить, когда понадобятся деньги, потому что своих денег у меня больше не было.
В палате узнали про это и стали смеяться надо мной.
– Смотри-ка, петербургский-то выходец шпигуется! Любовницу на содержании держит.
– Ай да хват! Даром что смирный, а свое дело знает…
После рассказанного случая здоровье Лениной матери становилось все хуже и хуже. Каждый день я ходил к ней, и каждый день она становилась ко мне ласковее прежнего. Лена радовалась, когда я приходил, и мне часто доводилось говорить с ней, но мы говорили только о ее скверном положении.
Раз я пришел утром. Мать спала. Лена читала книгу. Я подошел к ней; она улыбнулась, весело поглядела мне в глаза и крепко сжала мою руку.
– Как вы добры, Петр Иваныч, – сказала она нежно, голос ее дрожал. Мне неловко стало от этих слов. Я понял, что она или любит меня; или расположена ко мне более, чем к другим. В это время я привязался к ней более прежнего. Но теперь я уже крепко держался тех убеждении, какова должна быть моя жена; а Лену я понял так: она была смирная, любящая женщина; она в жизни много перетерпела горя; и теперь для нее настает тоже незавидная жизнь. Как бы худа ни была мать, но она жила все-таки под покровительством ее, потому что, при ее неразвитии и неуменье жить самостоятельным трудом, ей плохо придется жить одной. В провинции работы для женщины мало: нашьешь и навяжешь немного, плату за это дадут небольшую, да и таких рабочих женщин, которые бьются из-за куска хлеба, много, очень много, и все они не жалуют свою работу. Идти в услужение тоже ей не под силу, во-первых, потому, что хотя она и умеет стряпать и печь, мыть и мести, но все-таки она не привыкла к этой работе, во-вторых, ею будут помыкать, попрекать ее станут чужим хлебом, назовут еще белоручкой, да и от лакеев ей не будет спуску; она или выйдет оттуда развращенной, или сбежит, не вынесши тяжелой жизни; в-третьих, ей все-таки не дадут хорошего жалованья. Учить детей она не может, быть нянькой – ей тоже незнакомое дело, да и в чиновный дом ее не возьмут, потому что жены будут ревновать к ней своих мужей. Да, положение такой молодой женщины гадко в провинции. Ведь нужно же было умереть мужу, да еще издыхать матери! Имей она свой или материн дом, она могла бы получать кое-что с квартиры, и на нее все-таки никто бы не указал нахальна пальцем. А то сколько мать ни работала для нее и для себя. все было съедено и пропито; осталось только несколько посуды и платьев старых, да еще немногое приобретено от мужа. Остается выходить замуж.
Прошел месяц. Мать умерла. Знакомые ее, при моей помощи, пособили нам сбыть ее в могилу. Много было тут пролито слез дочерью; самому хотелось плакать при виде горестного положения Лены. "Одна я теперь, одна! В жизни я была ей тягостью, замужество мое сгубило ее… Добрая ты была, мамаша!.."
Были, как водится, поминки, но простенькие: три гостьи – приятельницы покойной, я да Лена. Гости выпили водки, вспомнили добродушие покойницы и расплакалась. Дошло до наивностей.
– Петр Иваныч, ты останься с Леночкой ночевать.
– С чего вы взяли, что я останусь?
– Да ведь вы жених!
– Вовсе я не жених, и не хочу, чтобы люди худое говорили про Елену Павловну. Вы кто-нибудь останьтесь с ней.
Я стал прощаться с Леной.
– Вы смотрите, держите ухо востро, а то они обокрадут вас.
– Ах, зачем вы уходите!
– Нельзя.
– Посидите!.. Нет, приходите завтра, ради бога!
– Вы завтра ищите другую квартиру, да вам нужно жить с женщиной. Здесь вам нельзя больше жить. Ведь вы будете думать о мамаше?
Лена заплакала.
Положение Елены меня сильно печалило. В продолжение месяца я хорошо познакомился с нею и убедился, что она хочет жить честно, хочет трудиться, и меня опять, по-прежнему, мучило намеренье жениться на ней. Теперь я убедился, что она, испытавши замужнюю жизнь и горе, будет стараться приобретать себе как-нибудь деньги и не будет требовать моих денег; у нас будет труд, хотя и разнообразный, зато мы будем помогать друг другу в материальных средствах. Но будет ли она помогать моему развитию? Вопрос этот сильно пугал меня. Она сама неразвитая женщина, но что же делать, если она неразвита? Но зато она говорит прямо, что чувствует, и нисколько не стесняется своим незнанием. Она прямая, честная женщина. Чего же еще надо? А я-то что такая за особа?
Но как устроить ее положение? Везти в Петербург с собой я не могу, потому что я сам не знаю тамошней жизни. Надо спросить ее совета.
Я пришел к ней на новую квартиру. Она жила с девушкой, швеей, уже невестой какого-то писца, перебивающейся кое-как. Девушки дома не было. Лена шила свадебное платье.
– Как вы долго не были, Петр Иваныч!
– А что?
– Скучно очень.
– Я с вами давно хотел поговорить об очень важном предмете.
Елена покраснела и задумалась.
– Я вас знаю давно, то есть прежде я знал вас только лично, а не знал, что вы за девушка были. Теперь я вас узнал.
– Что же вы узнали?
– То, что вы добрая, честная женщина.
– Еще что?
– Мне и этого достаточно. Ну, а вы меня узнали?
– Я? – мало. По наружности трудно судить о мужчинах. Вы у меня бывали много раз, а я у вас ни одного.
Мы замолчали. Немного погодя я сказал:
– Но дело ведь вот в чем, Елена Павловна: нынче я еду в Петербург.
– Совсем?
– Да.
Она побледнела и принялась сильнее шить, но иголки сновали невпопад.
– А вам не хочется, чтоб я ехал?
Она ничего не сказала, только проглотила слюну.
– Зачем вам ехать?
– Учиться хочу.
– Да вы разве мало знаете?
– Очень мало.
– Ну, там вы других людей найдете; а между нами какие же люди!
Она вышла на двор. Оттуда она пришла с красными глазами.
– Я не могу оставаться здесь, но надо подумать и решить, как нам лучше устроиться.
– А вы к чему это говорите? – спросила она меня строго.
– А вы согласны быть моим другом?
– Каким другом?
– Быть женой?
– Вы уже раз обманули…
"Капризничает", – думал я. Но, вероятно, она не капризничала; а ей тяжело было в это время.
– Поезжайте! Я буду жить, как бог велит.
– Зачем падать духом? Надо терпеть.
– Терпеть! – сказала она громко; на глазах появились слезы. И сказала-то она, – так словно внутренность моя повернулась.
"Экая проклятая жизнь! – думал я дома. – Или оставаться здесь, или бросить ее? Эка штука! Женюсь я на ней здесь и захрясну между этими людьми, от которых я так давно хочу бежать. Оставить ее здесь… Но она-то как будет биться? Теперь ей год ждать… А если мне там не повезет, если я сам себя не выручу там; если, наконец, я увлекусь там и забуду ее? Нет, я ее не забуду. Я буду работать для нее. Я ее вызову туда…"
Через день я пришел к ней, она приняла меня сухо.
– Я думала, вы уже уехали.
– Видите ли, я бы женился на вас здесь, да я не знаю петербургской жизни. Когда я поживу там месяц, то напишу вам подробно, тогда вы сообразите: ехать вам туда или нет.
– Я ведь не навязываюсь.
– Не к тому я говорю. Вы сами поймете, что я не могу вас взять с собой, во-первых, потому, что на свадьбу нужны деньги…
– Какие?
– Попу за исповедь рубль. Все-таки на свадьбу выйдет рублей десять, да доплестись до Петербурга нам обоим будет стоить рублей пятьдесят; а если меня не определят там, то нам трудно будет жить.
– В таком случае я буду ждать.
– Да, надо ждать. Там и обвенчаемся.
На другой день после этого разговора в палате получилась бумага из министерства, которою просили из палаты мой формуляр. Все меня поздравили; я подал прошение в отпуск и поехал к дяде проститься. – Что-то дядюшка скажет? Каково-то это будет для тетки? Неужели они еще будут препятствовать мне? Это меня всю дорогу мучило; но еще заботило меня то: как бы уговорить дядю помочь Лене?
Дядя меня никак не ожидал. Я приехал утром, часу в одиннадцатом, к почтовому дому, в котором помещалась контора и жил почтмейстер. Я увидал дядю в окно.
– Это к нам. Какой такой черт! – сказал голос из окна.
Я понял, что это говорил мой дядюшка. Через три минуты в воротах показалась тетка в старом ситцевом платье, с скалкой в левой руке, а за ней дядя в халате и с папироской во рту. Увидев меня, он улыбнулся, а тетка обтерла фартуком свои мучные губы.
– А! это ты, племянничек… Что? – сказал дядя.
Я посмотрел на него. На лице я не заметил никакой улыбки. Есть такие люди, на желтом лице которых ничего не заметишь, будь ты какой угодно физиономист. На лице дяди мне вообще редко слушалось замечать улыбку.
– Как это вы надумались посетить нас? – спросила тетка.
Я подошел сначала к тетке, поцеловал ее.
– Смотри, что нам дали! – сказал дядя, указывая на двор и дом.
Теперь я заметил, что он как-то зло улыбался; обстановка, как видно, ему не нравилась: ему хотелось, как почтмейстеру, жить в каменных хоромах, а он жил в старом деревянном доме, который соединялся с сараями. На полу доски, в правой стороне березовые дрова.
– Место чисто провинциальное; деревней пахнет, зато воздух хорош.
– Кхе! – дядя кашлянул и рассмеялся и, как хозяин-начальник, сказал:
– Ты посмотри, где почтмейстер-то живет!
– Ах, Петинька, что это за жизнь-то, – говорила тетка, постоянно охая.
– Губернским не пахнет! Вошел я по шаткой лестнице.
– Это крыльцо… Уездный город – последний город, дрянь… Я в заводах лучше живал! – и т. п.
Сначала дядя расспрашивал меня о новостях; тетка слушала и улыбалась. Я говорило политике, дядя ругал Гарибальди и всех тех политических деятелей, о которых он вычитал в "Сыне отечества", высказавши при том, что этот журнал и "Воскресный досуг" – самые лучшие в мире журналы. Теперь я заметил, что дядя занимался чтением; а занимался он чтением потому, во-первых, что ему было скучно, а во-вторых, ему, как почтмейстеру, хотелось похвастаться новостями перед корреспондентами. Он читал только "Сын отечества" и "Воскресный досуг", другие журналы и газеты он и в руки не брал: те не для нас писаны, – говорил он. Особенно дядя любил картинки. Карикатуры его смешила, и он хвастался: "Славно как в "Сыне отечества" отрисовали! Это, верно, наш купец, седой…" Кроме политики, происшествий и картинок, дядя ничем не интересовался; случалось, читал он повести, но редко, и то хвалил только такую повесть, если в ней была концом смерть, кража или вообще насилие. Иначе его трудно было заинтересовать.
Теперь он выглядывал настоящим уездным почтмейстером, каких у нас весьма много. Хотя у него и была прежняя простота, но она мешалась с личным достоинством: я почтмейстер, я начальник, я отдельная в городе власть – и никого не боюсь! Он действительно никого не боялся: в контору ходил в халате, кроме приемных дней; почту отправлял тоже в халате, почтальоны и почтосодержатель его слушались, с городскою аристократиею он не хотел знаться. Сидит он, например, у отворенного окна; через дорогу, а большом доме, живет какой-то уездный туз. Дядя ругается: "Ишь, дьявол, какой дом нажил, и вечера делает!" Вот прошел какой-то служащий, поклонился дяде, дядя кивнул головой и говорит мне: "Дрянь, шельма!.. Жениться нынче хочет. В приданое дают дыроватый сапог да блоху на аркане", – хохочет. Вышли из ворот барского дома ватага аристократов и аристократок; дядя отходит прочь от окна и ворчит громко: не поклонюсь и шапки никогда не сниму, хоть вы и губернаторские клевреты! (Это слово он где-то вычитал, и ему оно очень понравилось; это слово, по его понятию, было нехорошее, хуже всех ругательных слов.) И начинает он рассказывать целые история об этих "клевретах".
Прежде дядя любил ходить пешком, теперь он ездил, и тетка тоже ездила; а лошадь была почтовая, даровая. Теперь его знал весь город, и все ему кланялись, а это ему очень нравилось. Тетка тоже кланялась; во она редко выходила с мужем: ей и лень было, и почему-то неловко казалось показаться на улице; она так любила свою комнату, что постоянно после обеда сидела у окна и наблюдала за всем, что происходило на улице и в барском доме.
– Ну, как ревизор? – спросил меня дядя.
– Уехал.
– А ведь ты просился в Петербург?
– Просился.
– Я тебе говорил раньше свое мнение… – он сказал это тоном начальника, каким не говорил раньше.
Пришел крестьянин получать письмо, и дядя ушел в контору, которая помещалась в квартире дяди, в небольшой угловой комнате. Подсела ко мне тетка.
– Ну, как Лена? – спросила она меня.
– Положение ее плохое…
– Я говорила самому, чтобы ее взять к нам, да он говорит – самим тесно будет.
– Вы, мамаша, позволите мне жениться на ней?
Тетку это как будто удивило. Она долго молчала; наконец сказала:
– Да ведь у ней ничего нет.
– Да ведь и вы так же выходили замуж.








