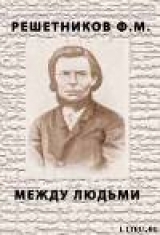
Текст книги "Между людьми"
Автор книги: Федор Решетников
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 15 страниц)
– Я девица была. Да и прежде проще было, а ныне дороговизна страшная.
– Все-таки можно жить.
– Ты сам знаешь, не маленький. Ты вырос. Мы тебя вскормили, вспоили. Ты и прежде нас не слушался, в Орех уехал, теперь без нашего спросу в Петербург едешь.
– Мне бы не хотелось так делать. Вы Лену знаете.
– Делай как знаешь, а мы к тебе на свадьбу не поедем… Пришел дядя.
– Слышишь? Он на Ленке жениться хочет.
– Еще лучше!
Дядя долго ворчал, но отказа не давал, потому, вероятно, что думал: он, может быть, не поедет в Петербург. После обеда я сказал им, что через неделю еду в Петербург. Это их поразило. Они долго бледнели.
– Ну, что ты скажешь на это? – спросила тетка дядю.
– Ну, вот! – сказал только дядя.
В этих словах высказывалось горе. Дядя тяжело вздохнул. Мне жалко их стало обоих. "Зачем мне ехать? не поеду", – подумал я и хотел сказать им это, но язык не поворачивался.
– Бог с тобой, Петр Иваныч, – сказал дядя.
Ему как будто плакать хотелось.
– Я, папаша, только съезжу.
– Бог с тобой! – сказала тетка и заплакала.
– На себя пеняй! Кто тебе велел женить брата? – сказал дядя и ушел в контору.
Тетка стала упрекать меня во всем, что она знала худого за мной, но больше плакала. Жалко мне было их обоих, хотелось воротить назад свое слово, но я не мог этого сделать. Мне представлялся Орех со всеми людьми, вся моя жизнь за все прожитое там время; меня манил к себе Петербург, меня тащило туда что-то.
– Что ты там будешь делать? шары продавать? – сказал мне дядя, пришедши из конторы.
– Я буду служить в министерстве… Дядя долго молчал.
– Поди-кось, без тебя там мало людей шатается без мест!
Я сказал, что ревизор меня полюбил и туда уже послали мой формуляр.
– А если тебя не переведут?
На этом-то я и сам задумывался. Кто знает, какие там порядки: может быть, в то время, как послан был оттуда запрос, уже вакансию мою заместили.
– Ну, я так съезжу!
– Эдакой богач! Служил бы знал, а не шатался без дела… Все бы ты ездил; эдак, брат, никакой должности некогда не получишь.
Жизнь обоих супругов была скучная, тем более что занятий мало. Встанут они в шесть-семь часов, напьются чаю. После чаю дядя отправляется в контору; если там делать нечего, он свистит, поет, барабанит по столу пальцами и рад не рад постороннему человеку, с которым можно потолковать о житье-бытье. Придет почта, получаются бумаги, почтальон сообщает новости, и эти новости обсуждаются дядей и теткой целую неделю. Тетка стряпает в кухне. Пробьет десять часов, дядя выпьет рюмку водки и опять скучает. В Двенадцатом часу опять выпьет рюмку водки и хочет обедать. Обед всегда бывает в первом часу, и после него, до шестого часу, супруги спят. После обеда опять скука: идти некуда, да и не в моде в этом городе. И скучает дядя, проклинает свою скуку и город… И проклинают они город еще потому, что содержание дорого, жалованья мало, доходов нет, и бывает часто, что дядя берет взаймы бумагу из судов, потому что казенных денег на этот предмет недостает.
У них я прожил четыре дня и скучал так, как некогда. Наконец нужно было ехать. Как раз к отъезду приехали два родственника: дядя Антипин с зятем.
– Вот, господа, посмотрите на парня! в Петербург едет, – сказал дядя. Он злился в это время.
– Хорошее дело, – сказал Антипин.
– А как, по-вашему, – ехать ему или нет?
Родственники толковали дяде, что я хорошо делаю, но дядя все злился. Тетка плакала.
– Коли так, нет тебе благословения! – закричал дядя.
– Полно! – уговаривали его родственники.
– Не ваше дело. Прокляну!
Но все-таки он дал мне шесть рублей денег.
Крепко я обнял тетку, и горько плакала она в это время. Дядя тоже утирал глаза, но он крепко злился на меня, говоря: выкормили соколика, и знать нас не хочет…
– Не забывайте меня, – говорил я им, садясь в повозку.
– Не забывай, Петинька! В люди выйдешь, вспомни нас, – говорила тетка.
Но тяжелее всего мне было расставаться с Леной. Из слов ее и обращения я понимал, что она любила меня, и любила давно. Да и к кому же ей больше привязаться, когда мы росли вместе года четыре? И мне припомнилось, что в это время мы сильно были расположены друг к другу, у нас не было ссор и тем более драк. Потом Лену любили наши родственники, мои родные, называли ее родной, я скучал об ней, когда ее не было у нас.
Уехал я в уездный город служить, прожил там два года, и страшно мне хотелось жить в Орехе, познакомиться с Леной как следует, устроить нашу жизнь так, чтобы не мешать друг другу, и, женившись на ней, иметь в ней хорошего, настоящего друга и вместе с ней учиться и развиваться. Это я хотел устроить и дошел до этого без всякой посторонней помощи, тем более – без книг; а в жизни я видел все какой-то разлад, сетование на судьбу и людей; в романах же и вообще в любви на разные манеры, кончающейся женитьбой или смертью героев, ничего похожего не было на мой план.
Когда я в первый раз приехал в Орех и пошел к Лене, я застал ее и мать ее в таком же положении их умственного состояния, как и прежде; только Лена выросла, и стала красивой, нежной и здоровой девушкой. Я ее полюбил тогда крепче, но, увлекаясь ею, все-таки не мог узнать ее поближе, то есть сходится ли она или похожа ли на мой идеал. Чем дальше я вглядывался в ее лицо, все больше и больше я любил ее, любил даже так, что готов был жениться на ней. Лена всегда улыбалась, когда я приходил к ней, жала мне крепко руку; в пасху, когда мать ее заставила нас похристосоваться поцелуями, она крепко поцеловала меня в третий раз, а я только прикасался губами к ее лицу, и слышал я, как крепко билось ее сердце в это время; многим женихам она отказала, несмотря даже на их чиновничество; но и при всем этом она никогда не сказала мне ни одного любезного слова, когда она бывала со мной; ей неловко было, что я тут, и она крепче работала, краснела, не поднимала головы. Тогда я догадывался, что она меня любит, но любит скромно, по-своему, не любезничает, не вешается: на шею, и за это я полюбил ее еще больше. Когда я узнал, что Лена выходит замуж, целый день я был в агитации, ругал себя и, наконец, пришел к тому заключению, что она меня не любит и считает за обманщика, или мать сбывает ее с своих рук. Прошел месяц, два; мне чаще и чаще стало приходить в голову сожаление, что я не женился на ней. Были у меня друзья, но эти друзья приучили меня пить водку, играть в карты; я начинал тупеть и ленился заниматься своим развитием. И в это-то время я приходил к тому заключению, что от Лены я требовал многого, даже невозможного при ее воспитании.
"Умен ли я-то? – думал я. – Что я могу дать ей, чем я разовью ее? Я только считаю себя умным, во мне самолюбия много, а люди считают меня дураком. Павлов говорил, что я плохо развит; ревизор смеялся надо мной. Чем я гордился? Тем, что мне удалось напечатать в губернских ведомостях две статьи, которым я сам не сочувствовал и за которые меня же обругал печатно мой товарищ?.."
Через год я увидал Лену женщиной, имевшей ребенка, перетерпевшей много горя в замужестве. В месяц я узнал от нее более, чем в пятнадцать лет, и этому помогло то, что она могла говорить со мной, как женщина, свободно. Вот что говорила она о своей замужней жизни:
– В доме я была работница: ставила самовар, топила печь, мела полы и должна была слушаться мать, мужа, брата, сестру – и не выходить из их воли. Денег муж мне давал и не хотел, чтобы я работала на сторону. А мне хотелось работать, потому что я привыкла к этому. Скучно было, я рада, что какую-нибудь книжку дадут читать, но книги были старые, французские романы глупые, – да и муж толковал мне, что мне надо медицине учиться, я могу быть повивальной бабкой, и говорил мне часто об этом. Муж хворал, я боялась, чтобы он не умер: куда я денусь с ребенком? Умер он, мне жалко его стало, потому что он добрый был и ласкал иногда.
По приезде в Орехов от дяди, в последний раз я пошел к ней, – проститься, так как завтра мне нужно было ехать, а сегодня у меня вечером назначена была лотерея. Она казалась холоднее ко мне, чем раньше.
– Я в монастырь пойду, – сказала она мне.
– Значит, вы меня не любите?
– Ах, не говорите! Она молчала долго.
– Ну, а вы поедете ко мне?
– На какие деньги я поеду? Ну, я приеду к вам: вы думаете, я с вами жить стану? Покорно благодарю.
– Не лучше ли нам теперь обвенчаться? а потом я уеду, – вы пока поживете здесь…
– Нет уж, поезжайте… Не судьба, верно! – И она заплакала.
– Прощайте!
– Когда вы едете?
– Завтра.
– Так вы точно едете?
– Да.
Лена замолчала, лицо ее побледнело. Жалко мне ее было; я так дядю и тетку не жалею. Однако я подошел к ней, подал ей руку. Она подала мне свою руку, а на меня не глядела; мне самому неловко было…
– До свиданья, – сказал я.
Она молчала.
– Елена Павловна!
– Что?
– Прощайте!
Она ничего не сказала… Я ушел. Затворяя двери, я видел, как она плакала.
"Зачем я пошел к ним в то время, когда получил записку от Лены? – упрекал я себя. – Не ходи я, и ничего бы не было".
Вечером была лотерея. Гостей было двенадцать человек. Все перепились, расцеловали меня, пожелали мне счастья, и каждый расстался со мной другом, прося написать каждому письмо о Петербурге. Все они упрекали меня Леной и спрашивали: повезу ли ее в Петербург? Многие советовали мне не возить ее: ты там хорошую, образованную найдешь.
С лотереи я получил тридцать рублей, да из палаты взял жалованья за этот месяц и за будущий. Таким образом, у меня составилось пятьдесят рублей.
Утром я отправился к Лене. Она складывала свои вещи.
– Куда вы?
– На квартиру. Я нашла за городом квартиру за пятьдесят копеек в месяц. Хозяйка – старуха, кажется, добрая; живет она с дочерью. Дочь – вдова-солдатка и работает на пристани. Всего только одна изба, да ладно с меня. А вы совсем?
– Сейчас еду.
– Прощайте. Я бы пошла проводить вас, да некогда. Пишите.
Я ей дал пять рублей, но она обиделась и не вяла.
– Я не нищая, слава богу. Вам самим пригодятся. С тоской я ушел на пароход, но зато там я с нетерпением ожидал отплытия. Человек шесть меня провожали и завидовали моему счастью. Наконец пароход тронулся, обернулся по большой реке; сотни рук сняли шапки отплывавшим, махали и платками. Все отъезжающие, палубные, перекрестились, улыбнулись, только мне было скучно: я уезжал от той, которой я мог составить счастье. "Что-то будет с ней? – думал я… – Ну, да мне самому свое счастье дороже…" И казалось, как будто она стояла на горе, в стороне от людей, глазеющих на отплывающий пароход и говорящих: счастливчики! Но вдалеке я мог видеть только ее желтое платье, движущееся от ветра. Сердце сжалось у меня, когда я подумал: каково-то ей, бедняжке, в это время? И я отвернулся от берега и стал смотреть на пароходный мир, откуда слышалось в разных местах: "Прощай, Орех! дрянной ты городишка… То ли дело вон там-то, у нас… Разлюли-житье!"…
Часть третья
СТОЛИЧНОЕ ЖИТЬЕ
Только дорогой, подъезжая ближе к Петербургу, я услыхал, что в Петербурге бедному человеку жить трудно, но я этому не верил. Я думал, что если я в Орехе получал сначала жалованья шесть рублей и жил же, то и там на двадцать рублей в месяц проживу. Я думал, что там я буду получать жалованья не меньше двадцати рублей, из коих три я отдам за комнату да за обед буду платить семь рублей, а десяти рублей мне хватит на чай, сахар, табак и одежду. Кроме этого, я слыхал, что в министерствах дают большие награды. Но вот и Петербург! Москва не произвела на меня такого впечатления, как Петербург своими домами, движением народа, разнообразием цветов и видов, криком и навязчивостью торгашей и извощиков. Здесь я с первого же шага из вагона попал на попечение добродушного человека, который сказал мне, что он берет меня к себе в гостиницу за пятьдесят копеек, схватил и понес мое имущество, уложенное в чемодане, и привел меня в сырую, душную комнатку со сводами. Это был подвал, как сейчас же оказалось.
Вечер я провел смутно. Видел я Петербург, а не мог осмыслить, что я видел: дома, люди, лошади, кареты – все вертелось в моей голове, как в тумане. Вышел я за ворота – не знаю, куда идти. Вернулся – и заблудился во дворе, окруженном четырехэтажным домом. Насилу нашел свою лачугу. Здесь я был совершенно чужой всем; поди я куда-нибудь – меня занесет туда, что мне и не выйти одному, да я и не знаю, в какой части города я живу, в чьем доме, у кого. Вон заиграли музыканты во дворе, и почти в каждом окне я увидал если не по два человека, то по одному, – стал я считать их, насчитал до сорока – скучно стало… Грустно сделалось, что я один, что у меня денег шестнадцать рублей и я не могу прокатиться по городу… Но меня брало сомненье: а если мое место уже занято кем-нибудь? В таком случае я буду сочинять или буду искать каких-нибудь занятий. Пришел хозяин.
– Вы, поди, спать хотите с дороги-то. Не купить ли водки?
– Пожалуй.
Выпил я стаканчик очищенной, хозяина попотчевал, – и скоро заснул. Через день, разыскавши департамент и узнавши, где живет начальник отделения Черемухин, я пошел к нему на квартиру – для того, чтобы явиться. Прежде я часто бывал в барских кухнях, приемных и комнатах, потому что у нас, в Орехе, являются так к начальникам – на дом с подарками. И здесь мне захотелось увидать барина в кухне, с одной стороны, потому, что я сознавал свое ничтожество, как писаришко из провинции перед генералом, и находил поэтому за лучшее протереться к нему с кухни, а с другой стороны, по провинциальному обычаю, мне хотелось услыхать о генерале кое-что от прислуги: хорош ли он и т. п. Вошел я по одной лестнице в третий этаж, сказали: ступайте по другой лестнице, а лучше спросите дворника… Дворника во дворе не нашел; дворницкая заперта, пошел наудалую по другой лестнице – на третью послали. Опять пошел я по какому-то крыльцу кверху; на четвертом этаже меня остановил дворник, спускавшийся сверху с двумя ведрами.
– Что ты тут шляешься? – крикнул он на меня.
– Я Черемухина ищу.
– Я те дам Черемухина! Кто ты такой?
– Я нездешний. Скажи, ради бога, где он живет.
– Я те покажу! нездешний… Пошел прочь!.. Ты должен дворника спросить, а не шляться по лестницам.
– Скажи, пожалуйста, – взмолился я.
В это время из левых дверей вышел молодой человек, приятной наружности, в сюртуке.
– Что тут? – спросил этот человек дворника.
– Да вон этот барина вашего спрашивает.
– На что вам генерала?
– Мне нужно.
– Они не принимают на дому. Извольте в департамент отправиться.
Я спустился. Обидно мне показалось, что меня даже и в кухню-то не пустили. "Врет! – думал я, – пойду с парадного". Во дворе я увидал другого дворника, с огромной вязанкой дров. Он мне рассказал, как нужно попасть с парадного хода в 18-й нумер. Вхожу в подъезд – точно зал: стены шпалерами оклеены, налево перед столом сидит на стуле швейцар с пуговицами и с позументом на фуражке и читает афишки, за ним вешалка, на которой висит шинель. На полу ковры, впереди лестница с ковром, на ней поставлены цветы.
– Кого нужно? – спросил меня небрежно швейцар.
– Черемухина.
– От кого?
– Сам от себя. – Мне стало обидно, что он принял меня за лакея. – Нельзя.
– Отчего?
– Сказано – нельзя, и все тут!
– Я из департамента, с приказом.
– Ну, пошел! Давно бы так сказал… Да пальто-то на вешалку повесь.
Повесив пальто, я пошел по лестнице по коврам. Сердце билось сильно. На стенах плоховатые картины – нарисованы деревья да девы какие-то; пахнет духами. Вот я и в третьем этаже. Смотрю налево: над дверьми – N 18, на одной половине двери медная дощечка и на ней вырезано: действительный статский советник Павел Макарович Черемухин. Стал я у двери, словно дрожь пошла по телу: вот, думаю, как отворит двери он сам, да как закричит… С замиранием сердца я взялся за звонок и сильно дернул его два раза. Через несколько минут мне отворил двери тот же лакей, который говорил со мною на черной лестнице. Увидав меня, он сказал сердито:
– Вам сказано, что генерал не принимает!
– Будто?
И лакей, не сказав ни слова, запер дверь.
Я ужасно был зол в это время и, плюнув чуть ли не на дощечку, сошел вниз.
– Его, говорят, нет дома, – пожаловался я швейцару.
– Я почем знаю, – проговорил швейцар, не отнимая глаз от какой-то газеты.
Отсюда я злой пошел прямо в департамент. В приемной стоял швейцар, очень высокий господин, как пугало в огороде с булавой. Я было пошел на лестницу, но он остановил меня.
– Снимите пальто.
В это время я уже смирился духом.
Я снял пальто и по просьбе швейцара дал ему за сбережение пальто пятнадцать копеек.
На мне был надет форменный сюртук, состряпанный в Орехе, с ореховскими пуговицами, давно отлинявшими, с протершимися локтями и полинялым воротником. Брюки были старые, полинялые; на одном сапоге дыра, – и поэтому мне стыдно было подниматься к департаменту. На площадке между двумя департаментами стояло шесть сторожей. Они очень любезно заговорили со мной и объяснили, что Черемухин еще не приехал, и так как теперь второй час, то он скоро будет. Узнавши, что мне надо, сторожа пожелали мне счастья. На площадке и по двум коридорам ходили чиновники в вицмундирах, фраках, пальто, пиджаках и сюртуках – старые, молодые и юноши. Я стоял робко и чувствовал, что я, в сравнении с ними, – дрянцо, и сознавал свое ничтожество перед ними; лицо мое горело, со сторожами я говорил запинаясь, ходил по площадке неловко, руки и ноги вздрагивали…
– Черемухин идет! – сказал один сторож, стоявший у перил лестницы, и вслед за тем вошел на площадку здоровый человек лет сорока, с важной надутостью в лице. В коридоре он спросил вахмистра здоровым голосом, протяжно:
– Директор здесь?
– Точно так-с, ваше-ство! – отрапортовал скороговоркой вахмистр.
– Спрашивал меня?
– Никак нет-с, ваше-ство!
– Доложи, когда придет вице-директор Н.
– Слушаю-с.
И генерал пошел по коридору, важно покачиваясь на правый бок и держа голову кверху. Многие чиновники кланялись ему низко, и он, как мандарин, кивал им слегка, а некоторым и вовсе не кланялся.
– Это он? – спросив я сторожа.
– Он. Он теперь в свое отделение пошел. Идите.
– Булку будет жрать, – заметил другой сторож, улыбаясь.
По указанию сторожа вошел я в большую комнату с лакированным полом, с семью столами разных величин, Чиновники одеты прилично, смотрят франтами; одни пишут, другие разговаривают, третьи читают газеты. Я никогда не ходил по лакированным полам и теперь боялся, как бы мне не упасть, потому что ноги имели к этому большое поползновение. Таким образом, смотря на пол и по сторонам, я заметил все-таки, что чиновников очень много; меня пробирала дрожь, и я не знаю сам, каким образом прошел много комнат и остановился только в последней комнате. Со страхом я подошел к какому-то высокому человеку в сюртуке, с палкой в левой руке, для того, чтобы спросить, где начальник такого-то отделения. Но я и тут сробел. А я от самого дома вплоть до департамента занят был тем – какую мне сказать речь начальнику отделения? В голову ничего не лезло, кроме слов: имею честь рекомендоваться, канцелярский служитель-помощник столоначальника Кузьмин… И это я твердил всю дорогу в то время, как шел по департаментской лестнице и когда шел по комнатам. Она мне не нравилась, хотелось сказать красивее, да ничего лучше не выходило. Теперь, занятый своей речью, я струсил высокого человека с палкой. Увидав меня, он спросил:
– Что надо?
– Я… Куз…
– Что-о? – чуть не заревел на меня человек с палкой. Я смотрел на его палку, которая точно прыгала.
– Мне нужно начальника… – и я забыл фамилию начальника отделения.
– Что вам надо? зачем вы шляетесь по отделениям! – закричал он и отошел прочь.
Ко мне подошел какой-то молодой чиновник и, переспросив, что мне нужно, указал дорогу и заметил:
– Зачем вы вице-директора беспокоите!
– Разве я знаю, – сказал я как-то глупо с досады. Пошел я по указанной дороге; ноги подсекались. Увидал Черемухина и подошел к нему. Он сидит налево, что-то жует и разговаривает громко с каким-то чиновником, сидящим около него. Я стал перед Черемухиным.
– Что скажете? – спросил он меня и встал.
– Имею честь рекомендоваться… – я закашлялся.
– Что нужно?
– Я, ваше превосходительство, Кузьмин из Ореховской губернии.
– А! Петр Васильевич! – обратился он к одному из подчиненных.
– Что прикажете? – спросил его кто-то. В глазах у меня рябило.
– О Кузьмине какое распоряжение сделано? – Причислили к департаменту.
– Ах! да! Вы к департаменту причислены, – произнес генерал таким тоном, как будто он мне сделал большое благодеяние.
Это благодеяние меня словно обухом ударило по голове. Я ничего не слышал, что говорилось вокруг меня и что делалось.
– Поняли? – спросил меня кто-то. Я очнулся. За большим столом сидело пять человек; трое из них смотрели на меня и улыбались; двое писали и о чем-то переговаривали друг с другом.
– Я в это отделение назначен? – спросил я одного чиновника, особенно пристально смотревшего на меня.
– Опоздали немного; директор другого велел определить, а вас причислили к департаменту.
– Сколько же мне дадут жалованья?
– Ничего.
– Да у меня всего-то денег шестнадцать рублей. Чем я буду жить?
Я опять подошел к начальнику отделения, и уже храбро:
– Ваше превосходительство! Я не могу быть причисленным к департаменту, потому что я имею всего денег шестнадцать рублей.
– Жалею!.. Кто же вас просил ехать?
– Да ведь мой формуляр затребовали! Вы хотя по воле меня примите.
– Директор говорит, что вы не обучались даже в гимназии… А у нас нынче даже много университетских причислено к департаменту. Впрочем, вы зайдите дня через четыре, я, может, улажу это дело.
Я пошел к директору. Долго я терся в приемной между разными чиновниками и кое-как дождался директора. Он уже шел домой. Это был высокий, тучный господин, с бакенами, лет тридцати пяти, в вицмундире без орденов.
– Что скажете? – спросил он меня небрежно, мимоходом, глядя в дверь.
Я объяснил ему, в чем дело.
– Подайте прошение, – сказал он мне и пошел.
– Да ведь я причислен к департаменту.
Директор обратился к какому-то чиновнику, вероятно правителю канцелярии.
– Что ему нужно?
– Вам что нужно? – переспросил меня правитель канцелярии.
– Кузьмин… Я из Ореховской губернии.
– Об нем, ваше превосходительство, хлопотал Симонов, ревизовавший ореховскую палату…
– У меня, ваше превосходительство, всего шестнадцать рублей, – сказал я директору.
– Доложите завтра! – сказал директор правителю канцелярии и, раскланявшись, ушел – домой.
"Ах, как хорошо быть директором! Власти-то сколько! Делай, что хочешь!" – думал я, спускаясь с лестницы. Пошел я на свою квартиру в большом горе. Первое, что вертелось в голове, – то: как я буду жить здесь? Ну, проживу я месяц, а потом? И я решился подождать еще четыре дня и потом искать службы где-нибудь в частных конторах. Проситься в департаменты я не мог, потому что у меня не было ни одного знакомого в Петербурге, а Симонов, который мне протежировал, назначен был в какую-то провинцию. Шел я по Невскому, и как мне противен он казался со своим блеском! – но при этом мне страшно было больно, что я не могу в Петербурге долго жить? Буду ли я в нем долго жить? Не знаю. Вот я и надеялся на перевод, а что вышло! Ехать назад не хотелось, да и на какие я поеду деньги?..
Андрей Васильевич, мой хозяин, тоже пособолезновал мне и стал просить зажитые мной у него за квартиру с пищей два рубля и при этом обидчивым тоном говорил мне, что он человек бедный, платит за квартиру дорого и ему от этой квартиры в пять комнат только убыток. Он уступил мне эту комнату за тридцать пять копеек в сутки на пять дней.
Скука была страшная в это время. Хозяин говорил глупости, да ему и некогда было беседовать со мной; сестра его, повивальная бабка, девица двадцати девяти лет, сетовала, что в Петербурге очень много бабок, практики нет, а в провинцию она не едет, во-первых, потому, что помогает в хозяйстве брату, а во-вторых, в провинции простой народ не доверяет ученым бабушкам. Шатался я и по городу– все невесело. Так бы и не глядел ни на что, так и вертелись в голове слова чиновников из Ореха: "Служил бы ты, служил здесь, а то, ишь, советником захотел быть". Опротивело мне глазеть по городу, и стал я лежать. Пролежал сутки, надоело. На другие сутки стал переписывать одну статью – ничего не лезет в голову; выпил водки для вдохновения, – хуже: спать захотелось…
Пришел в департамент. Черемухин объявил мне, что мне назначено заниматься в его отделении; что я буду числиться при департаменте впредь до определения в штат, а так как я человек бедный, то буду получать жалованье, как вольнонаемный писец.
– Сколько же мне будут давать? – спросил я помощника столоначальника, Василия Петровича, в стол которого меня отослал Черемухин.
– Не знаю. Рублей десять или восемь.
– А штатные сколько получают?
– Низший разряд – одиннадцать рублей с копейками, да в эмеритуру вычитают проценты.
Велели приходить на другой день на службу.
Теперь я немного повеселел и не робел, как сначала, а глядел бойко на людей, идущих и едущих, как будто получил богатство или считал себя петербургским жителем; больше прежнего заглядывался по сторонам, смотрел на богатства, разложенные на окнах в магазинах, читал вывески на домах и сердился, что вывески большею частью написаны не по-русски, читал названия улиц, стараясь запомнить на случай местность, для того, чтобы не плутать после. И неловко мне казалось толкаться в народе: пальто мое сшито не так, как у петербургских. Попадалось мне много книжных магазинов, не утерпел, зашел в один и купил одну книгу, заплатив за нее два рубля с полтиной.
Андрей Васильич опять стал просить денег; когда я отдал, то у меня осталось всего капитала семь рублей пятьдесят копеек. Повел он меня смотреть квартиры. Долго мы ходили по разным улицам и переулкам, останавливались у ворот и подъездов, на которых были прибиты бумажки, гласящие, что здесь отдается комната или отдаются квартиры с прислугой или без оных; заходили в дома каменные – четырехэтажные и в одноэтажные; был я домах в десяти или больше, но нигде не нанял квартиры по вкусу и дешевой. В одной квартире отдавали комнату проходную за пять рублей, но мне не понравилось то, что отдавала комнату молодая женщина, в дверях же другой комнаты стояла девушка лет восемнадцати, а в этой комнате на диване сидел военный писарь. В другой квартире отдавался угол, и в этой комнате, где отдавался угол, было, кажется, восемь человек налицо. Наконец, я вошел в деревянный дом с пятью окнами на улицу, одноэтажный; зашел я с первого попавшегося крыльца, какая-то женщина сказала грубо: с кухни! – и захлопнула двери. Кухня грязная, с одним окном, около которого сидит женщина лет тридцати пяти и что-то починивает. Недалеко от нее стояла женщина лет сорока, с измятым лицом и кричала:
– Я чиновница, слышь ты!
– Прохвоста, поди, какова! с солдатами таскаешься, – отвечала хладнокровно женщина, сидевшая у окна, продолжая шить.
– Здесь отдается комната? – спросил я чиновницу.
– Здесь. А вы один?
– Один.
Она повела меня к дверям – против кухонных дверей. Комната маленькая, с одним окном на улицу, грязная; шпалеры ободраны; налево дверь, только заперта. В комнате валялся какой-то мешок и стоял стул в углу.
– Сколько стоит?
– Четыре рубля.
– Тихо у вас?
– О! В этом не сомневайтесь.
– Мебели нет?
– Поставлю. Когда переедете?
– Сегодня.
Мы условились за три рубля, и я отдал ей задатку рубль серебром.
Вечером Андрей Васильевич нанял мне извощика за пятнадцать копеек (с меня просили 40 копеек), и мы поехали на новую квартиру. В моей комнате, однако, ничего не прибыло: в каком положении видел ее раньше, в таком же она была и теперь.
– Хозяйка дома? – спросил я ту женщину, которая починивала у окна что-то.
– Дома; да к ней пришел писарь-любовник…
– А мебель-то как же? Хоть бы чурбан, что ли.
– Да у нее и чурбаньев нету, не то что мебели.
Андрей Васильевич ушел разыскивать хозяйку, но немного погодя я услыхал, что он кричит недалеко от кухни. Я пошел искать его по коридору, в который выходили три двери: одни в хозяйскую комнату, другие к жильцам, я третьи в кухню. Но я не знал, где живет хозяйка, и отворил двери направо. Комнатка в два окна, чистая и порядочно меблированная, выходила на двор. У окна сидели две молодые женщины, а между ними сидел Андрей Васильевич и что-то говорил.
– А, это ты! садись. Это новый жилец, ваш сосед, – отрекомендовал меня Андрей Васильевич женщинам.
– Пойдем же хозяйку разыскивать, – сказал я ему.
– Ну, я не пойду. Садись с нами.
Однако я ушел и, отыскав хозяйку, спросил о мебели.
– Погодите, голубчик, завтра; а сегодня и так обернитесь.
Женщина, сидевшая в кухне, проворчала мне: ишь, верно, любовницу при себе держать хочет!
– Как так?
– А так. Эти дела я уж смекнула: они всего-то трои сутки переехали. А коли ты ихной любовник, я скажу тебе: к ним какой-то приказей ходит, должно из сенату. Одна, – та, коя помоложе, – шьет, а коя постарше – та все рыскает.
"Ну, здесь не житье мне", – думал я, входя в свою комнату. Долго я сидел на окне, повеся голову и обдумывая свое положение, потом пошел шляться по городу и прошлялся до двух часов ночи. Много грязи я видел в это время на улицах, в трактирах и садах, устроенных при трактирах, и так как это грязь, то я лучше умолчу об ней.
Когда я пришел домой, в доме, кажется, все спали, потому что ни в одном окне я не заметил огня, кроме лампадки, в которой горело масло перед иконой в хозяйкиной комнате. На крыльце и в сенях перед кухней была такая темнота, что я кое-как отыскал какие-то двери, около которых кто-то спал. Стал я стучать в двери, стучал долго, так что: разбудил спавшего человека.
– Кто тут? – пробурлил сердито мужчина.
– Я жилец.
Лежащий только перевернулся на другой бок. Опять я стал стучать. Отперли двери, только не эти, а другие, Сказавши на вопрос, кто тут, удовлетворительный ответ, я вошел в кухню, в которой было очень темно.
– Как вы поздно! – спросил женский голос.
– Нельзя ли посветить мне?
Немного погодя в кухню вошла девушка лет восемнадцати, в блузе, брюнетка; она постоянно зевала, лицо ее было измято. В кухне спало четыре человека – двое мужчин и две женщины. По стенам, полу и спящим гуляло множество тараканов, черных и красных. Один мужчина спал поперек двери в мою комнату. Девица хихикнула.
– Потом сидите дома, – сказала она мне.
– Чево еще вы с огнем-то тут! – вскричала какая-то женщина, лежавшая у стены.
Я пошел к двери; дверь не запиралась, и я перешагнул через спящего человека; девица таким же образом вошла за мной. Свечками я еще не запасся; поэтому я радовался даровому освещению. Налево, на полу спало двое мужчин, по-видимому, из рабочих, положив под головы мой чемодан, так что он был в середине, а они спали врозь, углом, и через одного мне нужно было опять перешагнуть. Это мне не понравилось, да и я боялся, чтобы у меня не украли последнее мое достояние.








