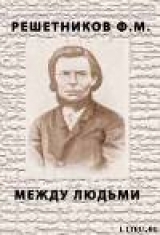
Текст книги "Между людьми"
Автор книги: Федор Решетников
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 15 страниц)
Река наша немногим доставляла удовольствие, и если кто любил сидеть на берегу, так это только почтовые. Когда появился один пароход, тогда берег стали посещать любопытные, и предметом их любопытства был пароход. Когда же появилось больше пароходов, публике надоели они, и она стала наслаждаться только одним гуляньем на бульваре. Берег только тогда и наполнялся людьми, когда шел лед на реке и когда шли барки, но это был только бестолковый смотр. Немногие, впрочем, любили кататься на реке и пить чай за рекой, но никто так не пользовался этим удовольствием, как почтовые. Для нас был большой праздник, когда мы уплывали за реку и под открытым небом закусывали и пили чай. Но никто так часто не плавал за реку, как дядя Антипин. Я часто просился, чтобы он взял меня с собой. Придет он к нам и отпросит у дяди меня. Отправимся мы за реку с удилишками с вечера; поудим немного, разведем огня и сидим всю ночь у огня. Здесь я забывал все, что мучило меня в эту неделю или в этот день, и как хорошо мне казалось такое сидение у горящего хвороста, это уединение, этот простор и свежесть воздуха! Понимал ли дядя Антипин все это – не знаю, только он говорит, что здесь он как будто отдыхает. Чего-то чего мы не говорили в то время! Он очень любил меня и много рассказывал мне и своим детям хорошего, как иногда дома; я заслушивался его и забывал в это время город, который казался мне пугалом; я дышал свободно – и с какой любовью смотрел я на реку, на лес и необъятное пространство! но и тут я ничего не понимал, а только смотрел во все глаза…
Хорошее это было время. Случалось мне бывать и после за рекой, ходить в леса, но уже чувствовалось иначе…
Был у нас также и театр. Все почтовые ходили в театр даром, и дядя каждый раз, как бывал весел, брал меня с собой. Сначала мне нравилась публика, собрание народа; потом меня смешили актеры, и я так пристрастился к театру, что плакал, когда дядя не брал меня с собой или не отпускал в театр. Приходя домой, я старался говорить так же, как и актеры, но я не мог говорить так, и у меня выходило очень смешно. В училище, до классов, я разыгрывал роль какого-нибудь актера, и меня прозвали фокусником. Был у меня там один товарищ, который жил с актерами и переписывал им роли. С ним мы постоянно что-нибудь декламировали и что-нибудь разучивали по тетрадкам и без тетрадок. Как мне, так и ему хорошо казалось быть актером; мы запоминали из разных сцен в десять раз более того, что заставляли нас учить в училище. Два года он ходил в театр, знал много сцен и песен и даже раз просил дядю, чтобы он отпустил меня в актеры, но он обругал меня и не стал отпускать больше в театр.
Я ходил в училище четыре года, и в это время ровно ничего не понимал из задаваемых уроков, да и мне самому не до уроков было. В классе я сидел просто для своего удовольствия. Меня не драли, потому что я старался выслужиться перед учителями и смотрителем тем, что заменял им сторожа: приносил им письма, пакеты и сдавал их корреспонденцию. С какою радостию я шел в училище тогда, когда нес какому-нибудь учителю письмо!.. Учитель мне не говорил благодарности, а зато и не спрашивал меня из уроков целую неделю, а если и спрашивал, то не оставлял без обеда. Также с неописанною радостию я смотрел на того учителя, который писал кому-нибудь письмо. Ребята рады были, что учитель отвлечен от занятий, а я думал, что, кроме меня, отнести на почту письмо некому. Письмо написано; учитель просит бумаги, весь класс вмиг зашевелится и предлагает ему кто лист, кто пол-лист, а я предлагаю сделанный уже конверт. Запечатавши письмо, учитель отдавал его мне с десятью копейками. Я брал и говорил, что денег не надо, что я попрошу дядю. Учитель брал деньги назад. Я уходил домой или в контору, стараясь прийти в класс к чистописанию или к такому предмету, который был для меня как блины, то есть по которому меня никогда не спрашивали. Письмо я отдавал дяде, который хотя и ругал учителей, а письма все-таки отправлял. Если же учителя и отдавали мне деньги на простые письма, я все-таки деньги брал себе, и дядя отправлял письма или даром, или на свой счет. Смотритель всегда спрашивал меня о приходе почт, и если ему нужна была какая-нибудь почта, он посылал меня справиться. Один учитель постоянно называл меня почтой, и я слыл по всему училищу "почтой".
– Эй, почта! пришла такая-то почта?
– Нет еще… Сходить узнать? – говорю я и беру уже шапку.
– Ишь, шельма, рад. Я тебя еще урок спрошу, а потом на почту пошлю.
Весь класс хохочет, а я начинаю сердиться и придумываю, как бы уйти домой.
– Почта скоро будет! – говорю я.
– Рад, рад. Ну-ка, скажи урок. Не знаешь? А?
– Знаю.
– Ну-ка, иди к доске.
Пойду я к доске и хлопаю глазами.
– Ну, что? А еще почта… Хошь, выдеру? Класс хохочет, а мне досадно, и я думаю: уж сделаю же я с тобой штуку – не принесу письма и поди сам; или изорву твое письмо, сам прочитаю, всему классу расскажу. Учитель меня не выдерет, поставит против моей фамилии палку в своем журнале, а на почту все-таки пошлет. На палки я не обращал внимания, зная то, что смотритель меня не выдерет, а если и выдерет раз в месяц, так это еще не беда. По окончании месяца смотритель драл всех ленивых, всего училища, в том числе и меня. Зная, что смотритель дает первым наказываемым много ударов, я становился в разряд самых последних, которым приходилось меньше ударов и гораздо легче, потому что сторож уставал, да и меня сторож наказывал легче всех, потому что я в этот день дарил его десятью копейками денег; а раньше приносил ему калачей, как и прочие товарищи.
Еще было другое обстоятельство, по которому учителя обращались со мной очень ласково и чего не мог сделать в училище ни один ученик. Я носил учителям газеты, журналы и картинки. Это делал я очень просто.
В контору я ходил всегда: и днем и ночью, и при почтах. Так как дома мне запрещалось читать книги, то я выдумал средство читать их в училище, а достать книги я легко мог из конторы. Газеты и журналы разносили по городу сторожа, а сторожа эти были неграмотные. Когда придет тяжелая почта, я всячески стараюсь угодить очередному сторожу чем-нибудь, – для того, чтобы он попросил меня сделать подборку журналов и газет по городу; а раньше этого я высматривал, что лучше утащить, соображал, как утащить, и между тем терся у тех сортировщиков, которые читали газеты, которые им дозволялось получателями распечатывать. Сторожа, как и почтальоны, делали подборку так, чтобы им идти по городу по порядку, из дома в дом, и назад не ворочаться из улицы в улицу.
– Ну-ко, подберем разноску! – говорит мне сторож; я рад, чуть не прыгаю, а ему говорю:
– Много ли дашь?
– Сургучик дам.
– Мало!
– Свинчатку… (Я брал свинчатки, прибиваемые к чемоданам; мой дядя и я употребляли их на грузила для рыболовства; а как их у меня и без даренья сторожами было много, потому что я их воровал, то я продавал их рыболовам.)
– Не хочу.
– Ну-ну, полно… мне некогда, подметать надо в конторе.
И начинаем мы подборку так:
– Кто первый? – спрашиваю я.
– Первый Елисеев, не знаешь разе?..
Я ищу Елисеева и подаю сторожу.
– Антонов теперь.
Я нахожу Антонова и подаю ему книгу Шатилова.
– Шатилов после; он в середине. Иванов теперь будет. – Я ищу Иванова, откладываю его в сторону; опять ищу и говорю сторожу, что Иванова нет.
– Ну, после найдем; давай Петрова! – И так продолжается до половины подборки. Я слегка сброшу газеты две на пол.
– Все ты, бестия, балуешь! – Сторож подбирает с полу газеты, а я тем временем и схвачу две газеты, и спрячу их под сюртук, придерживая их левой рукой незаметно.
– Ну, теперь кто? – спрашиваю я.
Если мне не удается стянуть при подборке, я подкарауливаю, куда сторож положил сумку с газетами и книгами; потом уже после успею утащить. По этому обстоятельству сторожа почти каждый раз приходили назад с руганью:
– Черт его знает! пришел к Петрову: искали-искали ему газеты; ровно подбирали, а Петрову нету.
– Ну, потерял, выходит,– смеются почтальоны.
– Черт его знает!
Я говорю, что или были газеты, или нет. Получатель на сторожа не жаловался, и сторож только сетовал за гривну меди, которой он лишался. Если получатель не получал книги или много номеров газет, он жаловался конторе, та отписывалась куда следует, оттуда получались ответы: "Отправлены по принадлежности"; тем дело и кончалось.
Письма и казенные пакеты разбрасывались по столам небрежно. Мне нравились красивые конверты, и я крал письма и пакеты. Утащивши, я забирался в такое место, где никто не мог меня видеть, распечатывал и читал их. Как бумаги, так и письма не интересовали меня, и я бросал их через забор или куда-нибудь в такое место, откуда их никто бы не достал. От этого чтения я узнал только форму канцелярского изложения и разные тайны людей. Приходя в класс, я давал учителям читать газеты и книги, говоря, что это дядины. Учителя рады были почитать новостей и всегда спрашивали меня:
– Пришла почта?
– Пришла.
– Есть газеты? – и проч.
Ученики были рады, что учителя занимаются чтением целые часы, и все в это время свободно шалили. Большею частию учителя уносили газеты и книги домой и мне их редко возвращали, а если и возвращали, то я дарил их своему приятелю, сидевшему со мной рядом, тому самому, с которым я представлял актеров.
Итак, житье мне было хорошее: в классе я только числился, в почте меня любил почтмейстер за то, что я уже знаю хорошо почтовую часть, и поговаривал дяде, что он меня сделает сортировщиком.
Я знал весь почтовый механизм и помогал то дяде, то какому-нибудь почтальону. В свободное время я писал крестьянские письма, и так приучил крестьян к себе, что они шли больше ко мне, чем к почтальонам. Приходит крестьянин в контору и говорит:
– Мне бы грамотку послать.
Я подхожу к нему первый и спрашиваю:
– А написана?
– Надобно написать.
– Ну, иди, я напишу.
Крестьянин с недоверием посмотрит на меня.
– А сумеешь ли, экой-то?
– Не тебе первому пишу. Много ли дашь?
– А ты что возьмешь?
– Двадцать копеек.
– Дорогонько.
Подходит почтальон и перебивает:
– Я напишу тебе.
– А ты за сколько?
– Четвертак.
Я соглашаюсь за пятнадцать и начинаю писать крестьянину письмо. Писать крестьянам письма очень трудно. Они не знают формы изложения, посылают больше поклоны, и нужно уменье написать то, что они хотят высказать, да не умеют высказаться. Я писал им всегда ихним слогом, потому что иным слогом я тогда не умел писать. Излажусь я совсем писать и спрашиваю: кому писать?
– Да сыну родному; третий год не писывали. Нынче грамотку прислал, родной.
Я спрашиваю имя.
– Илья Якимов.
– А твоя фамилия как?
– Якимов.
– А зовут?
– Петром.
Я и пишу так: любезный сын, Илья Петрович! А почтальоны обыкновенно писали – Илья Якимыч, и на конвертах ужасно путали, отчего письма постоянно возвращались назад или пропадали на почте. После родительского благословения следовали поклоны от двадцати человек, которых непременно нужно назвать по имени и отчеству. Письмо, кажется, уже кончено, а окажется, еще надо что-то написать. Прочитаешь крестьянину письмо.
– Ладно, – говорит он.
– Еще что?
– Да что еще, ровно – будет… Надо бы написать, Сергунька Лихой в город нонись ушел, да уж плевать.
– Ничего, напишем.
– Ну, пиши еще.
– А еще что?
– Кирьян Панфилов погорел, жена ногу сломила; такая оказия вышла – ужасти! наказанье божье. – И пойдет крестьянин расписывать свое горе; я хотя и позабуду все, а напишу что следует. И все, что прибавляется, читаю с началом, по нескольку раз. Наконец письмо кончено совсем.
– Ну-ко, прочитай еще.
Я начинаю читать, двое или трое крестьян слушают.
"Любезный сын, Илья Петрович!
Желаю тебе с женою своей, твоей матерью, Маланьей Акудиновой, доброва здоровия, хороших успехов в делах твоих и посылаем тебе наше заочное родительское благословение, навеки нерушимое, и посылаем по поклону. Молим господа бога, царя небесного, и пресвятую мать-владычицу, чтобы они спасли тебя и помиловали. Тетушка Арина Поликарповна и дядюшка Евстегней Поликарпыч кланяются тебе. Крестный батюшка, Антип Савич, и крестная твоя матушка, Акулина Марковна, желают тебе здоровья, посылают свое благословение и кланяются. У тетушки Маланьи Степановны родился сынок Петруша. Тетушка Маланья Степановна с детками: Петрухой, Кирьяном, Ларькой и Петрушкой – кланяются… А Сергунька Лихой, что, ишь, украл лошадь у Павла Безпалова, нонись в город ушел работать, а детей оставил с матерью".
– Надо бы прибавить: Маланья-то хочет тоже в город идти, – перебивает посторонний крестьянин.
– А зачем? – спрашивает хозяин письма.
– Уж все к одному бы.
– Ну, нешто, пиши.
Я впишу:
"Кирьян Панфилов погорел зимусь: все дотла сгорело. А жена его, слышь ты, ногу сломала. Наказанье божье. Хлеба ныне плохи, а начальство строго, все норовит стянуть с нашего брата. Кланяются тебе все знакомые и приятели. При сем посылаю тебе три рубля серебром, насилу-насилу собрали. Остаюсь здоров, отец твой Петр Якимов".
Крестьяне в восторге от этого письма и наперерыв просят меня сочинять им письма. Около меня собирается кучка. Приходят те, которым писали почтальоны.
– Написал? – спрашивают крестьянина товарищи, видя у него в руке конверт.
– Написал, да ровно негоже.
– А вот этот мастер… А тебе, братан, который год?
– Скоро четырнадцатый будет.
– Ишь ты! прозвитер какой…
– А ну-ко; прочитай, братаник.
Я прочитаю. Он просит меня написать ему письмо снова.
Написавши крестьянину письмо, я, из жалости к нему, давал ему свой сургуч и печатку даром. Я знал, что все почтовые отправляют свои письма даром и даром же отправляют письма своих знакомых и доставляют по принадлежности письма некрестьянские. Крестьянин обыкновенно отдавал письмо почтальону, потому что он боялся опустить простое письмо в ящик, думая, что оно не дойдет; а как на простых письмах адресы писались неверно, то почтальоны делали такие штуки: скажет крестьянину, что он довезет письмо сам, сделает конверт, запечатает, возьмет с него пятнадцать копеек, а лотом письмо издерет и деньги возьмет себе. А так как крестьяне большею частию думали, что простое письмо не дойдет, то они посылали их с деньгами. Денежное письмо каждому крестьянину обходилось очень дорого: за бумагу он заплатит две копейки, за сочинение письма двадцать копеек, за сургуч и печать даст сторожу шесть копеек (хотя печатка и возвращалась сторожу обратно), страховых и весовых за один лот с одним рублем четырнадцать копеек и за расписку в книге шесть копеек. Если же крестьянин посылал только десять копеек, то ему отправка письма стоила дороже посылаемой суммы!
Почтальоны ругали меня, что я отбиваю от них доход, но я не обращал на это внимания. Я хотел угодить крестьянам, потому что они мне нравились, да и дядя всегда говорил мне, что крестьяне – народ бедный и все мы едим крестьянский хлеб и живем, большею частию, на крестьянские деньги. Тетка и дядя были в восторге от того, что я получал в конторе доходы, и на мои деньги покупали мне ситцу и сластей. Кроме этой траты, у меня все-таки были деньги.
Между тем моя практика по краже корреспонденции усиливалась все больше, и больше; в конторе начали уже серьезно подумывать, что это, вероятно, проделки кого-нибудь из почтовой братии. На меня не было подозрений, тем более что я жил у дяди, человека любимого почтмейстером. Мне так понравилось красть, что я не пропускал ни одного дня и ни одного случая, чтобы не стянуть чего-нибудь. Не ограничиваясь одними газетами, я воровал пакеты и письма, потом рвал их и бросал в чужой огород по ночам, думая, что там самое безопасное место для их вечной памяти. Все, что мне нравилось, я носил в училище и отдавал учителям, потому что дома мне нельзя было держать ничего из ворованного. Наконец, мне уже стыдно казалось воровать; я сознавал, что делаю скверно, отдавая другим, а сам для себя ничего не приобретаю; я дужал, что сколько я ни пакостил прежде, все штуки мои не сходили мне даром, так и теперь могут открыть мои проделки; но я все-таки еще думал, что узнать, что я ворую, трудно, и я продолжал свое ремесло. Приходил домой я из училища с боязнию: вот узнали, что ворую. А в конторе что скажут?.. Мне хотелось остановиться и не красть больше; но когда я ничего опасного не замечал в почте, я другим утром уже тащил в класс картинку или газету. Шел я с трепетом и думал: "Господи! как бы не узнали! Уж я в последний раз это делаю…" И это я говорил не десять разов, а без счету.
Однако и этому пришел конец.
Дело было в великий пост. Учитель читал газету. В класс вошел сортировщик, враг моего дяди. Он вежливо поздоровался с учителем. Меня обдало морозом по коже: я догадался, зачем он пришел. Я готов был бежать в это время из училища и броситься в реку. Долго этот сортировщик шептался с учителем, и я ясно слышал: свою фамилию, "газеты", "книги", "пакеты". Учитель отдал ему газету; сортировщик вызвал меня из класса.
– Ты воровал газеты?
– Нет, с чего вы взяли? – не обругал его.
– А это что? – и он показал мне газету. Я запирался. Он спросил других учителей, и те сказали, что я носил много газет и книг. Пришел смотритель и начал допрос. Я долго запирался, но когда он стал пугать меня военной службой, я все сказал.
Через час от моего друга привезли целый ящик с газетами и книгами. Сортировщик привез меня с ящиком в контору; я убежал домой. Дядя в это время говел и был в церкви, тетка что-то шила. Я, как вошел, заплакал, упал перед ней на колени и ничего не мог выговорить. Тетка испугалась, задрожала.
– Что с тобой?
Я ничего не говорил.
– Выгнали тебя, что ли?
– Нет… Я газеты воровал… – И я залез на печку, думая, что меня никто там не найдет. Тетку это так поразило, что она заплакала. Я думаю, ей очень больно было в это время.
Меня позвали в контору. Я не шел; однако тетка прогнала меня с печки кочергой. В конторе все смотрели на меня с удивлением и презрением – уже совсем иначе, как смотрели вчера. Я плакал, и меня ввели в присутствие, где было очень много народу по случаю набора; на полу валялись бумаги…
– Ах, ты мошенник! В острог его, каналью, посадить! – закричал почтмейстер.
Меня повели в письмоводительскую. Там тоже были разбросаны разные бумаги, газеты и книги. Письмоводитель что-то писал, напугал меня так, что я сознался в воровстве, отвечал, сам не зная что, и подписал какую-то бумагу.
Между тем пришел в контору дядя в страшном испуге. Почтмейстер обругал его; дядя только молчал. Все дело было в том, что в огороде, куда я бросал бумаги, стаял снег; стали убирать разный хлам и нашли разные бумаги и нераспечатанные пакеты.
Тогда мне был четырнадцатый год.
На другой день меня выгнали из училища. Учителя отперлись от всего, говоря, что хотя я и носил газеты, но они думали, что это дядины, а не городские. Обо мне заговорил весь город. Дядя не выгнал меня из дома, даже не выдрал, а ходил как помешанный целую неделю. С этого дня я числился под судом, и мое дело продолжалось целые два года.
Тяжело мне было жить в эти годы. Сначала мне было стыдно выйти из дома, стыдно встретиться с кем-нибудь; все друзья мои отшатнулись от меня, и я сидел дома в углу за дверьми, читая географию или катехизис… Книги не шли на ум, а я все думал об том, что-то со мной будет. Я сознавал, что я обидел дядю, сделал ему большое зло… Я готов был бог знает что сделать для дяди, только бы он не сердился и прекратил всякое дело. Меня хуже прежнего стали ругать, корили родным отцом, грозились отдать в солдаты и требовали, чтобы я все делал с толком. В это время я был слугой дяди и тетки: носил воду, дрова и делал все, что только делает прислуга, и я был доволен этим. Много я передумал в это время; мне хотелось исправиться, но мне трудно было отстать от воровства; хотелось говорить с теткой ласково, но я не мог ей слова сказать так, потому что я был очень запуган, а язык точно прилипал во рту… Часто я плакал с горя и давал богу обеты, что пойду в монастырь… В моей голове был чистый хаос: то рисовались какие-то страшные картины, то чего-то хотелось; то мне себя было жалко, то я думал об дяде, то мне уйти куда-то хотелось, то не нравился весь город со всеми людьми. Но, как помню теперь, я ничего тогда не мог осмыслить, а только сваливал всю вину на людей.
Дядя много истратил денег по моему делу, много хлопотал, а я все сидел дома. Наконец меня послали в монастырь на три месяца. В монастыре я носил воду, дрова, пел и читал в церкви и исправлял там самые низшие должности, за что меня часто поили пивом, брагой и водкой.
Многому я насмотрелся в монастыре. Мне нравилась тамошняя жизнь, потому что многие там решительно ничего не делали. Мне весело там было; но и не нравилось то в них, что они живут по полумонашески и полусветски. Там я видел только черные рясы, а жизнь была такая же, как у светского духовенства… Сначала мне хотелось остаться там, но когда я пожил среди братии, пригляделся к ним и понял, что еще не нищий и могу сам приобретать себе кусок хлеба честным, безукоризненным трудом, я разубедился в прежних своих намерениях… Уж разве, думал я, совсем состареюсь, или мне будет лень работать в мире, – тогда изберу себе этот образ жизни. А к этому заключению я пришел уже тогда, когда кончался срок моего пребывания там, и потому, что один добрый и образованный монах жалел меня. Он говорил мне много о своем житии, в которое он попал не по своему желанию.
Не знаю, вынес ли я что-нибудь хорошего из монастыря, переделал ли он сколько-нибудь меня. Впечатления, вынесенные оттуда, остались даже до сих пор; до сих пор я не могу забыть всего того, что пришлось мне испытать там; два года меня тянуло туда, но мне как-то особенно нравилось светское общество. Я сделался задумчив; много я думал о всякой всячине, но ничего не мог придумать хорошего сам собой, ничем не мог утешить себя. Ни тетка, ни дядя, ни мои знакомые, ни учителя, ни даже законоучитель не могли мне объяснить моих вопросов. Мне говорили, что я задаю себе вопросы по глупости, и я должен верить тому, что написано и чему нас учат. А мне этого мало было; мне досадно становилось, что я не могу найти себе такого человека, с которым бы мне можно было посоветоваться и который бы научил меня уму-разуму. Я учился опять в том же училище и учился уже хорошо. Меня ставили в пример; и хотя наши учителя были люди молодые, заботящиеся о развитии мальчиков не розгами, а толком, но и они ничего мне не могли сказать, а только говорили: тебе еще много учиться надо. Но мне приближался уже девятнадцатый год; дядя хотел меня определить на службу, а об учении и думать не велел; к тому же он и не имел денег, чтобы я мог поступить в гимназию. В это время я много занимался книгами, но как помню, то были все глупые книги. Хотя же в училище и была библиотека, но смотритель не давал ученикам книг; если же я просил книг у учителей, они говорили, что у них нет для меня книг.
В это время дядя и тетка не бранили меня, потому что я всячески старался делать так, чтобы не сердить их. Мне жалко было их, потому что я много сделал им неприятностей. Наши знакомые удивлялись, что я веду себя как следует, хорошо, и ждали случая, когда я сделаю что-нибудь такое, что небу будет жарко. Я постоянно сидел дома или рыбачил с дядей и постоянно молчал, потому что говорить с дядей и теткой нечего было, да они и не любили со мной разговаривать. Все игры я называл глупостью и удивлялся над тем, почему это люди, уже женатые, делают глупости. Я начинал приглядываться ко всему: к семейной жизни людей, к обращениям и ко всему, что только попадалось на глаза… Работы в моей голове много было; я старался сам все понять, но чувствовал, что я еще больно глуп и неразвит. Досадно мне было, и думал я в это время: хорошо бы мне умереть теперь, а то для чего я буду жить? Может быть, я думал это оттого, что мне страшно опротивел город, а может быть, и оттого еще, что мне хотелось жить одному, а этого я никак не мог сделать; и не было у меня ни одного такого человека, с которым бы можно было, как говорится, душу отвести.
Дядя крепко начинал попивать водку и говорил, что он пьет от меня, с горя. Тетка очень любила дядю и всячески советовала ему не пить водку, но он кричал на нее и бил ее. Потом он пристрастился к карточной игре, просиживал ночи, проигрывал деньги. Тетка целую ночь ждала его и плакала; утром, когда приходил он злой, она капризничала, дулась целый день. Но ее капризы ни к чему не повели. Начались разные возмутительные сцены, раздоры: дядя гнал тетку, она не шла.
На девятнадцатом году я кончил курс. Я очень весел возвращался домой с акта, держа в руке аттестат. Тетка меня ждала и встретила у калитки со словами:
– Ну, что? еще на год оставили?
– Нет; вот аттестат. – Я показал ей бумагу.
– Едва-то, едва выучился. – А на глазах ее были слезы. Мне тоже хотелось плакать, и я поклонился ей в ноги.
– Покорно благодарю, маменька. Покорно благодарю за все, – сказал я.
– То-то и есть. А сколько ты нам бед-то наделал! Сколько ты нам стоишь!
– Простите!
– Благодари отца… А я что? – И она поцеловала меня.
Дядя холодно принял мою благодарность. Прочитавши аттестат, он сказал мне:
– Вот, скот ты эдакой… Ты должен ноги мои мыть и воду пить… Сколько я истягался на тебя, а?
– Покорно благодарю, папенька.
– Ну, то-то. Все вы не чувствуете добродетелей.
– Полно… Авось, он и не забудет нас, – вступилась тетка.
Этот день я провел лучше всех моих дней в жизни. Когда я лег спать, то долго-долго думал о том, что было со мной до этого, и плохо мне как-то верилось, что я теперь уже сам имею права и сам скоро буду таким же, как и мой дядя… Я вспомнил отца и, по привычке плакать, горячо плакал, думая: "Эх, отец! Посмотрел бы ты теперь на меня… Обрадовался бы ты или нет?" И как я благодарил в душе дядю и тетку! "Как только буду я получать хорошее жалованье, непременно куплю ей на платье, а дяде на сюртук… Уж буду же я кормить и поить их, чтобы они не сердились на меня".
Я чувствовал, что теперь как будто с моих плеч свалилась какая-то тяжесть; мне казалось, что я теперь, пожалуй, равен сортировщикам и вообще служащим в губернских присутственных местах. Дядя, как я замечал, гордился мною, тетка не бранила за курение табаку, а только ворчала на то, что я курил дядины папиросы. Теперь я мог читать свободно все, что мог достать где-нибудь, и я зачитывался до того, что пропадал из дому с книгой на целые сутки; и по мере того как я читал, я находил, что я еще знаю очень мало, мне надо еще учиться, – и я стал проситься в гимназию. Дядя осмеял меня. Он был убежден, что сделал все для моего развития. Он видел, что я ростом с него; из разговоров моих замечал, что я знаю больше его; знал, что умею красиво переписать, кое-что сочинить, даже что-то такое, о чем он не имеет ни малейшего понятия, – и радовался этому. Радовался он этому потому более, что я кончил курс в уездном училище, имею права, могу служить, могу получить чин, и, стало быть,– чего же мне еще надо? Я должен благодарить его, что он на ноги меня поставил… А что мне еще нужно учиться – это он считал нелепостью. Также с ним соглашалась и жена его, моя тетка. Эта женщина была очень неразвита. Воспитывалась она очень бедно, с десяти лет торговала на рынке калачами, на семнадцатом сидела в лавочке и на восемнадцатом году вышла замуж за почтальона, которому она понравилась лицом и которого она впоследствии очень полюбила. Не обученная грамоте, путавшаяся в денежных расчетах, она хороша была для мужа тем, что умела хорошо стряпать и печь, умела шить, любила чистоту и старалась во всем угодить самому, который был для нее выше всего на свете. Ей ничего не нужно было, кроме того, чтобы муж ее был здоров. Без мужа она бы погибла, потому что на чужих людей ей стыдно было работать, а ремесла она никакого не брала. При муже она была сыта, спала вволю, водила знакомство только с теми, кто ей нравился; больше ей ничего не нужно было, даже религия для нее, после мужа, была на втором плане. Могла ли эта женщина развить мой ум? Нисколько. Она учила меня быть честным, не воровать, любить и почитать старших для того, чтобы они любили меня, а если старшие будут любить меня, я буду жить так же, как и ее муж, мой дядя. Часто я что-нибудь рассказывал ей из истории; она удивлялась, но через неделю забывала. Она даже забыла много молитв, не знала, кто раньше жил – Авраам или Христос, верила предрассудкам и снам, гадала в карты, ходила к ворожеям и т. п. Из моих рассказов она выводила то заключение, что я очень умен, и удивлялась: отчего это я много знаю, а она и дядя ничего не знают? Я говорил ей, что я еще ничего не знаю, мне надо многому учиться; она морщилась и говорила: "Будет, зачитаешься – с ума сойдешь. Еще чернокнижником сделаешься…"
Но был ли я на самом деле умен, каким считали меня дядя и тетка? По их разумению, я был умен, и мне больше образовываться нет надобности, так как они думали, что я уже все знаю, знаю больше их, – и слава богу. Не хотели они большего моего образования потому еще, чтобы я не зазнался и не отделился от них. В это время я был очень задумчив и приглядывался к жизни, к окружающим меня людям, которых сравнивал с собою, с дядей и теткой, – но выходил какой-то хаос. Но самое лучшее было для меня – это сидеть на берегу реки или на реке в лодке с удилишком, простору было много, но толку все-таки не выходило. Часто случалось, что я, сидя на реке в лодке, глядел куда-нибудь вдаль, глаза останавливались на одном месте, а в голове чувствовалась какая-то тяжесть и вертелись только слова: "Как же это?.. отчего же это?.." – и в ответ ни одного слова. Очнешься и плюнешь в воду; начнешь удить и думаешь: "Ах, если бы у меня были деньги, я бы накупил книг много-много, я бы все выучил… и человека бы такого надо, который бы объяснил мне все это". В голове черт знает что; осердишься, вздохнешь и скажешь: зачем же они взяли меня к себе, измучили, сделали из меня дурака? Зачем же я не остался таким же дураком, как и почтальоны, нигде не учившиеся, которые только и думают об том, как бы им наесться, напиться, поспать да угодить начальству?.. И жил бы я, как животное, а то вот все думаешь, все хочется узнать: что, и как, и отчего, и почему происходит. Узнаю я, других буду учить, пользу какую-нибудь принесу, спасибо скажут, а что за человек, когда я ничего не знаю, когда я гожусь только в переписчики!
Многого мне хотелось, много хотелось знать, но мне мешали, меня ругали за это желание; и чтобы я не думал много, не сидел понапрасну долго и не марал понапрасну бумагу, дядя решил определить меня на службу как можно скорее. До сих пор чиновный люд я понимал так, что они только пишут и за это получают деньги и чины, но я не думал, чтобы они приносили кому-нибудь какую-нибудь пользу. Для кого же они пишут-то? думал я и спрашивал дядю. Он говорил, что они – служат.








