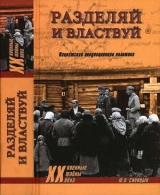
Текст книги "Разделяй и властвуй. Нацистская оккупационная политика"
Автор книги: Федор Синицын
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 33 страниц)
Планы по депортации балкарского народа в наказание за «предательство» и «неспособность защитить Эльбрус» родились у Л.П. Берии в январе 1944 г.{1650} 8–9 марта 1944 г. была проведена операция по выселению балкарцев, в рамках которой в Казахстан и Киргизию было депортировано 44 415 чел. 8 апреля 1944 г. Кабардино-Балкарская АССР была переименована в Кабардинскую АССР. Территория Балкарии, прилегающая к Эльбрусу, была передана Грузинской ССР. 20 мая 1944 г. Л.П. Берия запросил у И.В. Сталина разрешение выселить из Кабарды 2467 «немецких ставленников и предателей». В «обоснование» недоверия к кабардинцам, Л.П. Берия предоставлял И.В. Сталину информацию о заброске на Кавказ германских агентов из числа кабардинцев в июле – августе 1944 г.{1651}. Однако тотальной депортации кабардинского народа не последовало.
К апрелю 1944 г. руководство Крымского обкома ВКП(б) прямо обвиняло крымско-татарский народ «в пособничестве немцам», а в других документах отмечалось, что крымские татары «не приветствуют возвращение Красной Армии». 2 апреля и 11 мая 1944 г. ГКО издал постановления о выселении крымских татар из Крымской АССР в Узбекскую ССР, 29 мая 1944 г. – из Краснодарского края и Ростовской области в Марийскую АССР, Горьковскую, Ивановскую, Костромскую, Молотовскую и Свердловскую области РСФСР. Операция по депортации крымских татар была проведена с 18 по 21 мая 1944 г. 2 июня 1944 г. Л.П. Берия предложил И.В. Сталину выселить с территории Крымской АССР проживавших там болгар, греков и армян, что было поддержано. В итоге к 4 июля 1944 г. из Крыма было выселено 183 155 крымских татар, 12 422 болгар, 15 040 греков, 9621 армян, 1119 немцев, 3652 «иноподданных», а также «изъято» 7833 чел. из числа «антисоветского элемента»{1652}. 30 июня 1945 г. Крымская АССР была преобразована в Крымскую область{1653}.
16 июня 1944 г. состоялась депортация ряда «антисоветских элементов» из Прибалтики. В ночь с 5 на 6 февраля 1945 г. было выселено 673 чел. немцев и лиц без гражданства из Риги, которые были отправлены эшелоном в Коми АССР «для трудового использования»{1654}. Массовая депортация из Прибалтики была проведена после войны – в 1948 г. (операция «Весна»){1655}. На Западной Украине депортация семей «оуновцев» планировалась еще до освобождения этого региона. В этом регионе за период с 1 февраля по 31 декабря 1944 г. было выселено 13 320 чел., за первое полугодие 1945 г. – 5395 семей 12 773 чел.{1656}.
Всего за годы Великой Отечественной войны с исконных мест проживания в СССР было переселено: немцев – 949 829 чел., чеченцев, ингушей, карачаевцев и балкарцев – 608 749 чел., крымских татар, болгар, греков и армян – 228 392 чел., калмыков – 91919 чел., «немецких пособников» и «фольксдойче» – 5914 чел. и др. Положение депортированных людей («спецпереселенцев») на новых местах проживания было тяжелым. Депортация привела к резкому росту смертности среди репрессированных народов: в 1944–1946 гг. умерли 23,7% чеченцев, ингушей, карачаевцев и балкарцев, 19,6% крымских татар, греков, болгар и армян, 17,4% калмыков{1657}. В настоящее время депортации народов признаны преступлением – 14 ноября 1989 г. была принята Декларация Верховного Совета СССР «О признании незаконными и преступными репрессивных актов против народов, подвергшихся насильственному переселению, и обеспечении их прав», 26 апреля 1991 г. Верховный Совет РСФСР принял закон «О реабилитации репрессированных народов».
В заключительный период Великой Отечественной войны, в том числе при помощи Всеславянского антифашистского комитета (ВСАК), советские власти приняли меры по урегулированию «польского вопроса». Был проведен «обмен населением» между Польшей и СССР. Подписание советско-польского договора в апреле 1945 г. было представлено советской пропагандой как укрепление славянского единства, направленного, в том числе против Германии{1658}. В целом политика по отношению к зарубежным славянам, государства которых были освобождены Красной Армией, с помощью ВСАК была направлена на формирование советской сферы влияния в Европе{1659}.
В конце войны произошло ослабление антигерманской пропаганды и перевод ее с «национальных» на «классовые» рельсы{1660}. Нагнетание ненависти и мстительности по отношению к вражеской нации становилось нецелесообразным, поскольку могло привести к усилению сопротивления наступающим советским войскам со стороны гражданского населения Германии. К тому же у советского руководства впереди была перспектива взаимодействия с германским народом после войны. 6 ноября 1944 г. И.В. Сталин подчеркнул, что «советские люди ненавидят немецких захватчиков не потому, что они люди чужой нации, а потому, что они принесли нашему народу и всем свободолюбивым народам неисчислимые бедствия и страдания»{1661}. Особенно ярко изменение политики по отношению к немецкой нации проявилось в «осаждении» И.Г. Эренбурга, который в опубликованной 11 апреля 1945 г. статье «Хватит!», фактически призывал к поголовной ответственности всех немцев за преступления нацистского режима{1662}. В ответ 14 апреля 1945 г. начальник УПиА ЦК ВКП(б) Г.Ф. Александров опубликовал статью под красноречивым названием «Товарищ Эренбург упрощает», в которой подверг жесткой критике тезис И.Г. Эренбурга о том, что «все немцы одинаковы и что все они в одинаковой мере будут отвечать за преступления гитлеровцев», и поэтому «все население Германии должно разделить судьбу гитлеровской клики». Г.Ф. Александров подчеркнул, что «Красная Армия… никогда не ставила и не ставит своей целью истребить немецкий народ»{1663}. Статья Г.Ф. Александрова имела настолько высокое политическое значение, что была перепечатана в советской региональной прессе (например, в дальневосточной газете «Тихоокеанская звезда»{1664}).
Приглушив антинемецкую пропаганду, советское руководство, тем не менее, не собиралось допускать уклона в обратную сторону. Постановление ГКО от 3 февраля 1945 г. предписывало «жестоко расправляться с немцами, уличенными в террористических актах». Распоряжение Ставки ВГК от 20 апреля 1945 г. предостерегало: «Улучшение отношения к немцам не должно приводить к снижению бдительности и к панибратству с немцами»{1665}. Пресекалось излишнее «очеловечивание» немцев в материалах пропаганды{1666}. В августе 1945 г., во время Советско-японской войны, опыт антигерманской пропаганды и разожженные среди населения СССР антинемецкие настроения были использованы для повышения эффективности антияпонской пропаганды. Советская пресса утверждала, что японцы действовали так же, как германские нацисты, – «вероломно, коварно, по-волчьи», называла их «дальневосточные гитлеровцы», разоблачала сходство японской империалистической идеологии с нацистской, в том числе «японские планы господства над миром», «бредовую теорию “высшей расы”» и «доктрину “нации без земли”»{1667}.
В заключительный период Великой Отечественной войны в СССР в советской политике возобновился изоляционизм. С одной стороны, советская пропаганда говорила об ожидавшемся более сильном росте патриотизма и национального самосознания после Великой Отечественной войны, чем это произошло после Отечественной войны 1812 г.{1668} С другой стороны, советское руководство опасалось того, что если из Европы «декабристы несли прогрессивные идеи», то теперь «просачивается реакция, капиталистическая идеология». Поэтому была поставлена задача отслеживать, «какое впечатление остается у солдата и офицера от пребывания в иностранном государстве», и своевременно реагировать на настроения военнослужащих, прибывших из освобожденных стран Европы домой{1669}. Действительно, попав в Западную Европу, советский солдат убедился, что об уровне жизни в европейских странах советская пропаганда говорила неправду{1670}. Например, в 69 сд 65-й армии некий капитан Б. (в докладной записке ПУР особо подчеркивалось, что он выполнял обязанности «агитатора») «стал ярым поклонником всего немецкого»{1671}. Характерно, что и германская пропаганда в конце войны отмечала как положительный для Германии факт, что «русский народ получил возможность узнать, что представляет собой Западная Европа»{1672}. Поэтому в СССР, а также в подразделениях Красной Армии, расквартированных за рубежом, была развернута борьба с «низкопоклонством»{1673}. В том числе не допускалось распространение германофильских и других «прозападных» взглядов в науке{1674}. Под предлогом борьбы с «космополитизмом» – «идеологией, чуждой трудящимся»{1675}, после войны в СССР была развернута борьба с положительным образом стран-союзников, который во время войны активно создавался самой советской пропагандой{1676}. Несомненно, эта политика касалась и западных территорий Советского Союза – особенно Прибалтики, где, как уже говорилось, во время оккупации возникли сильные «прозападные» настроения, связанные с ожиданием помощи от Великобритании, США, Швеции и Финляндии.
В целом оценка советской национальной политики, реализованной в завершающий период Великой Отечественной войны, сформулированная на германской стороне, была достаточно точной. Нацисты считали, что политика СССР имела сходство с политикой дореволюционной России, однако воздействие первой было более сильным, потому что она использовала «коммунистические лозунги, которые часто маскировались под “национальные”», с помощью которых «возможность деморализации других наций стала гораздо сильнее, чем у царской политики». Политика советского руководства по отношению к «нерусским» народам оценивалась следующим образом: «В Москве… видят большую угрозу в национальном вопросе. Большевистское правительство не смогло устранить националистические претензии отдельных народов… Для ослабления национальной силы нерусских этнических групп постоянно осуществляется переселение нерусских народов с их родины» (упоминались украинцы, белорусы, кавказцы, карелы и др.){1677}.
Таким образом, советская национальная политика на оккупированной и освобожденной территории СССР в заключительный период войны была масштабной – в первую очередь, ввиду необходимости исправления тяжелой морально-политической ситуации на западных территориях страны. На оккупированной территории советская политика была связана с противодействием германской политике, включая попытки властей Третьего рейха использовать в антисоветских целях местный национализм и расширить рамки коллаборационизма народов СССР. После освобождения оккупированных территорий советская политика была направлена на борьбу с местным национализмом – в первую очередь в Прибалтике и на Западной Украине.
Советская национальная политика проявила значительную вариативность – в первую очередь, путем выравнивания возникшего в предыдущие периоды крена политики в сторону усиления национального фактора. Усиление «советского патриотизма» и коммунистической идеологии служило борьбе с местным национализмом, «низкопоклонством перед Западом» и другими негативными проявлениями в сфере национального вопроса. Во-вторых, в советской политике произошло угасание антигерманской составляющей, что было связано с долгосрочными планами советского руководства в послевоенной Германии.
§ 2. «БОРЬБА ЗА НОВУЮ ЕВРОПУ»:
Политика Германии – попытка разжигания гражданской войны в СССР и ее провал
В заключительный период Великой Отечественной войны политика германских властей на оккупированной территории СССР была направлена, прежде всего, на тотальную военную мобилизацию населения. Для этого в национальную политику были внесены определенные корректировки. В первую очередь, была доработана доктрина «Новой Европы» как «сотоварищества всех народов», в котором «господствует единый принцип: европейская общая польза стоит выше собственной национальной пользы». Очевидно, что последнее утверждение расходилось с идеологией германского национал-социализма и доктриной «Германия превыше всего». Нацистские власти указали, что «уважение народов является непреложным законом, на основе которого мы устанавливаем взаимоотношения с ними»{1678}. Таким образом, в свете поражений Германии нацистское руководство предприняло попытку перестроить свою политику, отказавшись – хотя бы формально – от расизма и шовинизма, с целью привлечь на свою сторону население оккупированных территорий. Для народов СССР борьба за «Новую Европу», по замыслу германских властей, должна была превратиться в «гражданскую войну против большевизма»{1679}. Пропаганда «Новой Европы» велась нацистами даже среди военнослужащих Красной Армии{1680}.
Воплощение в жизнь политики разжигания «гражданской войны» для русского населения выразилось в «популяризации всеми средствами русского национально-освободительного движения и РОА»{1681}. При вербовке в коллаборационистские формирования применялись «националистические» лозунги – призывы сражаться за «свободную, национально-трудовую и независимую Россию», «служить русскому народу, спасая его от неминуемой гибели, которую ему подготовил большевизм»{1682}. Национально-патриотическая доктрина советской политики была провозглашена «тактической хитростью», которая помогает руководству СССР «сохранить свою власть» через «одурачивание русского народа… новым обманом о “родине”». Германская пропаганда утверждала о сохранности «национального духа» в русском народе, несмотря на его «одурманивание советским гипнозом». Пропагандистские материалы утверждали, что «наиболее тяжелая ноша в борьбе с большевизмом пала на плечи русской молодежи», так как «война идет на полях нашей Родины». Отмечался «нескончаемый поток» заявлений в коллаборационистские формирования, в которых «сотни тысяч русских добровольцев делят фронтовые невзгоды и радости с немецкими солдатами»{1683}. Таким образом, нацистская пропаганда пыталась создать иллюзию развернувшейся «войны русского народа против СССР», которая якобы велась «в союзе с Великогерманией»{1684}.
Активная пропаганда «воссоздания России» входила в противоречие с пропагандой «воссоздания» Украины, Белоруссии, прибалтийских республик, казацкой державы и пр., которая велась германскими властями среди соответствующих народов. Поэтому в пропаганде, направленной на русских, было провозглашено, что в «Новой России» будет объявлена «свобода национального самоопределения» и в нее войдут «многие народы» на принципах «братства и равноправия»{1685}.
Пропаганда, направленная на казаков, оказавшихся на оккупированной территории (перемещенных лиц и военнопленных), базировалась на утверждении, что «победа… Германии и ее союзников несет… возрождение нашей родной Казакии». Казакам объявили о «ложности» позитивных изменений в советской политике и напомнили, что в СССР «выжигали каленым железом понятия о казачестве, а также называли казаков белобандитами»{1686}. Следует отметить, что такие пропагандистские посылы могли относиться к политике СССР до официальной реабилитации казачества в 1936 г., и устарели уже к началу войны.
Германские власти продолжали делать высокие ставки на расширение украинского коллаборационизма. Новацией в пропаганде, направленной на украинцев, стало утверждение о партизанской войне украинского народа против СССР, якобы развернувшейся на территории Украины, освобожденной Красной Армией (в частности, говорилось об «окрестностях Киева»). В целом пропаганда, как и прежде, была основана на антисоветской, антироссийской и прогерманской риторике. Украинцы рассматривались как «наиболее сильный нерусский народ в СССР», который сохранил «старые исторические традиции и… чувство национальной независимости, направленное против русского империализма… и против коммунистической системы». Педалировались такие «преступления» советской власти, как «Голодомор» и депортации украинского населения{1687}. Агитационные материалы, призывавшие население Украины вступать в дивизию СС «Галиция» и другие коллаборационистские формирования, использовали антироссийскую («антимосковскую») риторику – так, были выдвинуты призывы защитить Украину «от московского хищника»{1688}, под которым понималась наступающая Красная Армия. Германская пропаганда напоминала украинскому народу о том, как он «радостно встречал героический германский вермахт на своей земле» в 1941 г. Утверждалось о положительном воздействии германской оккупации на украинцев, которые якобы и в 1944 г. «делали нелестные для большевиков сравнения нового советского господства со временами германской оккупации». Как далеко заходили германские планы в отношении украинцев, можно судить о намерении нацистов разжечь антисоветские и антирусские настроения среди украинского населения советского Дальнего Востока{1689}. Эта задача, даже если и прилагались усилия по ее реализации, как известно, решена не была.
В Белоруссии германские власти усилили политическую работу. В марте 1944 г. в Бобруйске был создан «Союз борьбы против большевизма» (СББ) во главе с М.А. Октаном, редактором антисоветской газеты «Речь» (ранее издавалась в Орле). Деятельность СББ, которая осуществлялась «в союзе с Германией, с признанием ее руководящей роли», была направлена, в том числе на «непримиримую борьбу против иудо-большевизма и его союзников», «активную работу по включению наших народов в содружество народов Новой Европы»{1690}. СББ проводил митинги, организовывал лекции и «вечера вопросов и ответов»{1691}, вел другую «политико-массовую работу» при полной поддержке германских властей{1692}. Оккупанты приступили также к созданию «Белорусской националистической партии», организационные съезды которой были проведены в Полоцке и Витебске в середине мая 1944 г.{1693} 27 июня 1944 г. (за неделю до освобождения Минска) был созван «Второй всебелорусский конгресс», который заявил о союзе с Германией и борьбе против России{1694}.
С целью привлечь население оккупированной территории Белоруссии на свою сторону, германские власти в первой половине 1944 г. приняли экстренные меры по улучшению его жизни в социальной сфере. Эти меры включали открытие детских садов, библиотек и изб-читален. Так, в Осиповичском районе Могилевской обл. в мае 1944 г. работали восемь школ (шесть начальных, одна народная и одна гимназия), в которых учились 882 чел. и работали 43 учителя. Германские власти «для поднятия настроения населения» также предписали провести широкую разъяснительную работу «о героической борьбе Немецкой Армии на всех фронтах, а также о принимаемых мерах со стороны Немецкого Командования для решительной борьбы с бандитами-партизанами и их агентурой»{1695}.
В Прибалтике оккупанты сформировали новые антисоветские организации. В июне 1944 г. в Литве был создан «Союз жертв большевистского террора», который 22 июня 1944 г. провел митинг «против большевизма» и в дальнейшем осуществлял «антибольшевистскую пропаганду среди населения». Германские власти подчеркивали статус этого «Союза», как «первой политической организации в Литве»{1696}. 20 февраля 1945 г. в Потсдаме был создан «Латвийский национальный комитет» (ЛНК). 19 марта 1945 г. в Лиепае была проведена торжественная церемония вступления на должность главы ЛНК командующего латышскими войсками СС Р. Бангерскиса, который в своей речи сказал: «Благодаря мужеству латышских легионеров и усердию народа, сейчас снова создана возможность урегулирования государственных дел. Целью является свободная и независимая Латвия»{1697}. 7 мая 1945 г. было сформировано «временное правительство Латвии» во главе с Р. Осисом и Я. Андерсоном{1698}, деятельность которого по объективным причинам развернуть не удалось. В Эстонии германские власти 14 июня 1944 г. провели широкие мероприятия в рамках годовщины депортации, осуществленной советскими властями 14 июня 1941 г. 22 июня 1944 г. было организовано празднование «годовщины начала войны против Советского Союза», в том числе проведены массовые митинги, опубликованы воззвания, по радио транслировалось выступление главы «Эстонского самоуправления» X. Мяэ{1699}. При подходе Красной Армии к территории Эстонии оккупанты распространяли слухи о том, что «начались переговоры о мире между Англией и Германией», и что этот «мир будет заключен против Советского Союза»{1700}. В такой пропаганде очевиден был расчет на прозападные настроения среди эстонцев.
Для склонения населения оккупированной территории СССР к коллаборационизму или к уходу вместе с вермахтом, германские власти разжигали страх перед возвращением Красной Армии и советской власти. На оккупированной территории СССР распространялись сообщения о «жестоком и бесчеловечном поведении» советских войск в освобожденных ими местностях{1701}. Казакам сообщали, что «победа большевизма несет… полное уничтожение казачества»{1702}. В Западной Белоруссии запугивали население «тем, что якобы у советской власти есть особые счеты с “западниками”», и поэтому после прихода Красной Армии «начнутся репрессии»{1703}. В Латвии германская пропаганда распространяла слухи, что «русские в Риге камня на камне не оставят, все будет сожжено», что в освобожденной части Эстонии «у всех эстонцев на лбу выжжена буква “Э”, и что большевики всех в Сибирь увозят». После освобождения Риги, в декабре 1944 г. нацисты в Курляндии опубликовали фотографию, на которой был изображен рижский памятник Свободы, вокруг которого «повешено несколько человек на деревьях»{1704}, а в январе 1945 г. сообщила, что советские власти отправляют латышских учителей на принудительную работу в Донбасс «для изучения русского языка»{1705}. В Эстонии еще с 1943 г. оккупанты разъясняли населению, что «если вернется советская власть, то все эстонцы будут угнаны в Сибирь, как угнали часть населения в 1941 году». Интересным аспектом политики запугивания было распространение информации о том, что «СССР… утратил свою независимость и находится под влиянием США и Англии, имеет огромные долги, и в уплату по этим долгам будет выколачивать все из населения»{1706}.
Уход населения вместе с вермахтом был выгоден для Германии, так как советская власть получила бы безлюдную территорию, а Рейх – сохранил контингент для пополнения коллаборационистских формирований и трудовой эксплуатации. Германские власти убеждали население уходить с вермахтом, утверждая, что якобы его «подавляющее большинство [уже] решило идти на запад». Уход подавался как «забота» о тех, «кто искренне и бесповоротно связал свою судьбу с судьбой великой семьи европейских народов»{1707}. Осуществляли германские власти и насильственный угон населения. Так, в сентябре и начале октября 1944 г. они провели «добровольно-принудительную» эвакуацию населения из Риги, в том числе при помощи облав{1708}.
Следует отметить, что страх перед Красной Армией разжигался также в Германии и других странах Европы, где обывателей запугивали грядущей «большевизацией»{1709}. В Германии геббельсовская пропаганда муссировала сфальсифицированные советские приказы «насиловать немок»{1710}. Оккупанты распространяли слухи, что советские руководители призывают «отомстить за злодеяния немецких солдат», «разжигают самые низменные инстинкты и ненависть ко всему немецкому»{1711}, и поэтому «Красная Армия будет всех поголовно истреблять». Эти слухи инспирировали самоубийства среди мирного населения Германии, в том числе целыми семьями{1712}. Даже после капитуляции в Германии ходили слухи, что «на [Потсдамской] конференции решится вопрос об ответственности всех семей, у которых кто-либо служил в армии и принимал участие в походе на Россию», и впоследствии «русские потребуют еще более жестких и тяжелых мер по отношению к [немецкому] населению»{1713}.
Кроме пропагандистских мер, германские власти предприняли серьезные усилия по практическому развитию военного коллаборационизма народов СССР. 1 января 1944 г. начальником Инспекции добровольческих войск вермахта был назначен генерал Э. Кестринг, который до 1941 г. был германским военным атташе в Москве{1714}. Нацистская пропаганда подчеркивала, что «генерал Кестринг родился и воспитывался в России[54]54
Э. Кестринг (1876–1953) родился в г. Серебряные Пруды (ныне – Московская обл.).
[Закрыть]» и «считается одним из лучших знатоков Советского Союза и населяющих его народов». Был опубликован «новогодний» приказ Э. Кестринга, в котором он желал русским коллаборационистам «военного успеха и возвращения на освобожденную Родину»{1715}. В результате усиленной мобилизации, к середине 1944 г. «восточные формирования» достигли своей наибольшей единовременной численности – 500 тыс. чел.{1716} Как известно, после покушения на Гитлера, организованного офицерами вермахта 20 июля 1944 г., в Рейхе резко усилилась роль СС. Коснулось это и «восточных войск». В июле 1944 г. в Главном штабе войск СС был создан отдел по работе с «восточными формированиями». 26 августа 1944 г. по приказу Гитлера все «инонациональные» воинские части были переданы в подчинение СС{1717}.
Переломным моментом в развитии «русского коллаборационизма» стала состоявшаяся 16 сентября 1944 г. встреча Г. Гиммлера и А.А. Власова, на которой первый дал официальное согласие на создание «русского правительства»{1718} и «русской армии» в составе двух дивизий, взамен чего выдвинул следующие условия: борьба с большевизмом, после победы над которым Россия должна была быть восстановлена в границах до сентября 1939 г., отказ от Крыма, широкая автономия для казаков и национальных меньшинств{1719}. Эти планы, очевидно, были блефом – как известно, к этому времени от германской оккупации была освобождена не только территория России, но и Украины, Белоруссии, а также половина Прибалтики.
Согласно договоренности между Г. Гиммлером и А.А. Власовым, 14 ноября 1944 г. в Праге было провозглашено создание «Комитета освобождения народов России» (КОНР). Видимость того, что КОНР был создан как альтернативное советскому «правительство», была создана присутствием официальной делегации от правительства Рейха в лице статс-секретаря Протектората Богемии и Моравии К. Франка и представителя МИД Германии Лоренца. Последний выступил с речью, в которой сказал о «восточных войсках» как о «полноправном союзнике» Германии. Создание КОНР приветствовал своей телеграммой Г. Гиммлер. В качестве программы действий КОНР был принят «Манифест», в котором были провозглашены следующие цели: «Свержение сталинской тирании, освобождение народов России от большевистской системы и возвращение народам России прав, завоеванных ими в народной революции 1917 года; прекращение войны и заключение почетного мира с Германией; создание новой свободной государственности без большевиков и эксплуататоров». Таким образом, руководство КОНР пыталось привлечь симпатии населения СССР путем апелляции к идеям Февральской революции 1917 г. Германская пропаганда широко распространяла информацию о создании КОНР и публиковала Манифест, указывая, что теперь «русский человек стал партнером немцев в политической области»{1720}.
Руководящим органом КОНР стал возглавленный А.А. Власовым Президиум. Сам «Комитет» состоял из 50 членов и 12 кандидатов{1721}. В КОНР, кроме русских по национальности, входили также украинцы, белорусы, представители народов Кавказа и Средней Азии{1722}. КОНР предложил национальным меньшинствам, в частности украинцам, отложить решение вопроса о независимости до того момента, пока советская власть не будет свергнута. Тем не менее большинство лидеров «национальных комитетов» отказалось вступить в КОНР, направив письмо А. Розенбергу с просьбой о помощи против подрыва их политических позиций{1723}. Такая позиция нашла поддержку А. Розенберга, при которой 18 декабря 1944 г. было проведено «Заседание представителей порабощенных Россией народов»{1724}. Было решено создать отдельные политические и военные формирования для «нерусских» народов, в том числе «Украинскую освободительную армию», «Кавказскую освободительную армию» и «Национальную армию Туркестана». Последние две «армии» остались только в виде проекта{1725}. Против вступления в КОНР также выступила часть лидеров коллаборационистского казачества во главе с П.Н. Красновым, который обосновывал несостоятельность объединения с КОНР тем, что подчиненные ему казаки принесли присягу на верность Германии{1726}. Однако молодое поколение казаков, далекое от Гражданской войны, разделяло идеи КОНР, и в конечном итоге большинство казаков-коллаборационистов предпочло вступление в вооруженные силы КОНР{1727}. Так, в состав КОНР вошло «Объединение казаков в Германии» во главе с Е.И. Балабиным{1728}.
Вопрос о формировании вооруженных сил, подчиненных КОНР, был поднят, как важнейший, на первом же его заседании. Были образованы «Штаб вооруженных сил КОНР» и «Главное управление казачьих войск»{1729}. 28 января 1945 г. Г. Гиммлер назначил А.А. Власова «верховным главнокомандующим вооруженных сил КОНР». Кроме двух наспех созданных дивизий (1-я – в составе 10 тыс. чел., 2-я – 13 тыс. чел.), А.А. Власов получил в подчинение некоторые «русские» и «казачьи» формирования вермахта численностью до 40 тыс. чел.{1730} В составе войск КОНР были русские, украинцы (до 30–45% личного состава, включая командира 1-й дивизии генерала С.К. Буняченко){1731}, а также представители многих других народов СССР.
Уже в момент создания КОНР его руководство понимало, что нацистская Германия близка к своему краху, и поэтому пыталось установить контакт с Великобританией и США{1732}, однако безуспешно{1733}. 13 апреля 1945 г. по приказу германского командования 1-я дивизия вооруженных сил КОНР была направлена на советско-германский фронт. Однако согласно решению, принятому КОНР на своем последнем заседании 27 марта 1945 г. о выводе вооруженных сил КОНР в Югославию{1734}, 15 апреля 1945 г. командир дивизии С.К. Буняченко вывел ее с фронта на территорию Чехословакии, где, по некоторым данным, войска КОНР оказали помощь чешским повстанцам в освобождении Праги от германских войск{1735}. После капитуляции Германии вооруженные силы КОНР, как и другие «восточные формирования», сдались в плен войскам стран Антигитлеровской коалиции. Согласно решению Крымской конференции, все граждане Советского Союза, находившиеся в распоряжении Третьего рейха во время войны, должны были быть возвращены в СССР после ее окончания{1736}. Поэтому в мае 1945 г. союзники передали советскому военному командованию большую часть «восточных солдат», оказавшихся в их плену{1737}. А.А. Власов был схвачен красноармейцами 12 мая 1945 г. в районе чешского города Пльзень при попытке пробраться к союзникам{1738}. После поимки А.А. Власов передал приказ сдаться Красной Армии всем военнослужащим вооруженных сил КОНР{1739}. В итоге 13–14 мая 1945 г. в районе Пльзеня сдались до 20 тыс. чел.{1740}








