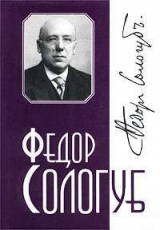
Текст книги "Том 4. Творимая легенда"
Автор книги: Федор Сологуб
сообщить о нарушении
Текущая страница: 41 (всего у книги 44 страниц)
Центральный комитет пальмской социал-демократической партии вошел в переписку с Триродовым. Началась эта переписка тем, что обратились к Триродову с письменным запросом. Письмо было составлено сообща с синдикалистами. Редакция его вызвала большие споры, но наконец сошлись.
Вслед за тем письма Триродова по разным вопросам стали появляться в «Трудах и Днях». Триродов определенно высказывался за социализацию земли, жилищ и орудий производства; говорил о тех реформах, которые, по его мнению, должны быть произведены в первую очередь.
Шансы на избрание Георгия Триродова становились все серьезнее. Печать переменила тон. Уже богатые буржуа переставали давать деньги на агитацию за принца Танкреда.
Буржуазия давно уже возмущалась любовными похождениями Танкреда. И даже не этими похождениями, а их огласкою. Лицемерные буржуа, больше всего дорожившие внешними приличиями, находили, что безнравственность принца особенно сказывается в его нежелании окружить полною тайною свои похождения. Они думали и говорили так:
– В своей частной жизни делай, что хочешь. Но если тайны личной жизни делать достоянием улицы, то это уже скандал и оскорбление добрых нравов. И, кроме того, это показывает, что нисколько не дорожат нашим мнением.
Значительная часть буржуазии стала склоняться к мысли избрать королем Георгия Триродова. В этой среде стали думать, что иностранец, незнакомый с местными делами и отношениями, не будет влиятелен и что его правление будет ничем не отличаться от республики.
Провозгласить республику не хотелось осторожным буржуа, – монархические привычки были еще сильны в обществе и в народе, и республика была бы, пожалуй, непрочною формою правления. Но уж если надо из двух зол выбирать меньшее, то Георгий Триродов казался безопаснее, чем властный, честолюбивый и влиятельный принц Танкред. Планы же Георгия Триродова казались тем более безопасны и неосуществимы, чем они были радикальнее.
Под влиянием таких соображений усилились разговоры о любовных похождениях принца Танкреда. Прежде буржуазия поощряла распространение в народе листков и брошюрок с восхвалениями принца Танкреда. Теперь из той же среды пролились в села и в города памфлеты против принца с описаниями его любовных авантюр. И в народе заговорили о безнравственности принца Танкреда. Дурному охотно верят, даже и тогда, если это правда (хотя охотнее люди верят лжи).
Стал изменяться и тон европейской печати.
В Пальме и в других городах назначены были митинги для обсуждения кандидатуры Георгия Триродова. Произносились речи за Триродова и против него. Наконец официально была поставлена кандидатура Георгия Триродова комитетом пальмских граждан.
Принц Танкред был в бешенстве. Грозил Виктору Лорена, что уедет из Пальмы, и пусть выбирают, кого хотят. Виктор Лорена пожимал плечами и говорил:
– Что же я могу сделать! Все равно, этот кандидат не имеет никаких шансов, и державы его не признают.
Филиппо Меччио от социалистов и Эдмондо Негри от синдикалистов, каждый с двумя товарищами, поехали к Триродову.
Россия произвела на них сильное и смешанное впечатление. После Парижа Петербург казался великолепным и просторным, но все же глухим захолустьем, населенным грубыми мужиками и бабами.
Летом Триродов и Елисавета венчались в церкви около села Просяные Поляны. Их венчал священник Закрасин.
Он говорил не то грустно, не то радостно:
– Последнюю свадьбу венчаю.
Ему приходилось «снять сан», – епископ Пелагий объявил ему, что чаша его долготерпения истощилась.
Когда уже собирались выходить из церкви, началась гроза. Триродов и Елисавета остановились в дверях храма и смотрели на великолепную картину стремительной грозы. Глядя при беглом фиолетовом озарении молний на побледневшее лицо Елисаветы, Триродов сказал:
– Гроза предвещает нам бурное будущее.
Елисавета сказала:
– Голосами бурь говорит тот, кто не любит безмятежного счастия, кто не хочет его для людей.
В это время послышалось быстро приближающееся, мокрое по лужам дребезжание колес, и из-за поворота дороги показалась бричка. Возница, безусый испуганный паренек в желтой куртке и блестящей от дождя шапке, нещадно хлестал пару своих мохнатых лошадок. В повозке сидел, подпрыгивая и сгибаясь под большим черным зонтиком, священник. С зонтика лились, отгибаясь по ветру назад, серебристо-серые струи воды.
За бричкою так же бешено неслась телега, из которой торчали во все стороны мокрые бороды, бурые руки и смазные сапоги. Слышались, разрываемые ветром, сердитые крики.
Бричка остановилась у паперти. Священник проворно выскочил и взбегал по ступеням, как-то вприсядку отряхиваясь. Лицо его было бледно от страха.
Это был здешний священник, отец Матвей Часословский. Он бормотал, здороваясь с Триродовым:
– Темнота народная. Еле душу спас.
Подкатила и телега. Мужики, слегка подвыпившие, вывалились из нее, шлепнувшись прямо в лужу. Они смотрели с досадою и с недоумением на отца Матвея и ругали то отца Матвея, то свою лошадь, которая тяжело водила мокрыми боками. Один из мужиков, весь серый, говорил:
– Ну, счастлив ты, батя! Здорово бы мы тебя взлупили. На-кось, что вздумал, – под нового царя подписывать захотел!
Отец Матвей говорил дрожащим голосом:
– Неразумные! Я вам верноподданнический адрес давал подписать, государю.
Мужики смеялись. Их оратор говорил:
– Брешешь, батя. Мужик сер, да разум у него не волк съел. Ты с господами заодно. Хотел подписать нас под нового царя, который нам земли не даст.
Отец Матвей уговаривал их:
– Братцы, да вы в бумагу посмотрите, чье имя там.
Мужики смеялись.
– Бумага твоя нам ни к чему, мы ее разорвали, а ты нас не обманешь.
Отец Матвей держался за церковную дверь. Старый мужик сказал:
– Ну, мы тебя попугали довольно, а трогать тебя не будем. В поле не догнали, твое счастье, а в церкви не тронем. Иди, служи нам молебен.
Шум, поднятый около имени Триродова, заставил обвинительную власть обратить на Триродова особенное внимание. Прокурор окружного суда с ожесточением говорил:
– В короли захотел, – а вот мы его в тюрьму сначала посадим.
Благосклонность маркиза Телятникова смутила его; но когда маркиз рассыпался, над головою Триродова опять стали собираться тучи. Прежде всего началось дело из-за самовольного разрытия могилы. В то же время возникли против Триродова и другие обвинения. Следователь Кропин стал подозревать Триродова в убийстве исправника, и не сомневался, что он виновен и в разрушении маркиза Телятникова. В этих подозрениях укрепляли его показания Острова.
Судебный следователь Кропин был худой, маленький, черный, с лохматыми волосами. Он сильно заикался. Может быть, оттого он был такой злой. У него были злые глаза, маленькие и острые. Он любил выпить, и пил только водку. Остальные вина он находил для себя слишком крепкими.
Кропин с наслаждением подбирал улики против Триродова. Так как не Триродов убил исправника, то и улики были вздорные. Но Кропину казалось, что их совокупность составит нерасторжимую цепь.
Кропин с величайшим удовольствием немедленно взял бы Триродова под стражу, но прокурор сказал ему:
– Ввиду всех этих обстоятельств необходимо соблюдать крайнюю осторожность.
Кропин пригласил Острова к себе во время своего завтрака. Сам много пил водки, и Острова напоил, – чтобы выведать сведения о прежней жизни Триродова.
Остров уверял:
– Господин Триродов химию досконально знают. Сделать из человека горсточку пепла им нечего не составляет.
Но как Триродов это делает и кого уже он испепелил, этого Остров не мог сказать. Очень хотелось ему рассказать про Матова, да боялся сам запутаться.
Случилось так, что свидетелями против Триродова были и другие святотатцы.
Утром в начале августа Триродов принимал депутацию из Пальмы – социал-демократы и синдикалисты. Они приехали еще с вечера и по заранее посланному Триродовым приглашению остановились в его доме.
Вот наконец мечта становилась к осуществлению! Жуткий восторг томил Триродова. Какая радость – приводить свои фантазии в исполнение!
Был любезный и весёлый разговор, конечно, по-французски. Французская речь живо напоминала Триродову дни его жизни в Париже, – жизни милой, как все прошлое.
Триродов и его гости взаимно выпытывали друг друга. После долгого разговора Триродов и его гости обменялись наконец формальными обязательствами. Филиппо Меччио и его спутники дали Триродову от имени своих партий обязательство голосовать за него.
Впечатления Триродова от этих людей, кроме Филиппа Меччио, однако, не были приятны. Они не понравились ему своею излишнею живостью, своими преувеличенными жестами. Он думал, что в них нет способности управлять государством, что из них разве только один Филиппо Меччио может быть министром. За их жестами и риторикою не чувствовалось той спокойной и холодной твердости, которая отличает австралийских министров из рабочих. Правда, из его гостей никто и не был настоящим рабочим.
Сам Филиппо Меччио показался Триродову более оратором, чем практическим деятелем, более критиком, чем созидателем. Триродов думал, что во главе правительства он может стоять только в переходные эпохи.
Впечатления гостей были смутны и неопределенны. Триродова они нашли слишком сдержанным и надменным человеком.
Филиппо Меччио говорил о Триродове своим спутникам:
– Он импонирует, но его глаза обличают пресыщенную душу, мечтательный и анализирующий ум. Едва ли он годен и склонен для практической деятельности. Но, может быть, тем и лучше. Это будет носитель призрачной власти с уже умерщвленною волею к владычеству.
Елисавета очаровала гостей. Кирша не обнаруживал никаких странностей, вел себя, как всякий средний ребенок его лет, и показался гостям умным и милым мальчиком.
Пальмские гости уехали вечером.
Ночью Елисавета сидела у Триродова. Читали. Поговорили. Замолчали. Елисавета спросила:
– Ты ждешь чего-то?
Его лицо не умело скрывать. Оно не изменяло выражения каждую секунду, но точно отражало общую окраску его души. Триродов знал о том, что у него нынче будет обыск. С брезгливою миною сказал он Елисавете:
– Сейчас ко мне придут полицейские, обыскивать.
– Ты об этом знаешь? – спросила Елисавета.
– Да, – сказал Триродов. – Я это знаю каким-то странным способом. Мои тихие дети все знают. Они невинны, не живут, и потому знают. Глаза их не смотрят, но все видят, и уши их не слушают, но все слышат. Безрадостные и беспечальные, они сохранили всю свою душу, и они совершенны, как создания высокого искусства. Через них я узнаю то, что должно совершиться, и это дает мне большую уверенность и спокойствие.
Елисавета сказала заботливо:
– Надобно кое-что убрать. Я тебе помогу.
Триродов равнодушно возразил:
– Не стоит. Будь спокойна.
Елисавета настаивала:
– Но все же лучше принять какие-нибудь меры.
Триродов решительно сказал:
– Они ничего не найдут. Они даже и тебя не увидят. Да я и не допущу обыска.
И сказал тихо:
– В дом моей мечты никто не войдет. И ты – мечта моя, моя Елисавета. Глупые зовут тебя Веточкою, веткою, для мудрого ты – таинственная роза.
Скоро послышались звонки и суетня: пришли незваные, новый исправник и жандармский полковник. Триродов спустился к ним вниз, в зал.
Жандармский полковник сказал:
– Проведите нас в ваш кабинет.
– Пожалуйста, – сказал Триродов. – Идите сюда.
Но Триродов отвел своих гостей далеко от кабинета.
Комната, куда он привел полицейских, была очень похожа на его кабинет. Но мрачная, как темница.
Искали везде. Исправник, переведенный сюда из дальнего уезда и еще сохранивший всю свою захолустную грубоватость, стукнул сгибом сухого пальца в замкнутую дверь и сказал:
– А тут что? Отоприте-ка.
Триродов вынул из кармана маленький зеленый шарик и уронил его на пол. Странным синеватым дымом наполнилась комната. Триродов исчез. Запахло горько и сладко. Казалось полицейским, что пахнет кровью и что сладко ее сосать.
Они стали на четвереньки. Онемели. Им казалось, что они обратились в громадных клопов. Они быстро побежали на руках и на ногах вниз по лестнице, по двору, по дороге. Во мраке чутьем различая дорогу, быстро бежали по дороге в город гигантские клопы в мундирах.
Светало, когда они бежали по улицам. Ранние прохожие в ужасе сторонились от них.
Прибежали на свои квартиры. Были пыльные, изодранные. Долго спали. Проспавшись, не могли вспомнить, где были, и что с ними было, и куда они растеряли свои казенные бумаги, и что им теперь надобно делать.
Глава девяносто втораяБыли уже первые дни золотой осени. Прекрасный год в природе, тревожный и грозовой в людях.
Неудачная война питала смуту. Война и не могла быть удачною, потому что ее не направляло народное одушевление. Бородачи запасные думали о покинутых семьях и о родной земле и не понимали, зачем их повели воевать чужую землю. Подвиги высокого геройства были ярки, но бесцельны – это были прекрасные огни, горевшие в сражающихся множествах, но не зажигавшие в них воинственного восторга. Была непреклонная готовность мужественно умирать, и, конечно, хотелось бы победить, но не было столь же непреклонной воли к победе. Вожди забыли, что обороняющийся не может победить.
Рабочие на фабриках и на заводах в Скородоже давно уже волновались. Нередко вспыхивали отдельные забастовки то в одном заведении, то в другом. Наконец в начале октября началась общая забастовка. Требования были те же, что везде: пять свобод, четвертная формула выборов, и учредительное собрание.
Повод для забастовки, как это часто в то время случалось, был совершенно ничтожный.
В темную ночь рабочий Алексей Кулинов, молодой, начитанный человек, возвращался домой. Он был у своего большого приятеля, учителя городского училища Воронка. Там нынче вечером собралось несколько человек для чтения и беседы. Разошлись в разные стороны, и случилось так, что Кулинову пришлось идти одному. Он был сильный и рослый и ничего не боялся. Шел, посвистывал. Вспоминалось все слышанное, и душа горела гордыми, смелыми надеждами.
Навстречу Кулинову посредине улицы шла толпа горланов. Кое у кого из них в руках качались фонари, – на городское освещение горожане мало полагались, уж очень оно было скудное на окраинах. Это были члены черносотенного союза. Речи ораторов, отравленные демонскою злобою, и выпивка на дворе у Конопацкой настроили их патриотически. Они были готовы сокрушать супостатов и орали бесстыдные песни.
Место было глухое и безлюдное – окраина города. Куликову проще было бы свернуть с дороги, в боковой переулочек, – да нет, зачем?
Стыдно показалось бежать. Да и вспомнил, что у него в кармане есть револьвер.
Его окрикнул пьяный голос:
– Стой! Что ты есть за человек и куда идешь?
Кулинов сердито буркнул:
– А вам что? Иду по своему делу и вас не трогаю.
Кто-то заорал:
– Братцы, да это из лохматых. Бей его!
Кто-то схватил Кулинова за плечо. Он поспешно выхватил револьвер из кармана и выстрелил вверх, чтобы напугать хулиганов. Толпа шарахнулась в стороны. Раздался ответный выстрел, другой, третий. Молодцы тоже вспомнили, что они вооружены, и принялись палить без толку из своих браунингов. Кто-то свирепо вопил:
– Убьем собаку и в ответе не будем.
– Сам начал! – кричал другой.
Кулинов побежал. Банда за ним. Гремели выстрелы, не попадая в цель. Было темно, были пьяны, но все же только счастливый случай спас Кулинова от чьей-нибудь шальной пули.
Наконец Кулинов добрался до своего дома. Юркнул в калитку. Поспешно задвинул засов. Бросился на крыльцо. Дверь была заперта. Он постучал в окно.
Долго не открывали. Он слышал, как шептались за окном. А громилы уже ломали калитку. Грохот наполнял всю улицу.
– Да отворите же! – отчаянно кричал Кулинов. – Ведь они меня убьют.
Его хозяйка, сырая вдова-мещанка, и ее две рохли-дочери боялись открыть. Они дрожали и шептались за дверью. Тогда вскочил с постели хозяйкин сын, пятнадцатилетний мальчик Митя. Бросился было к двери, но мать его оттолкнула и сердито зашипела на него. Мальчик побежал в комнату жильца и там распахнул окно. Громким шепотом позвал:
– Алексей Степаныч, лезьте в окно.
Кулинов проворно вскочил в окно и захлопнул его за собою. Как раз вовремя, – громилы ворвались во двор. Долго стучались они в двери и в окна, но почему-то боялись ломать дверь. Сырая вдова и две рохли тряслись от страха. Они стояли все трое за дверью в комнату Кулинова и ныли на разные голоса:
– Батюшка, Алексей Степаныч, выдь, сделай милость, к окаянным. Силой войдут, и нас из-за тебя погубят, и мальчонку пришибут. Будь благодетель, выдь, – мы за твою грешную душеньку Богу помолимся, – сиротская молитва до Бога доходчива.
Митя упрекал их:
– Бога побойтесь, маменька, на смерть человека посылаете. И вам, сестрицы, стыдно, – чем бы маменьку успокаивать, а вы ее пуще расстраиваете.
Мать зашипела на него:
– Ты у меня помолчи, шалапут. Зачем его впустил? Всех нас под обух подвел. Погоди, жива к утру останусь, так я с тебя семь шкур спущу.
Митя деловито отвечал:
– Нынче, маменька, таких прав нет. Что следует, накажите, а тиранить нельзя.
Громилы шумели на дворе и распевали песни.
Полиция пришла только утром: задами, через огороды, сбегал Митя в полицейское управление и рассказал, что толпа хулиганов ломится в их дом. Сами полицейские словно и не заметили шума и выстрелов.
Буянов разогнали. Но никого из них не задержали. А у Кулинова сделали обыск, на всякий случай. Ничего не нашли – счастливая случайность: еще дня за два был целый тюк литературы, но ее удалось быстро распространить. Револьвер же догадливый Митя стащил еще утром и спрятал на огороде.
Этот случай сильно взволновал и без того возбужденных рабочих. Говорили:
– Что ж это такое! От черносотенцев житья не стало! Скоро нас, как собак, убивать будут.
Через день началась забастовка. В толпах рабочих раздавались угрожающие крики:
– Долой черносотенцов!
Забастовка продолжалась недели две. С фабрик и заводов забастовка перекинулась в учебные заведения.
На беду, случилась как раз в эти дни неприятная история в гимназии.
Какой-то маленький гимназистик на перемене занялся пусканием в лица товарищей и учителей бумажных стрел, намоченных чернилами. Учителя политично делали вид, что не замечают. Одна из таких стрел попала в лицо проходившему случайно через зал директору, человеку нервному и болезненному. После этой удачной стрелы старшие гимназисты захохотали: директор, придирчивый и раздражительный, был нелюбим учениками.
Шалун так оторопел, что не догадался ускользнуть от бросившегося к нему директора и получил от него звонкую пощечину. Услышав звук пощечины, гимназисты зашумели и засвистали. Несколько дюжих молодцов из старших классов бросились на директора с кулаками. Испуганный старик бегом добрался до своей квартиры и уже не выходил оттуда.
Об этом случае много говорили в городе. По обыкновению, сильно преувеличивали и присочиняли небывалые подробности. Говорили, что директор сбил мальчика с ног и кричал на него:
– В карцере сгною!
Гимназисты и гимназистки кричали, что дальше так жить нельзя. Они произвели в классах химическую обструкцию. Побили стекла в квартире директора гимназии и еще кое-где. Вместо уроков устраивали сходки, заперев двери своих классов, чтобы не входили учителя. Наконец объявили, что присоединяются к общей забастовке.
Директор гимназии послал по начальству прошение об отставке. Но вместо отставки его перевели в другой город, а к новому году дали звезду.
Потом забастовали телеграфисты, почтовые чиновники и почтальоны, трамвайные служащие, служащие на электрической станции и железнодорожники. Кроме общих причин, у всех их были и свои особенности, иногда мелкие, но очень раздражающие. Во всех этих местах начальствующие люди, как бы не понимая затруднительности положения, вели себя заносчиво. Закрылись многие магазины, – начали бастовать приказчики, добиваясь и для себя справедливых льгот и праздничного отдыха.
Город имел странный вид. Трамваи не ходили. Электрические фонари и лампы не горели. По улицам ходило много праздных, возбужденных людей. Письма и газеты не доставлялись, – разве только случайно. Обыватели не могли приспособиться к этому беспорядку. Стало очень неудобно жить и даже опасно. Какое-то моральное землетрясение день за днем потрясало зыбкую почву обывательских умов и обывательской жизни.
Многие из обывателей сочувствовали забастовке. Многие злобились на забастовщиков. Сочувствовавшие выражали свое сочувствие тайком или совсем его не выражали. Злобящиеся злобились открыто и громко. Такое неравенство выражения чувств только усиливало общую напряженность положения.
Несмотря на забастовку, в городе царило необычайное возбуждение. Трудно было понять, на чьей стороне больше сил. Власти не прибегали к решительным мерам – ждали войск, – но и вся губерния волновалась. В Скородож отряд пехоты и драгун явился только на десятый день забастовки.
Среди забастовавших, между тем, уже начиналась нужда. Запасишки, какие были, живо были проедены. Положение начинало становиться угрожающим.
Каждый день собирались на Опалихе; так называлось обширное загородное поле около Летнего сада, где порою устраивались народные гулянья. Кроме того, собирались в железнодорожном клубе. Все эти собрания проходили мирно. Говорились речи, пелись гимны. Расходились с криками:
– Долой войну!
Только раз полиция вздумала проявить свою деятельность. На десятый день забастовки расклеено было по городу объявление от вице-губернатора, – за отъездом губернатора в столицу он управлял губерниею, – что запрещаются собрания на Опалихе и вообще в окрестностях города, ввиду того, что собрания приняли политическую окраску. Над этим объявлением рабочие смеялись. Кое-где его срывали. В других местах покрывали насмешливыми надписями.
В середине октября происходило на Опалихе обычное собрание. Еще с утра ожидали рабочих казаки, драгуны и пехотинцы.
В середине собрания, когда, взобравшись на притащенный из соседнего трактира стол, партийный агитатор говорил речь, приехал полициймейстер. Он сказал что-то казакам. Казаки внезапно ринулись на толпу, работая нагайками. Несколько минут слышался только свист нагаек да крики и стоны избиваемых. Забастовщики были рассеяны. Небольшую часть их забрали и отвели в полицию. Многие разбежались по лесу. На них устроили облаву.
Обыватели возмущались неумеренным употреблением нагайки. Да и среди казаков и солдат было немало недовольных. Но кто возлагал на это недовольство какие-нибудь надежды, тот скоро убедился в своей ошибке.
Кербах говорил:
– Это – законный террор! Они нас хотят терроризировать, мы отвечаем тем же.
Слишком сильно спорить с ним не смели.
Кража иконы дала черносотенцам удобный повод для злых науськиваний на интеллигенцию. Остров распространял слухи, что икону похитил и сжег Триродов и что сделал это он потому, что он – безбожник и ненавидит христианскую церковь. Вообще Остров много работал в эти дни. Полтинин и Поцелуйчиков ему помогали. Хитрая и ловкая Раиса, поселившись в городе и еще не открывая своих денег, уже успела войти в милость генеральши Конопацкой и уже помогала ей в хозяйственных работах по ее черносотенным организациям.
Союз русских людей усиленно действовал. Кербах и Жербенев раздавали народу московскую черносотенную газету. В ней были возмутительные статьи против евреев. Деньги на эту раздачу давала Конопацкая.
Кружок местных интеллигентов тоже сделал попытку бесплатно раздавать прогрессивные газеты. Но газетчиков полиция забирала. Между другими, отдали под суд за хранение и распространение нелегальных изданий и Мишу Матова, не стесняясь его незрелым возрастом. Кропин хотел было посадить его в тюрьму, но Петр оказал покровительство своему брату и взял его на поруки. Рамеев, боясь, что на душе мальчика все эти неприятности отразятся слишком тяжело, решил отправить его доучиваться за границу.
В черносотенных кругах все громче и чаще говорили, что икону украл Триродов. Городская толпа начинала верить этому.
Наконец Кропин написал приказ о задержании Триродова. Он отправился с этим приказом, захватив полицейских, в дом Триродова. Но народная смута помешала этому акту правосудия. Кропин вышел из своей квартиры как раз в тот час, когда к дому Триродова нельзя было пробраться.








