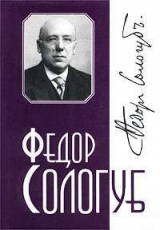
Текст книги "Том 4. Творимая легенда"
Автор книги: Федор Сологуб
сообщить о нарушении
Текущая страница: 37 (всего у книги 44 страниц)
«Трудно отнестись к этому курьезному выступлению иначе как с презрительною усмешкою. Не стоит и задаваться вопросом о том, кто захочет поддержать этого развязного человека, дерзнувшего поставить свое темное имя против имени, блистающего славою, против имени, которое на устах у всех в пределах нашего государства и за пределами его. Разве только одни лохмотники могут обрадоваться выступлению этого господина. Люмпен-пролетариат, пожалуй, найдет, что это – самый подходящий для него король. Мы же видим в этом письме только возмутительно-дерзкую выходку, очевидно, рассчитанную на сочувствие всякой революционной международной сволочи. Мы относимся к этой выходке с самым резким осуждением и негодованием. Те политические деятели, которые нашли возможным выдвинуть этого темного человека, трусливо прячась за его спиною, по-видимому, не отдают себе отчета в том, насколько их поступок бестактен и бесцелен; постыдность же этого поступка они, очевидно, не в состоянии учесть».
Политики правой и центра в парламенте прочли эту резкую статью с большим неудовольствием.
Граф Камаи говорил:
– Какая бестактность! Дразнить сволочь, зачем? Наглую выходку надо было замолчать. Не следовало бы даже и печатать это письмо.
И прибавлял значительно:
– Это мнение разделяет и его высочество.
Гораздо более внимания уделили письму Триродова в Париже и в Лондоне, где также подумали, что за Георгием Триродовым кто-то стоит, какая-то крупная сила. Газеты сделали из этого письма свою очередную сенсацию и заинтересовали Триродовым публику. В те дни случилось, что не было иной, более близкой и острой темы для газетных сенсаций. Потом заговорили об этом и в других европейских центрах.
Писали сначала, что это – интрига русского правительства, как всегда, неумелая. Потом принялись искать иных вдохновителей.
Глава восемьдесят третьяОтъезд Петра Матова в дальние страны откладывался со дня на день. Все находились предлоги для отсрочки. Дела какие-то. Да и Елена не торопила. Ей больше нравилось здесь. В далекие страны ее не тянуло. А Елисавете вдруг захотелось ехать далеко, увидеть благословенную природу теплых стран, яркие краски небес, цветов и морей, жгучие взгляды и солнечные улыбки. И мечта о королевстве Соединенных Островов уже стала ей приятною.
Тем временем Петр посещал всех своих знакомых в городе и в его окрестностях. Он прощался с ними перед своею поездкою за границу.
Петра всегда занимали религиозные вопросы. Поэтому у него было много знакомых среди духовенства. Он был хорошо принят у местного епархиального архиерея и у его викария. Со многими духовными и светскими богословами Петр Матов вел оживленную переписку.
Однажды утром в праздник Петр Матов поехал в подгородный монастырь к епархиальному архиерею. Воспитанники триродовской колонии в это же время отправились в прогулку на целую неделю. Одним днем на этой неделе Триродов решился воспользоваться для поездки в монастырь.
Триродовские воспитанники сами решили прогулку. Сами выработали ее маршрут. Конечно, следуя усвоенной в колонии привычке, всю дорогу и дети и учительницы прошли босиком. Потому они мало уставали. Таскающие грузы на своих ногах не знают, как легко бегут освобожденные от тесных сжатий ноги.
На обратном пути дети предполагали посетить монастырь. Триродов выбрал тот день, когда дети были в монастыре. Это был один из весенних праздников, и в этот же день в монастырь отправился и Петр.
Триродов сел рано утром на пароход.
Монастырь, где жил летом епархиальный епископ, был расположен на реке Скородени, немного ниже города. Туда была проведена от города электрическая железная дорога. По ней бойко бегали окрашенные в желтую краску вагоны. Скородожцы почему-то прозвали эти веселенькие вагончики кукушками. Но удобнее и приятнее летом было ехать в монастырь на пароходе. От городской пристани до монастырской пароход пробегал в полчаса. Горожане пользовались этими легкими пароходиками очень охотно. Кто ехал помолиться, кто погулять. Иные, взойдя на пароход, направлялись прямо в буфет и там сидели, не выходя, пока не добежит пароход до своей конечной пристани, верстах в пятнадцати от города.
Случилось, что на одном пароходе с Триродовым в монастырь ехал и Остров со своими приятелями. Он старательно прятался от Триродова. Но таки встретились.
Томимый странным беспокойством, Триродов словно чувствовал близость чего-то злого и враждебного. Он порывисто ходил из конца в конец по палубе и в каютах. Наконец совсем неожиданно и для себя и для Острова встретил его.
Остров залебезил перед Триродовым. Борода его на ярком утреннем солнце казалась рыжею.
Триродов тихо спросил его:
– Воровать?
Остров отвечал с нелепыми ужимками:
– Хе-хе, молиться Богу. Извольте обратить внимание, как раскупается религиозно-нравственная литература. Утешительно.
На передней палубе парохода книгоноша, сухонький старичок с седенькою козлиною бородкою, в картузе с длинным плоским козырьком, в громадных в серебряной оправе очках, выкрикивал:
– «Суд Божий», листок и книжка две копейки. О том, как молодой человек из красных и жидов совершил кощунство. С картинкою. Очень поучительно.
Около книгоноши толпились простецы. Долго рассматривали картинку и потом покупали назидательную книжку.
Остров юлил около Триродова. Говорил притворно-сладким голосом:
– Не оскудевает вера в народе. Как ни стараются кое-какие господа, а вера-то все крепка. Не прикажете ли, Георгий Сергеевич, для вас куплю эту книжечку? Любопытно-с!
Триродов сказал сухо:
– Не надо, благодарю вас.
Какой-то подвыпивший спозаранку мастеровой, молодой и костлявый, передернул широкими плечами под темным в полоску пиджаком, глянул на Триродова угрюмо и сказал:
– Господам не требовается.
Триродов поспешно отошел. Остров подмигнул на него и тихо сказал мастеровому:
– Химик, господин Триродов. Ученейший человек! Ума палата. А в Бога не веруют.
Мастеровой сказал еще угрюмее:
– Лягушек жрут и кислород пускают.
Триродову противно было соседство с Островым. Он вышел на первой пристани у окраины города. Здесь был большой сад, именуемый Летним. В саду близ пристани стоял Дружковский народный дом. Оттуда если и не попадешь на пароход, так можно было добраться до монастыря на электрической кукушке.
Заодно Триродову хотелось познакомиться с деятельностью местного попечительства о народной трезвости. Что делают здесь благотворители? Триродов знал, что попечительство о народной трезвости имеет бесплатную читальню. Эта читальня приютилась в здании местного народного дома.
Народный дом был выстроен на пожертвования местного богача купца Дружкова. Этот почтенный деятель разбогател на торговле хлебом. Он считался во многих миллионах. Любил почет, выбирался всегда на видные в городе должности, за благотворительность имел чины и ордена.
Под старость Дружков пожелал последовать примеру американца Карнеджи. Ему захотелось прославиться на всю Россию, увековечить свое имя, а заодно и насолить своим сыновьям. Они прогневали его женитьбою на бесприданницах. Дружков начал тратить свои миллионы на учреждение больниц, богаделен, школ, библиотек, Все эти учреждения должны были носить его имя. Особенно щедро давал он на здешний народный дом.
Сыновья Дружкова всполошились. Они заговорили о его расточительности. Хлопотали об учреждении над ним опеки. Пытались посадить его в сумасшедший дом. Но хитрый старик разрушал все их козни. Уж очень много у него было сильных связей и знакомств.
А все-таки истратить очень много Дружков не успел. Внезапно умер. В городе говорили, что он отравлен сыновьями. Говорили так настойчиво, что тело покойного Дружкова вынули из могилы и вскрыли. Следов яда не оказалось.
Дружковский народный дом по завещанию основателя перешел к местному земству. Но в нем распоряжалось всем попечительство о народной трезвости. Попечительницею дома была Глафира Павловна Конопацкая, молодящаяся вдова генеральша.
Учительницы, желавшие угодить влиятельным в их мире людям, бесплатно работали в народном доме и в попечительстве. Они следовали примеру своего начальства. Местный директор народных училищ Дулебов и его жена часто посещали Дружковский народный дом. Особенно деятельно работала там госпожа Дулебова.
Дулебовы дорожили отношениями к Конопацкой. А у себя смеялись над нею и злословили. Как водится.
Триродов подходил от пристани к народному дому. В это время Глафира Павловна Конопацкая ехала в своей коляске мимо народного дома к поздней обедне в монастырь. На пароходе со всеми ей было противно. Она говорила:
– Мужиков много. Скверно пахнет. У меня нервы так слабы.
Конопацкая была в белом нарядном платье. Белая шляпа с розовыми мелкими цветками, белые перчатки, белый зонтик, белые цветы у пояса – совсем как невеста. Пахло от нее дорогими, но противными духами. С нею сидел Жербенев в белом кителе с погонами отставного полковника.
Они увидели Триродова в Летнем саду, на площадке перед народным домом. Жербенев сердито заворчал:
– Господин Триродов в народный дом припожаловали. Что ему здесь понадобилось еще?
Конопацкая всмотрелась в Триродова. Заволновалась. Сказала с волнением:
– Для пропаганды, конечно.
Жербенев сказал тихо:
– Боюсь, что вы правы, как всегда. Идет поганить святое место, бунтовать наших барышень.
Конопацкая, бледнея и краснея, говорила:
– Я не могу, Андрей Лаврентьевич, как хотите. Это выше моих сил – проехать мимо, когда я вижу, что этот ужасный человек входит в дом, где идет наша святая работа. У меня сердце не на месте. Я выйду.
Жербенев сказал:
– И я с вами.
Они оба пошли в народный дом. Триродов уже был там. Он быстро шел по залам просторного, красивого, светлого здания, направляясь в читальню. Конопацкая и Жербенев тихими шагами крались за ним. Им захотелось подслушать его крамольные слова.
Триродов пока ни с кем не заговаривал. Он шел, окидывая беглым взглядом стены. На деревянном кронштейне стоял бюст Гоголя. Один только раз Триродов остановился у висевшей на почетном месте скрижали, чтобы прочесть начертанные на ней слова о наказании по всей строгости закона участников аграрных беспорядков.
Против входа в партер театра в двух комнатах помещались книжная торговля и читальня. В первой комнате продавались дешевые брошюрки. Здесь было много сказок и нравоучительных историй. В читальне были такие же дешевенькие и по большей части плохонькие книжонки. Газеты выписывались только реакционного направления: «Свет», «Московские Ведомости», «Душеполезное Чтение», «Досуг и Дело», «Скородожский черносотенный листок», еще несколько таких же из столиц и из соседних губерний.
Триродов перебирал газеты в читальне. Он спросил зеленолицую барышню в очках, сидевшую за прилавком:
– Вы здесь каждый праздник?
Барышня уныло ответила:
– Нет, мы по очереди. Сегодня я дежурю до четырех часов, а моя товарка поддежуривает до двенадцати.
Она показала остреньким подбородком на другую барышню, которая копошилась у книжного шкапа, близоруко обнюхивая книжки. У этой поддежуривающей была повязана платком левая щека с флюсом. Пахло от нее карболкою и нафталином.
Триродов спросил дежурную барышню:
– Можно взглянуть на каталог?
Унылая барышня равнодушно и вяло проговорила:
– Каталога еще нет. Каталог есть только у попечительницы. Мы так помним.
На лице ее все явственнее проступало выражение скуки. Триродов сказал:
– У вас, барышня, хорошая память. А есть у вас сочинения Пушкина?
Скучающая барышня принялась перечислять:
– «Сказка о рыбаке и рыбке», «Полтава», «Борис Годунов», «Капитанская дочка», «Песня о купце Калашникове». Нет, – поправилась она, – это уж из Лермонтова.
Триродов спросил:
– А полное собрание Пушкина есть?
Скучающая барышня посмотрела на него с удивлением. Отвечала:
– Нет. Зачем же? Для нас это не требуется.
Триродов продолжал спрашивать:
– А из новых писателей есть кто-нибудь? Например, что-нибудь Горького?
На лице дежурной барышни изобразился ужас. Роняя выражение привычной скуки, она покраснела, заморгала часто, как обиженная, и воскликнула:
– Горького? Ой, нет! Как можно!
Барышня, пахнущая нафталином, быстро подошла к своей товарке. Унылая дежурная в ужасе шептала ей:
– Горького спрашивают!
За полуоткрытою дверью слушали Конопацкая и Жербенев. Переглядывались. Конопацкая сказала зловещим шепотом:
– Вы слышали? Нет, я больше не могу.
Они вошли в читальню. Жербенев остановился у дверей. Знаком подозвал к себе барышень. Зашептался с ними. Конопацкая поспешно подошла к Триродову. Она заговорила с любезною улыбкою:
– Какая приятная встреча! Я очень польщена, Георгий Сергеевич, что вы захотели нас посетить. Я вам все покажу. Ведь вы знаете, я здесь попечительница.
Триродов улыбался и благодарил. Он сказал:
– Хотелось бы и в читальне, и в книжном складе видеть более широкий выбор.
Глафира Павловна бледнела от злости. Но, помня долг попечительницы-хозяйки по отношению к гостю, она говорила ему тоном любезного объяснения:
– Ах, помилуйте, Георгий Сергеевич, поверьте, мы знаем, что делаем. Темному русскому народу только это и надо.
Триродов возразил:
– Маловато. Одних душеспасительных книжек народу недостаточно.
Глафира Павловна закипятилась. Она взволнованно спрашивала:
– А что же прикажете ему давать? Революционную литературу?
– Зачем же революционную? – сказал Триродов. – О такой литературе другие позаботятся, а вы…
Конопацкая, перебивая его, кричала:
– Нет, простому народу нельзя давать революционную литературу! Нас за это закроют, как вашу школу хотят закрыть. Мы не можем этим рисковать. Это было бы против нашей совести, против наших убеждений. Рабочие и так волнуются, потому что на фабриках везде агитаторы.
Жербенев, нашептавшись с обеими девицами, подошел к Глафире Павловне. Барышни остались у дверей. Они стояли вытянувшись, как солдатики в юбках. Их раскрасневшиеся лица с вытаращенными от усердия глазами казались разом поглупевшими и взмокшими. Нафталин и карболка, смешавшись с запахом духов Конопацкой, благоухали нестерпимо.
Глафира Павловна повернулась к Жербеневу и говорила с тою же запальчивостью:
– Вот, извольте радоваться! Господин Триродов требует, чтобы мы давали народу революционную литературу, чтобы мы обучали рабочих забастовкам. Как это вам понравится!
Триродов, улыбаясь, возражал:
– Извините, Глафира Павловна, – ничего подобного я не говорил.
Конопацкая заговорила потише:
– Да и вообще мы заботимся. Напрасно вы нас в чем-то обвиняете. Посмотрите на наш театр, на танцевальный зал, где мы делаем вечера для портних и горничных. И они очень ценят наши заботы о них.
Из окна было видно, что к пристани подходит пароход от города. Триродов воспользовался этим, чтобы проститься с Конопацкою и с Жербеневым.
Конопацкая шипела вслед ему:
– Я совсем расстроена. Ужасный человек.
Триродов опять сел на пароход. Скоро золотые главки монастырских церквей показались на высоком берегу.
Глава восемьдесят четвертаяКак это часто бывает у русских рек, и здесь один берег был высокий, холмистый, другой низкий, плоский. На высоком берегу леса росли. На низком были поемные луга.
Монастырь, как водится, стоял на высоком берегу. Его златоглавые храмы, каменные дома, холеные сады и мощенные крупным синевато-серым камнем дворы раскинулись на крутых склонах берега и на его переходящей в равнину вершине, среди старого, задумчивого леса. Из монастырских келий и садов открывались красивые виды на извилистую, быструю реку Скородень. За рекою синели в широкой дали поля, деревни, перелески, поблескивали золотыми искрами кресты дальних церквей.
Белая каменная ограда окружала весь монастырь, спускаясь до самой реки по склонам двумя многоуступчатыми рукавами, – словно обнимала всю монастырскую усадьбу. У самой ограды снаружи стоял каменный корпус монастырской гостиницы. Видно было еще несколько деревянных домов, – какие-то ларьки, лавочки, дачки.
По шоссе пыль дымила, блестели рельсы, порою шипела и звенела электрическая кукушка и, остановившись против ворот обители, выжимала из себя людей в котелках, канотьерках, картузах, в шляпках и в платочках. У ворот стояло много экипажей.
Триродов поспел к концу обедни.
В тот же день рано утром и воспитанники Триродова пришли в монастырь. Все дивило, но не все радовало их.
В этом месте уединения и молитвы внимание странно обращалось на вещи, на прочные постройки, на черные клобуки и шелковые рясы монахов, на кружки для сбора денег у ворот и у дверей, на вкусные запахи из пекарен и кухонь. А монахи, – на кого из них ни посмотришь, сразу видно, что монастырь богат. Под дорогими, нарядными рясами угадывались телеса откормленные, полные. Лица почти у всех румяные. Постников бледнолицых мало встречалось.
На паперти собора толпилось много богомольцев. Не вместились все в храм. В дверях была давка. Иные старались протолкаться внутрь, другие выходили. Было видно больше стариков, чем молодых. Больше женщин, чем мужчин. Было много детей. Дети толкались больше всех, шныряя туда и сюда без устали, или вовсе беспризорные, городские и слободские, или забытые на время озабоченными чем-нибудь монастырским родителями.
И у храма, и у ворот было много нищих. Да и богомольцы многие на нищих были похожи. Многие, пришедшие издалека, в пути питались подаянием. Почти все они были очень грязные сами и очень грязно одеты в какое-то рванье. Пахло от них отвратительно. Многие были покрыты язвами и болячками.
Сквозь эту смрадную, жалкую толпу хотел Триродов пробраться в храм. Ему посчастливилось. Приехал вице-губернатор с женою. Он угрюмо поздоровался с Триродовым. Усердные городовые принялись расчищать для него дорогу. За ним прошел и Триродов.
Когда Триродов вошел в храм, обедня уже близилась к концу. Служил викарный епископ Евпраксий. Он делал возгласы гремящим голосом и порою вздыхал так громко, что бабы начинали плакать от умиления, а дамы улыбались и крестились. Певчие пели умилительно. Протодьякон потрясал воздух низкими звуками своего пока еще не пропитого баса.
В церкви было много света. Белые стены с воздушно-легкою живописью радовали взор. Близ алтаря стояла чудотворная икона. Ее золотая риза сверкала игрою драгоценных камней. Изумруды и яхонты на ней были слишком крупны. Знатоки говорили, что все эти камни невысокого достоинства, что они плохо обработаны и что настоящая цена их много ниже того, что о них думали.
Было в церкви много губернских дам. Купцы и купчихи. Чиновники в мундирах. Впереди, перед солеею, было попросторнее. Но все-таки и здесь было душно, дымно от ладана и приторно-ароматно от дамских духов. Сзади, где простецы теснились, было нестерпимо душно, томно и вонюче. Серые армяки и сбитые лапти источали кислый запах.
В стороне стояли монахи. Казалось, что они углублены в молитву. Но они все видели, что делалось в церкви.
Триродовские дети и учительницы их стояли в церкви близ клироса, одетые красиво, босые. Все на них глядели неодобрительно. Многие посмеивались, перешептывались.
Конопацкая шептала вице-губернатору:
– Что же это, такое, Ардальон Борисович! Ведь его школу закрывают, так как же это он сюда привел всю эту ораву? Это – демонстрация!
Вице-губернатор отвечал сердитым полушепотом:
– Последние дни доживают. Он говорит: это – все сироты, идти им от меня некуда, а в ваши приюты я их не отдам.
– Какой нахал! – почти громко воскликнула Конопацкая.
– Да и места нигде нет, – продолжал вице-губернатор. – Мы с Дулебовым придумали так: пусть он дает деньги на содержание приюта, а начальницу и учительниц Дулебов назначит от себя. Так он не хочет, написал попечителю. Только ничего не добьется, по-нашему будет.
Под конец обедни потянулся ряд гладких монахов, генералов, купец – церковный староста и две дамы, нарядные, в черном и кислые, все с кружками и с тарелками для сбора пожертвований. В алтаре в это время совершалось святейшее Таинство, – наитием движущего миры Духа отдельные частицы холодного вещества приобщались Единой Вселенской Жизни и претворялись в истинное Тело и в истинную Кровь, предлагаемые верным и верующим. А в толпе пробирались сборщики и мешали молиться. И звенели монеты, падая одна на другую.
Триродовские ребятишки положили на каждую тарелку и опустили в каждую кружку по копейке. У них были с собою свои собственные деньги, и они знали, что просящему надобно дать.
Обедня кончилась. Долго толкались, подходя к кресту и к архиерейскому благословению. Со слезами и со вздохами преклонялись перед чудотворною иконою. Чего-то ждали, надеялись на что-то. На блюдо у иконы деньги падали, звенела монета о монету.
Многие пошли в другой храм. Он назывался холодным. Служили там редко. Там стояла гробница со святыми мощами. На гробнице лежал, до полу свешиваясь, златотканый покров. У образа над гробницею ярко лампада горела, и от множества зажженных в двух серебряных высоких подсвечниках желтоватых восковых свеч было ярко, тепло и умилительно. Была тишина благоговейная над гробницею. Смирялись перед нею сильные и злые и склонялись головами до холодного каменного пола. Проходили один за другим. Звенели монеты, падая на блюдо на златотканом покрове.
Триродов долго ходил по широким, просторным дворам монастыря. Разговаривал с кем придется. Чужие разговоры слушал.
Как-то странно переплетались слова о Божьей воле со словами о житейских делишках. И все были только слова об устроении этой темной, смрадной жизни. Не было слов о мире чаемом и вожделенном, подобных тем словам, какие слышал Триродов у раскольников и у сектантов. Мир, лежащий во зле, обстал монашескую обитель, тихую некогда пустынь, и дышал на нее ежедневною своею злобою и тусклою своею заботою.
Видно было немало полицейских, жандармов, сыщиков. Триродов подошел к одному филеру, лицо которого было ему знакомо. Спросил тихо:
– Следите? За богомольцами-то? Стоит ли?
Филер засмеялся и с откровенностью, возможною только в русском, сказал так же тихо:
– Помилуйте, нельзя же! Где святыня, там и враг рода христианского близок. Чуть где соберутся простые люди, там и они – мутить.
Прошли мимо два монаха, – здешний, дородный и веселый, и из чужого монастыря, унылый и суетливый. Здешний говорил:
– У нас кормят, Слава Богу, превосходно, можно сказать. Благоуветлив отец эконом.
Гость жаловался:
– А у нас и скудно, и плохо. Отец игумен изрядно скупенек. Правда, и сам постник…
Прошли, и уже не слышно было их слов.
На дворе монастыря у самых ворот стоял небольшой, но поместительный каменный флигель, двухэтажный, выкрашенный белою краскою, с зеленою кровлею, с зелеными железками подоконников. Первый этаж этого флигеля был занят двумя лавками. Видно было, что там торговля идет хорошо. Поминутно открывались двери обеих лавок, пропуская входящих и выходящих. Были там и триродовские дети. Триродов зашел в обе лавки.
В одной из этих лавок были крестики очень разные по величине, виду и материалу, – золотые, серебряные и только позолоченные и посеребренные, – из дерева пальмовые, кипарисовые и липовые, – из уральских цветных камней, яшмы, малахита, кварца, горного хрусталя, топаза и аметиста, – с цепочками и без цепочек; иконы и иконки, писанные на дереве монастырскими иконописцами, в ризах и без риз, и резные из черного блестящего дерева, привезенные из Иерусалима; медальоны с образками; библии, евангелия, псалтири, часословы, молитвословы, жития святых, история обители сей и ее олеографические виды, с разных мест снятые; открытки с видами обители; книжки религиозного и наставительного характера; свечи восковые разных величин, желтые и посветлее, простые и обвитые фольгою; ладан в кусках и в зернах; масло лампадное галлипольское простое для возжигания в лампадах и оно же освященное от мощей, для врачевания недугов, в малых запечатанных сургучом стеклянных сосудиках; лампады разных величин, на цепочках и на медных подставочках, что привинчиваются под киоту; картинки на темы из библейской и церковной истории, лубочные и цинкографические; четки из дерева разных цветов из цветных камней, из стекла и из бус; пояски плетеные и вязаные; посохи священнические и много иных подобных предметов.
За прилавком сидел упитанный монах в шелковой рясе. Суетились два послушника с иконописными лицами.
Триродов приобрел здесь один предмет, который был ему нужен, но о котором он почему-то забывал.
В другой лавке продавались снеди и пития монастырского происхождения, все очень вкусные: мед с монастырской пасеки, липовый светлый и сладкий, гречишный темный и горьковатый, и с других цветов собранный, особо каждого аромата, и еще мед цветочный смешанный, мед в сотах и мед чистый; коврижки и пряники медовые; хлеб монастырский черный, вкуса необычайно приятного, хлеб ситный, хлеб из просфорного теста; квас монастырский вкуса усладительного чрезвычайно; ягоды сушеные – земляника, малина; ягода в сахаре – вишня, клюква подснежная; варенье ягодное, яблочное, грушевое и ореховое; пастила ягодная и яблочная; грибы сушеные, на нитку низанные, грибы соленые и маринованные в банках; сушеные яблоки; сахар постный плитками; овощи сушеные и много другой постной, но вкусной снеди.
Продавал все эти прелести веселый, румяный монах, маленький и толстый. Он щурил глазки, посмеивался и покрикивал на своих подручных, двух очень молоденьких послушников, таких же, как он, веселых.
Нельзя было и здесь не сделать покупок. Триродовские воспитанники, случившиеся здесь, забрали все эти вещи, – уложить на подводу, которая их сопровождала.
Над вторым этажом того же дома висела вывеска, золотом по черному фону – «Скородожские Известия». Там помещалась редакция ретроградной газеты, которая в последнее время усиленно занималась черносотенною агитациею. Эта газета была основана недавно на доброхотные даяния местных купцов-патриотов. Стоила она дешево, три рубля в год. Поэтому, хотя интеллигенция и рабочие презирали эту газетку, у нее все же нашлось много подписчиков.
Выйдя из второй лавки, Триродов подумал:
«Не зайти ли в эту редакцию?»
И уже пошел было к крыльцу, но вдруг увидел, что с другой стороны к тому же крыльцу подходят Жербенев и Остров. Второй раз встречаться с ними не захотелось Триродову. Он пошел опять по двору. Опять смотрел и слушал.
Какой-то замухрышка-городовой говорил приезжим крестьянам:
– У нас – усиленная охрана. Теперь я кажинного могу убить из леволвера, и никаких свидетелев против меня не примут.
Мужики и бабы молча вздыхали.








