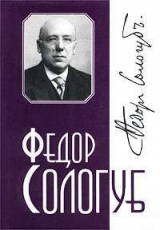
Текст книги "Том 4. Творимая легенда"
Автор книги: Федор Сологуб
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 44 страниц)
Один, как прежде! Вспоминал, милые вызывал в памяти черты.
Альбом, – портрет за портретом, – нагая, прекрасная, зовущая к любови, к страстным наслаждениям. Эта ли белая грудь, задыхаясь, замрет? Эти ли ясные очи померкнут?
Умерла.
Триродов закрыл альбом. Долго он сидел один. Вдруг возникли и все усиливались тревожные шорохи за стеною, словно весь дом был наполнен тревогою тихих детей. Тихо стукнул кто-то в дверь, и вошел Кирша, очень испуганный. Он сказал:
– Поедем в лес, поскорее, миленький.
Триродов молча смотрел на него. Кирша говорил:
– Там что-то страшное. Там, у оврага за родником.
Елисаветины синие очи тихим вспыхнули огнем, а где же она? Что же с нею? И в темную область страха упало сердце.
Кирша торопил. Он чуть не плакал от волнения.
Поехали верхом. Спешили. Жутко боялись опоздать.
Опять был лес, тихий, темный, внимательно-слушающий что-то. Елисавета шла одна, спокойная, синеокая, простая в своей простой одежде, такая сложная в стройной сложности глубоких переживаний. Она задумалась, – то вспоминала, то мечтала. Мерцали синие очи мечтами. Мечты о счастье и о любви, о тесноте объятий, с иною сплетались любовью, великою любовью, и раскалялись обе одна другою в сладкой жажде подвига и жертвы.
И о чем ни вспоминалось! О чем ни мечталось!
Острые куются клинки. Кому-то выпадет жребий.
Веет высокое знамя пустынной свободы.
Юноши, девы!
Его дом, в тайных переходах которого куются гордые планы.
Такое прекрасное окружение обнаженной красоты!
Дети в лесу, счастливые и прекрасные.
Тихие дети в его дому, светлые и милые, и такою овеянные грустью.
Кирша странный.
Портреты первой жены. Нагая, прекрасная.
Мечтательно мерцали Елисаветины синие очи.
Отчетливо вспомнила она вчерашний вечер. Далекая комната в доме Триродова. Собрание немногих. Долгие споры. Потом работа. Мерный стук типографской машины. Сырые листы вложены в папки. Щемилов, Елисавета, Воронок, еще кто-то, в городе разошлись по разным улицам.
Не останавливаясь смазать лист клеем. Осмотреться, – нет никого. Приостановиться. Быстро наложить лист смазанною поверхностью к забору, папкою наружу. Идти дальше… Сошло благополучно.
Елисавета не думала, куда шла, забыла дорогу и зашла далеко, где еще никогда не бывала. Она мечтала, что тихие дети, оберегают ее. Так доверчиво отдавалась она лесной тишине, лобзаниям влажных лесных трав предавая обнаженные стопы, и слушала, не слушала, дремотно заслушалась.
Что-то шуршало за кустами, чьи-то легкие ноги бежали где-то за легкою зарослью.
Вдруг громкий хохот раздался над ее ухом, – таким внезапным прозвучал ярким вторжением в сладкую мечту, – как труба архангела в судный день, из милых воззывающая могил. Елисавета почувствовала на своей шее чье-то горячее дыхание. Жесткая, потная рука схватила ее за обнаженный локоть.
Словно очнулась Елисавета от сладкого сна. Испуганные внезапно подняла глаза и стала, как очарованная. Перед нею стояли два дюжие оборванца. Оба они были совсем молодые, смазливые парни; один из них прямо красавец, смуглый, черноглазый. Оба едва прикрыты были грязными лохмотьями. В прорехи их рубищ сквозили грязные, потные, сильные тела.
Парни хохотали и кричали нагло:
– Попалась, красотка!
– Мы тебя наласкаем, будешь помнить!
Лезли ближе и ближе, обдавая противно-горячим дыханием. Елисавета опомнилась, вырвалась быстрым движением, бросилась бежать. Страх, похожий на удивление, раскачивал гулкий колокол в ее груди, – тяжко бьющееся сердце. Он мешал бежать, острыми молоточками бил под коленки.
Парни быстро обогнали ее, загородили дорогу, стояли перед Елисаветою и нагло хохотали, крича:
– Красавица! Не кобянься.
– Все равно не уйдешь.
Толкая один другого, они тянули Елисавету каждый к себе и неловко возились, словно не зная, кому и как начать. Похотливое храпение обнажало их белые, зверино-крепкие зубы. Красота полуголого смуглого парня соблазняла Елисавету, – внезапный, пряный соблазн, как отрава.
Красавец хриплым от волнения голосом кричал:
– Рви на ней одежду! Пусть нагишом попляшет, наши очи порадует.
– Легонькая одежка! – с веселым хохотом ответил другой.
Одною рукою он схватил широкий ворот Елисаветина платья и рванул его вперед; другую руку, широкую, горячую и потную, запустил за ее сорочку и мял и тискал девически упругую грудь.
– Вдвоем на одну напали, как вам не стыдно! – сказала Елисавета.
– Стыдись не стыдись, а на травку ложись, хохоча кричал смуглый красавец.
Он ржал от радости, сверкая белыми зубами и пламенными от похоти глазами, и рвал Елисаветину одежду руками и зубами. Быстро обнажались алые и белые розы ее тела.
Страшно и противно было похотливое храпение нападающих. Страшно и противно было глядеть на их потные лица, на сверкание их ярых глаз. Но красота их соблазняла. В глубине темного сознания билась мысль – отдаться, сладко отдаться.
Платье и сорочка, легкие ткани, с еле слышным разрывались треском. Елисавета отчаянно отбивалась и кричала что-то, – не помнила что.
Уж вся одежда на ней была изорвана, и скоро последние упали с обнаженного тела обрывки легких тканей. И в борьбе разрывались с грубым треском лохмотья на тяжело возившихся около Елисаветы парнях, опьяненных своею внезапною наготою. Нагота стремительных тел знойными соблазнами соблазняла Елисавету. Дерзкие бросила им Елисавета слова:
– Вдвоем с одною девкою не справиться!
Она была сильная и ловкая. Парням трудно было одолеть ее. Ее нагое тело извивалось и билось в их руках. Синяя дужка укуса на голом плече смуглого красавца быстро краснела. Капли темной крови брызнули на его голый торс.
– Подожди, стерва, – хрипел парень, – я тебя…
Сильные, но такие неловкие, парни свирепели. Ярила и пьянила чрезмерность сопротивления, и падение разрываемых на их телах лохмотьев, и внезапная нагота их тел. Они били Елисавету, сначала кулаками, потом быстро ломаемыми и оброснутыми ветвями. Острые пламена боли впивались в голое тело, – и соблазняли Елисавету жгучим соблазном сладко отдаться. Но она не поддавалась. Ее звонкие вопли разносились далеко окрест.
Уже долго длилась борьба. Уже стала слабеть Елисавета, – и не истощалась страстная ярость свирепых парней. Дикие, голые, с синими губами перекошенных ртов, с тусклыми огнями налитых кровью глаз, они клонили Елисавету к земле.
Вдруг бесшумною и легкою толпою выбежали на поляну белые, тихие мальчики, легкие, быстрые, как летний дождик. Так быстро метнулись они из-за кустов, – набросились на диких парней и, белые, бесшумные, обступили, облепили, повалили, – усыпили, оттащили в глубину темного оврага. И бессильные распростерлись на жестких травах нагие тела.
От быстрых и бесшумных движений тихих мальчиков сладкое и жуткое объяло Елисавету забвение.
Тяжелым и невероятным сном казалось ей после то, что случилось в темной лесной чаще, эта внезапная и жестокая прихоть взбалмошной Айсы. И в душе надолго угнездился темный ужас, сплетенный с безумным смехом, – ликующая улыбка беспощадной иронии…
Елисавета очнулась. Качнулись над нею зеленые ветки березы и милые, бледные лица. Она лежала, на влажной траве, в белом окружении тихих мальчиков. Не сразу вспомнила она, что случилось. Непонятна была нагота, – но не стыдна.
Вот остановились глаза на чьих-то гладко причесанных, темно-русых волосах. Вспомнила – это Клавдия, лицемерно-тихая учительница. Она стояла под деревом, сложив руки на груди, и серыми глазами – не зависть ли мерцала в них? – смотрела на обнаженное Елисаветино тело, – и точно серый паук раскидывал над душою серую паутину тупого забвения и скучного безразличия.
Тихо сказал кто-то из мальчиков:
– Сейчас принесут одежду.
Елисавета закрыла глаза и лежала спокойно. Голова ее слегка кружилась. Томила усталость. Лежала такая прекрасная и стройная, такая совершенная, как мечта Дон-Кихота…
Темные влачились миги, и среди них упало с вечереющего неба ясное мгновение. И мгновение стало веком, – от рождения до смерти. Утром на другой день Елисавете ясно вспомнилось течение этой странной и яркой жизни – высокий, скорбный путь, жизнь королевы Ортруды.
И когда, задыхаясь, Ортруда умирала…
Шорох легких ног по траве разбудил Елисавету. Легкие, проворные руки одели ее. Тихие мальчики помогли ей подняться. Елисавета встала, оглядела себя, – светло-зеленый хитон широкими складками обвивал ее тело, усталое тело. Елисавета подумала:
«Как дойду?»
И ответом на эту мысль между деревьв показался легкий очерк шарабана. Кто-то сказал:
– Кирша довезет.
Такой, знакомый и милый голос.
В сранной, чужой одежде Елисавета возвращалась домой. Молча сидела она в шарабане. Триродова она так и не видела. Она хотела вспомнить. Сквозь темный ужас и безумный смех все яснее просвечивало воспоминание мгновенно пережитой иной жизни, – все яснее вспоминалась жизнь королевы Ортруды.
Глава двадцать пятаяУ легкой ограды очарованных печалью и тайною мест стоял тихий мальчик Гриша. Такое бледное, успокоенное лицо, такое тихое мерцание синих, небесно-синих, прохладных глаз!
Вечереющее небо синело, – разливался над миром синий покой, умиряя розовую алость заревого заката. А под синевою высокого покрова летали птицы. К чему же им крылья, – им, таким земным, озабоченным?
За легкую ограду тихого места Гришу манили ландыши благоуханием столь же невинным, как и он сам, синеглазый тихий мальчик Гриша. Точно звал его кто-то за ограду, к этой бедной жизни, томящейся перед ним в закутанной туманною синевою дали, звал томительно и жутко, – и хотелось ему и не хотелось идти. Томно к жизни звал кто-то темным голосом.
Как же противиться темным зовам? Успокоенное сердце, когда же ты совсем забудешь и навсегда земные томления?
Вот вышел Гриша из-за легкой, расторгнутой легко ограды. Вдохнул в себя резкий, но сладкий внешний воздух. Шел тихо по дороге, узкой и пыльной. Легкие за ним ложились следы, и белая в тихом движении одежда была ясна среди неяркой зелени и серой пыли, – одна ясна. Перед ним легкая, еле видимая, возносилась белая, неживая, ясная луна, бессильная очаровать скучные земные просторы.
Начинался город серый, тусклый, скучный, какой-то разваленный и бессильный, – грязные задворки, чахлые огороды, ломаные плетни, бани и сараи, шершавыми ежами торчащие невесело и некрасиво. На одном огороде у плетня стоял Егорка, одиннадцатилетний мещанкин сын. Что было красным ситцем, стало на нем рваною рубахою, а лицо – ангел в коричневой маске, покрытой пятнами грязи и пыли. Крылья бы легким ногам, – но что же может земля? Только пылью и глиною приникнет к легким ногам.
Егорка вышел поиграть. Он ждал товарищей. Да почему-то нет их. Он остался вдруг один, заслушался чего-то и вдруг всмотрелся. За изгородью стоял незнакомый тихий мальчик и смотрел на Егорку, такой весь белый. Дивился Егорка, спросил:
– Ты откуда?
– Ты не знаешь, – сказал Гриша.
– Ишь ты, поди ж ты! – весело крикнул Егорка. – А может, и знаю. Ты скажи.
– Хочешь узнать? – спросил Гриша, улыбаясь.
Спокойная улыбка, – хотел было Егорка язык высунуть, да передумал почему-то. Разговорились. Зашептали.
Все затихло вокруг, даже не вслушивалось, – словно в иной отошли мир два маленькие, за тонкую завесу, которой никому не разорвать. Так неподвижно стояли березы, – успокоили их тайным наговором три отпадшие силы. И опять спросил Гриша:
– Правда, хочешь?
– Ей-Богу, хочу, вот те крест, – живою скороговоркою сказал Егорка, и перекрестился мелькающим вкривь и вкось движением сжатых в щепотку грязных маленьких пальцев.
– Иди за мною, – сказал Гриша.
Легко повернулся и пошел домой, не оглядываясь на скудные, скучные предметы серой жизни. Пошел Егорка за белым мальчиком. Тихо шел, дивясь на того другого. Думал что-то. Спросил:
– А ты, часом, не ангел Божий? Что белый-то ты такой?
Улыбнулся на эти слова тихий мальчик. Сказал, – вздохнул легонько:
– Нет, я – человек.
– Да неужто? Просто мальчишка?
– Такой же, как и ты, – почти совсем такой же.
– Чистюля-то какой? Поди, семь раз на дню яичным мылом моешься? Ишь, босой шлепаешь, как и я, а загар к тебе не липнет, только пылькой ноги заволок.
Пахло откуда-то тихою фиалкою, и был в воздухе сухой запах пыли, и надоедливо носился сладковато-горький дух, гарь лесного пожара.
Мальчики миновали скучное однообразие полей и дорог и пошли в сумрачной тишине леса. Раскрывались поляны и рощи, ручьи звенели в тихих берегах. Мальчики шли по дорожкам и тропинкам, где сладкие росы приникали к ногам. И все окрест преображалось дивно перед Егоркиными глазами, отпадая от ярого буйства злой, но все-таки серой и плоской жизни. Длилось, убегая и сгорая, время, свитое в сладостное кружение милых мгновений, – и казалось Егорке, что забрел он в неведомые страны. Спал где-то ночью, – радостный просыпался, разбуженный влажными щебетаниями птиц, отрясающих раннюю росу с гибких ветвей, – играл с веселыми мальчиками, – музыку слушал.
Иногда белый мальчик Гриша отходил от Егорки. Потом опять появлялся. Егорка заметил, что Гриша держится отдельно от других, веселых, шумных детей, – не играет с ними, говорит мало, не то что боится или сторонится, а как-то само собою выходит, что он отдельно, один, светлый и грустный.
Вот Егорка и Гриша остались одни, пошли вдвоем. Был лесок, весь сквозь пронизанный светом. И все сгущался лес.
Стояли два дерева, очень прямые и высокие. Между ними – бронзовый прут, на пруте, на кольцах, – алая шелковая занавеска. Легкий ветер колыхал ее тонкие складки. Тихий мальчик, синеглазый Гриша, отдернул занавеску. С легким, свистящим шелестом свились ее алые складки, словно сгорая. Открылась лесная даль, вся пронизанная странно-ясным светом, как обещание преображенной земли. Гриша сказал:
– Иди, Егорушка, – там хорошо.
Егорка всматривался в ясные лесные дали, – страх приник к его сердцу, и тихо сказал Егорка:
– Боюсь.
– Чего ты боишься, глупенький? – ласково спросил Гриша.
– Не знаю. Чего-то боязно, – робко говорил Егорка.
Опечалился Гриша. Тихо вздохнул. Сказал:
– Ну, иди себе домой, коли у нас боишься.
Егорка вспомнил дом, мать, город. Не очень-то весело жилось дома Егорке, – нищета, колотушки. Вдруг бросился Егорка к тихому Грише, ухватился за его легкие, прохладные руки, завопил:
– Не гони, миленький, не гони ты меня от себя!
– Да разве я тебя гоню! – возразил Гриша. – Ты сам не хочешь.
Егорка стал на колени и, целуя легкие Гришины ноги, шептал:
– Вам, государям ангелам, от поту лица своего молюсь.
– Иди же за мною, – сказал Гриша.
Легкие руки легли на Егоркины плечи и подняли его от тихих трав. Егорка послушно пошел за Гришею, к синему раю его тихих глаз. Перед ним открылась успокоенная долина и на ней тихие дети. Сладкая роса падала на Егоркины ноги, и радостны были ее поцелуи. А тихие дети окружили Егорку и Гришу, в широкий стали круг и увлекли их в легком круговом движении хоровода.
– Государи мои ангелы, – вскрикивал Егорка, кружась и ликуя, – личики ваши светленькие, оченьки ваши ясненькие, рученьки ваши беленькие, ноженьки ваши легонькие! Ништо я на земле, ништо я в раю? Голубчики, братики и сестрицы, где же ваши крылышки?
Чей-то близкий, сладко-звенящий голос отвечал ему:
– Ты на земле, не в раю, а крыльев нам не надобно, мы летим и бескрылые.
Увлекли, чаровали, ласкали. Показали ему все лесные дива, под пенечками, под кусточками, под сухими листочками, – нежитей лесных маленьких с голосочками шелестинными, с волосочками паутинными, – пряменьких и горбатеньких, – лесных старчиков, – последышей и попутников, – зоев пересмешников в кафтанах зелененьких, – полуночников и полуденников, черных и серых, – жутико-шутиков с цепкими лапками, – невиданных птиц и зверей, – все, чего нет в дневном, земном, темном мире.
Загостился Егорка у тихих детей. Не заметил, как целая неделя прошла, с пятницы до пятницы. И вдруг встосковался по матери. Точно зов ее услышал ночью, и проснулся тревожный и звал:
– Мама, где ты?
А кругом тишина и молчание, неведомый мир. Егорка заплакал. Пришли тихие дети утешать. Сказали:
– Так что ж, вернись к матери. Обрадуется. Приласкает.
– А то ни прибьет, – всхлипывая, говорил Егорка.
Улыбались тихие дети, говорили:
– Отцы и матери бьют своих детей.
– Им это нравится.
– Бьют, точно злые.
– Но они добрые.
– Бьют любя.
– У людей это вместе – стыд, любовь, боль.
– Да ты не бойся, Егорушка, – мать.
– Да ладно, я не боюсь, говорил утешенный Егорка.
Когда Егорка прощался с тихими детьми, Гриша сказал ему:
– Ты бы матери лучше не сказывал, где пропадал столько времени.
– А вот не скажу, – живо ответил Егорка, – ни за что не скажу.
– Ты проболтаешься, – сказала одна из девочек.
У нее были черные, словно бездонные глаза; ее тонкие голенькие руки всегда были упрямо сжаты на груди, она говорила еще меньше, чем другие тихие дети, и изо всех людских слов больше всего нравилось ей слово нет.
– А вот-то и не проболтаюсь, – спорил Егорка, – а ни вовеки не проболтаюсь, никому не скажу, где был, и тем моим словам ключ и замок.
В тот же вечер, как ушел Егорка с Гришею, мать хватилась его. Кликала долго, браня и угрожая. Не докликалась, испугалась, – «не утонул ли?». Бегала по соседям, плакала, жаловалась.
– Пропал мальчишка. Пропал, да и пропал. И ума не приложу, где искать. А не то в реке утонул, а не то в колодец ввалился, пострел.
Кто-то из соседей догадался:
– Жиды поймали, заперли куда ни есть в глухое место, а потом христианскую кровь выпустят и выпьют.
Догадка понравилась. И уже говорили уверенно:
– Никто, как жиды.
– Уж опять это они, проклятые.
– Да уж не без них.
– Уж это такое дело.
И верили. По городу разнесся тревожный слух: евреи украли христианского мальчика. Распространением этого слуха усердно занялся Остров. И уже на базарах поднялись шумные толки. Лабазники и торгаши орали громче всех, подзуживаемые Островым. А он зачем это делал? Знал, конечно, что это ложь. Но он в последние дни занимался провокацией по указаниям местного отдела черносотенного союза. Этот случай пришелся очень кстати.
Полиция принялась за дело. Искали мальчика и не нашли. Зато разыскали еврея, которого кто-то видел около огорода Егоркиной матери. Его арестовали.
Опять был вечер. Егоркина мать была дома, когда Егорка вернулся. Грустный и светлый, подошел он к матери, поцеловал ее и сказал:
– Здравствуй, мама.
Мать накинулась на Егорку с расспросами:
– Ах ты стервеныщ! Где ты был? Что ты делал? Где тебя нечистая сила носила?
Егорка помнил обещание. Стоял перед матерью и упрямо молчал. Мать сердито спрашивала:
– Да где был-то, говори! Жиды тебя, что ли, распинали?
– Нет, – сказал Егорка, – какие жиды! Никто меня не распинал.
Мать яростно закричала:
– Ну, подожди ж ты у меня, пострел неоколоченный! Ужо я тебя разговорю.
Она схватила веник, принялась одергивать прутья, сорвала с мальчика его легонькую одежонку. Грустный и светлый, Егорка вскинул на мать удивленные глаза. Вскрикнул жалобно:
– Мама, что ты?
Но, уже захваченное жесткою рукою, забилось маленькое, омытое тихими водами тело на коленях свирепо кричащей женщины. Было больно, и тонким голоском вопил Егорка. Мать стегала его долго и больно. Кричала в лад ударам:
– Говори, где был! Говори! Задеру, коли не скажешь!
Наконец бросила, заплакала, завопила неистово:
– За что меня Бог наказывает? Да нет, я из тебя слова-то выбью. Я еще завтра за тебя возьмусь поплотнее.
Не столько болью, сколько неожиданною грубостью встречи был потрясен Егорка. Уже он прикоснулся к иному миру, и уже тихие дети в очарованной долине перестроили его душу на иной лад.
Однако мать любила его. Конечно, любила. Потому со зла и выдрала. У людей это всегда вместе – любовь и жестокость. Им нравится мучить, им сладостна месть. А потом пожалела мать Егорку. Думала, что уже не слишком ли больно порола. И уж без криков подошла к Егорке.
Он лежал на скамеечке и тихо скулил. Потом затих. Мать неловко, шершавыми руками, погладила его спину и отошла. Думала, – заснул.
Утром мать побудила Егорку. Но холодный и неподвижный лежал он на скамеечке, лицом вниз. И уже не казался он светлым, – лежал темным и холодным трупом. И взвыла в ужасе мать:
– Умер! Егорушка, да ништо ты умер! Ох, горюшко, – уж и рученьки холодные.
Метнулась к соседям, весь околоток наполнила визгливым воем, всполошила всех окрест. Любопытные женщины набились в ее дом.
– Только тоненькой вичкой постегала легохонько, – слышался вопль матери, – лег он, мой голубчик, на лавочку, поплакал, затих, заснул, что ли, а к утру Богу душеньку отдал.
Окованный смертным тяжелым сном лежал Егорка, неподвижный и бездыханный, и слушал материн вопль и нестройный гул голосов. И слышал, как мать причитала над ним:
– Всю кровь у него высосали проклятые жиды! Да так ли я его прежде, голубчика моего, парывала! Бывало, попорешь и солью посолишь, и все ничего, – а тут маленькою вичкою, а он, ненаглядный мой светик, ангелочек мой…
Слушал Егорка ее вой и дивился своей тяжелой скованности и неподвижности. Точно стук чужого тела услышал он, – догадался, – на пол положили, мыть. Так хотелось пошевелиться, встать, – не мог. И думал:
«Умер, – куда ж теперь меня определят?»
И опять думал:
«А что же душа с телом не разлучается? Ни рук, ни ног не чую, а слышу».
И дивился, и ждал. А то вдруг бессильным напряжением воли пытался проснуться от смертного сна, вернуться, убежать от темной могилы, – и опять бессильная никла воля, и снова он ждал.
И слышал звуки отпевания, и вспоминал, как синь дымок от ладана и как пахуч в звенящих тихо взмахах дымного кадила.








