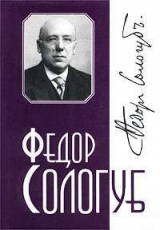
Текст книги "Том 4. Творимая легенда"
Автор книги: Федор Сологуб
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 44 страниц)
Егорку похоронили. Мать повыла над его могилою протяжно и долго и пошла домой. Она была уверена, что мальчишке там будет много лучше, чем на земле, и утешалась. А истинно русские люди, Кербах, Остров и другие такие же, не могли на этом успокоиться. Они распускали злые слухи. Пошла молва:
– Жиды замучили христианского мальчика. Всего изрезали ножами, из крови мацу сделали.
Клеветников не останавливало то соображение, что еврейская пасха была гораздо раньше, чем убежал от матери Егорка.
В городе волновались, – и те, кто верил, и те, кто не верил. Требовали следствия и разрытия могилы.
Елисавета пришла к Триродову днем и оставалась долго. Триродов показывал ей свою колонию. Тихий мальчик Гриша сопровождал их, синими покоями своих глаз смотрел бесстрастно в синие пламена ее восхищенных глаз и смирял знойность и страстность ее волнений.
Ее легкое, просторное платье казалось прозрачным, – так ясны были под ним совершенные очертания тела; были открыты алые и белые розы ее груди и плеч. Загорелые стопы ее ног были обнажены, – она любила нежные прикосновения трав и земли.
Все было как рай, – щебетанье птиц, и детские гамы, и шорох ветра в травах и ветвях, и ропот лесного ручья. Все было невинно, как рай, – нагие встречались девушки, подходили, разговаривали и не стыдились. Все было чисто, как рай. И безоблачно яснело над лесными полянами небо.
Уже когда день клонился к вечеру, Елисавета сидела у Триродова. Они читали стихи. Еще и раньше Елисавета любила стихи. Кому же их и любить, как не девушкам? Теперь она читала их жадно. Целые часы пролетали в чтении, и стихи рождали в ней сладкие и горькие восторги и знойные сны.
Может быть, это было потому, что она влюбилась, и знойные рождались в ней мечты. Влюбилась, новое нашла себе солнце и новый повела вкруг него хоровод мечтаний, надежд, печалей, радостей, очарований и восторгов. И, окрашенный радугою сияний одного светила, был многозвучен и целен этот хоровод, этот пламенный круг стремительных томлений.
В стихи новых поэтов влюбил ее Триродов. Сладостные очарования и горестные разочарования томительно чудились ей в хрупкой музыке новых стихов, написанных сладко и неверно, легких и прозрачных, как те платья, которые она теперь полюбила носить.
Когда так созвучны стали их души, как же им было не любить друг друга?
Были стихи, которые они читали, сладкою мечтою о любви. Триродов говорил:
– Влюбленность говорит миру нет, лирическое нет, – женитьба говорит ему да, ироническое да. Быть влюбленным, стремиться, не иметь – это лирика любви, сладкая, но обманчивая. Внешним образом противоречит она миру и утаивает его роковой разлад. Быть вместе, обладать, сказать кому-то да, отдаться – вот путь, на котором жизнь обличит свои непримиримые противоречия. И как быть вместе, когда мы так одиноки? И как отдаться? Спадают маска за маскою, и ужасен раздвоенный лик подлинного бытия. Приходит скука, – и что же ты, влюбленность, ты, которая похвалялась быть сильнее смерти?
– У вас была жена, – сказала Елисавета. – Вы ее любили. Все напоминает здесь о ней. Она была прекрасная.
Ее голос стал темен, и ревнивым огнем зажглись синие зарницы за влагою ресниц. Триродов улыбнулся и сказал печально:
– Прежде чем настала пора прийти скуке, она отошла от жизни. Моя Дульцинея не хотела стать Альдонсою.
– Дульцинею любят, – говорила Елисавета, – но полнота жизни принадлежит Альдонсе, становящейся Дульцинеею.
– А хочет ли этого она, Альдонса? – спросил Триродов.
Нежно зардевшись, говорила Елисавета:
– Хочет, но не может. Хочет, но не умеет. А мы ей поможем, мы ее научим.
Триродов улыбался ласково и грустно. Говорил:
– А он, как вечный Дон-Жуан, всегда ищет Дульцинею. И что же ему земная Альдонса, бедная, ужаленная мечтою о красоте?
– Он ее за то и полюбит, – отвечала Елисавета, – что она бедная, ужаленная высокою мечтою о красоте. Союз их будет – творимая красота.
Наступила ночь: сумраки прильнули к окнам и шептались прозрачными, жуткими голосами. Триродов подошел к окну. Елисавета стала рядом с ним, – и точно одним сразу взором оба они увидели далекое, смутное кладбище.
Триродов тихо сказал:
– Там его похоронили. Но он встанет.
Елисавета посмотрела на него с удивлением и тихо спросила:
– Кто?
Триродов взглянул на нее как разбуженный. Сказал так же тихо и медленно:
– Он, еще не живший и непорочный отрок. В теле его все возможности и ни одного свершения. Он как созданный для принятия всякой энергии, которая к нему захочет устремиться. Теперь он спит, зарытый в могилу в тесном гробу. Он проснется для жизни, лишенной страстей и желаний, для ясного видения и слышания, для восстановления единой воли.
– Когда он проснется? – спросила Елисавета.
– Когда я захочу, – сказал Триродов. – Я его разбужу.
Звук его голоса был грустен и настойчив, – как звук заклинания.
– Сегодня ночью? – спросила Елисавета.
– Если вы хотите, – спокойно ответил Триродов.
– Я должна уйти? – опять спросила она.
– Да, – так же просто и спокойно ответил он.
Простились, – она ушла. Триродов опять подошел к окну. Он звал кого-то, чаруя, будил, шептал:
– Ты проснешься, милый. Проснись, встань, приди ко мне. Приди ко мне. Я открою твои глаза, – и увидишь, чего не видел доныне. Я открою твой слух, – и услышишь, чего не слышал доныне. Ты из земли, – не разлучу тебя с землею. Ты от меня, ты – мой, ты – я, приди ко мне. Проснись!
Он уверенно ждал. Знал, что, когда спящий проснется в гробу, они придут и скажут, знающие и невинные.
Тихо вошел в комнату Кирша. Он стал рядом с отцом и спросил:
– На кладбище смотришь?
Триродов молча положил руки на его голову. Кирша говорил:
– Там, в одной из могил, есть мальчик, который не умер.
– Ты откуда знаешь? – спросил Триродов.
Но знал, что ответить, Кирша. Кирша сказал:
– Гриша говорил мне, что Егорка не вовсе умер. Он спит. А он проснется?
– Да, – сказал Триродов.
– И придет к тебе? – спросил Кирша.
– Да, – отвечал Триродов.
– А когда он придет? – опять спросил Кирша.
Триродов улыбнулся. Сказал:
– Разбуди Гришу, спроси его, просыпается ли спящий в могиле.
Кирша ушел. Триродов молча смотрел на далекое кладбище, где темная, тоскуя у крестов, к могилам никла опечаленная ночь.
О, где же ты, обрадованная?
А за дверьми тихий слышался шорох, – домашние двигались тихо у стен, и шептали, и ждали.
Разбуженный далеким, тихим стоном встал Гриша. Вышел в сад, подошел к ограде, стоял с опущенными глазами и слушал. Улыбался, но без радости. Кто знает, тот как обрадуется?
Кирша подошел к нему. Спросил:
– Жив? Проснулся?
Кивнул головою по направлению к кладбищу.
– Да, – сказал Гриша. – Стонет Егорушка в своей могиле, живой, тихий; только-то проснулся.
Кирша побежал в дом, к отцу, повторил ему Гришины слова.
– Надо спешить, – сказал Триродов.
Он опять почувствовал знакомое издавна волнение. В нем совершались тяжело и неровно приливы и отливы какой-то странной силы. Какая-то дивная энергия, собранная им одному ему знакомым способом, теперь медленно источалась из него. Между ним и могилою, где смертным сном томился отошедший от жизни отрок, пробегал тайный ток, чаруя и пробуждая спящего в гробу.
Триродов быстро спустился по лестнице в тот покой, где спали тихие дети. Легкие шаги его были едва слышны, и холод дощатого пола приникал к его ногам. На своих постелях неподвижно лежали тихие дети и словно не дышали. Казалось, что их много и что спят они вечно в нескончаемом сумраке тихой опочивальни.
Семь раз останавливался Триродов, – и каждый раз от одного его взгляда пробуждался спящий. И встали три мальчика и четыре девочки. Они стояли спокойно, смотрели на Триродова и ждали. Триродов сказал им:
– Идите за мною.
Они пошли за ним, белые, тихие, – и тихий шорох легких шагов влекся за ними.
В саду ждал Кирша, – и рядом с белыми тихими детьми казался земным и темным.
Быстро, как скользящие ночные тени, шли по навьей тропе, друг за другом, все десять, впереди Гриша. Роса падала на их голые ноги, и земля под ногами была мягкая, теплая и грустная.
Егорка проснулся в могиле. Было темно, немного душно. Голову давила какая-то тяжесть. В ушах звучал настойчивый зов:
– Встань, приди ко мне.
Приступами томил страх. Глаза смотрели и не видели. Трудно дышать. Вспоминается что-то, и все, что вспоминается, страшно, как бред. Вдруг ясное сознание, – ужаснувшая мысль:
«Я в могиле, в гробу».
Застонал, забился. Шея, словно сжатая чьими-то пальцами, судорожно сжималась. Глаза широко раскрылись, – и перед ними метался пламенный мрак заколоченного гроба. Звучали наверху тихие голоса, и земля пересыпалась. Мечась в тесноте гроба, томимый ужасом, Гриша стонал и шептал глухим голосом:
– Три жировика, три лесовика, три отпадшие силы!
Калитка на кладбище была почему-то открыта. Триродов и дети вошли на кладбище. Здесь были бедные могилы, – дерновые насыпи, деревянные мостки. Было сумрачно, сыро, тихо. Пахло травою, – тихою мечтою кладбищ. В мглистом тумане белели кресты. Жуткая тишина таилась, и все пространство кладбища казалось полным темною мечтою почивших. Сладко и больно переживались жуткие ощущения.
Нигде так близко не чувствуется земля, как на кладбищах, – святая земля успокоения. Тихо шли все десять, один за другим, грустную, мягкую под холодающими голыми ногами ощущая землю. Остановились около могилы. Тих и беден был маленький холмик, и казалось, что земля плачет, стонет и томится.
Смутно белея в темноте над комьями черной земли, мальчики раскапывали могилу. Девочки тихо стояли, – четыре по четырем сторонам, – чутко вслушиваясь в ночную тишину. Спали сторожа, как мертвые, и мертвые спали, сторожа бессильно свои гробы.
Медленно открылся бедный гробик. Явствен стал тихий стон. Уже в глубине могилы были мальчики. Наклонились к бедному маленькому гробу. Еще землею полузасыпан был гроб, но уже мальчики чувствовали под ногами дрожание его крышки. Крышка, забитая гвоздями, легко поддалась усилиям маленьких детских рук и отвалилась на сторону, к земляному боку могилы. Гроб раскрылся так же просто, как открывается всякий дом.
Егорка уже терял сознание. Мальчики увидели его лежащим на боку. Он слабо зашевелился. Втягивал воздух короткими, точно всхлипывающими, вздохами. Дрогнул. Опрокинулся на спину.
Свежий воздух пахнул в его лицо, как юный восторг освобождения. Вдруг мгновение радости, – и оно погасло. О чем же радоваться? Спокойные и нерадостные склонились над ним.
Опять жить? Стало в душе странно, тихо, равнодушно. Тихо говорил кто-то ласковый над ним:
– Встань, милый, иди к нам, мы тебе покажем то, чего ты не видел, и научим тебя тому, что тайно.
Звезды далекого неба прямо глядели в глаза, – и близкие чьи-то склонились любовно глаза. Протянулись руки, руки, много рук нежных и прохладных, – взяли, подняли, вынули.
Стоял в кругу. Смотрели на него. Руки у него опять сложились на груди, как в могиле, – точно навеки усвоилась привычка. Одна из девочек поправила, распрямила руки.
Вдруг спросил Егорка:
– Это что ж? могилка?
Гриша ответил ему:
– Это твоя могила, а ты с нами будешь и с нашим господином.
– А могила? – спросил Егорка.
– Мы ее засыплем, – отвечал Гриша.
Мальчики принялись засыпать могилу. Тихо дивясь, смотрел Егорка, как в могилу падали комья земли, как рос могильный холмик. Заровняли землю, крест поставили на прежнее место. Егорка подошел, прочел надпись на кресте. Странно было читать свое имя:
Отрок Георгий Антипов.
Год, месяц и число смерти.
«Это я?» – подумал он.
Дивился слабо, – но уже вещее равнодушие заполоняло душу.
Кто-то тронул его за плечо; спросил что-то. Егорка молчал. Казалось, что он что-то понял.
– Иди ко мне, – тихо сказал ему Триродов.
Девочка, которая всегда говорила нет, взяла Егорку за руку и повела его. Ушли, тою же прошли дорогою. Тишина смыкалась за ними.
С тихими детьми остался Егорка. У него не было паспорта, и жизнь его была иная.
Глава двадцать седьмаяТриродов возвратился домой. Как возвращаются из могилы, так легко и радостно было ему. Восторгом и решительностью горело его сердце. Сегодняшний разговор с Елисаветою вспоминался ему. Возникала радостная, гордая мечта о преображении жизни силою творящего искусства, о жизни, творимой по гордой воле.
Если возникло то, что было или казалось любовью, зачем противиться ему? Ложь или правда чувства, – не все ли равно? Воля, вознесенная над миром, определит все, как хочет. И над бессилием утомленного чувства властна она воздвигнуть сладостную любовь.
То, что долго взвешивалось на весах сознания, то, что долго и глухо боролось в темной области бессознательного, теперь становилось к ясному решению. И пусть будет сказано да. Еще раз да. Для нового ли крушения? Для светлого ли торжества? Все равно. Лишь бы верить ей, лишь бы она верила ему. А настолько уже они сблизились друг с другом.
Триродов сел к столу. Улыбаясь, задумался ненадолго. Быстро на светло-синем листе бумаги написал:
«Елисавета, я хочу твоей любви. Люби меня, милая, люби. Я забываю все мое знание, отвергаю все мои сомнения… я становлюсь опять простым и кротким, как причастник светлого царства, как мои милые дети, – и только хочу твоей близости и твоих поцелуев. По земле, милой нашему сердцу, пройду в простоте и радостном смирении необутыми ногами, как ты, чтобы придти к тебе, как ты ко мне приходишь. Люби меня.
Твой Георгий».
За дверьми слышался легкий шорох. Казалось, весь дом был наполнен тихими детьми.
Триродов запечатал письмо. Захотел отнести его сейчас же и положить на подоконник ее открытого окна. Он тихо шел, погружаясь в сумраки леса, – и приникали к его ногам теплые мхи, и орошенные травы, и земля, простая, суровая, милая. Над влажными веяниями ночи и над свежею прохладою с реки поднимался порою снова надоедливый, сладковатый запах лесной гари.
Елисавета не могла заснуть. Встала с постели. Стояла у окна, предавая прозрачным объятиям ночной прохлады знойное, обнаженное тело. Думала о чем-то, мечтала. И все думы и мечты сливались в один хоровод вокруг Триродова.
Ждать ли? Он, усталый и грустный, не скажет сладких слов, чтобы не быть смешным, не получить холодного ответа.
«И зачем ждать? Или не смею, как царица, решать свою судьбу, звать к себе и любви требовать? Зачем стану молчать?»
И решилась:
«Скажу сама, – люблю, люблю, приди ко мне, люби меня».
Елисавета шептала сладкие слова, ночному молчанию доверяя тайну знойных мечтаний. Пламенны были черные очи ночной гостьи, приносящей отравленные соблазнами мечты. Плескучий, тихий смех русалки за осокою под луною сливался с тихим, сладким смехом ночной очаровательницы, у которой пламенные очи, пылающие уста и свитое из белых огней обнаженное тело. Ее пламенное тело было подобно телу Елисаветы, и черные молнии глаз неведомой чародейки были подобны синим молниям Елисаветиных глаз. Она соблазняла и звала:
– Иди к нему, иди. У его ног упади нагая, целуй его ноги, смейся ему, пляши для него, измучь себя для его забавы, будь ему рабою, будь вещью в его руках, – и прильни, и целуй, и смотрись в его очи, и отдайся ему, отдайся ему. Иди, иди, спеши, беги. Вот он подходит, – видишь, это он вышел из леса, видишь, на траве белеют его ноги. Распахни дверь, оставь здесь одежды, беги нагая ему навстречу.
Елисавета увидела Триродова. Так больно и сладко забилось сердце. Она отошла от окна. Ждала. Слышала его шаги на песке под окнами. Что-то мелькнуло в окне и упало на пол. Шаги удалились.
Елисавета подняла письмо, зажгла свечу, прочла синий, милый листок, бумаги. Шептала ей ночная очаровательница:
– Он уйдет. Спеши. Ты узнаешь, как сладки первые поцелуи любви. Иди к нему, беги за ним, не ищи скучных покровов.
Елисавета порывисто распахнула дверь на балкон и сбежала в сад по широким его ступеням. Побежала за Триро-довым. Крикнула:
– Георгий!
Голос ее был звонким воплем желания и страсти. Триродов остановился, увидел ее, стремительно-белую, всю ясную в ясных лучах луны, – и Елисавета упала в его объятия; и целовала его, и смеялась, и повторяла без конца:
– Люблю, люблю, люблю.
И целовались, и смеялись, и говорили что-то. Были радостны и чисты несмятые, алые и белые розы ее стройного, сильного тела. Все, что они говорили, было свято и чисто. Перед непорочною луною в блистании очей и звезд ночной тишине и ночному мраку они сказали слова, связывающие их в одну чету. Клятва и обряд, не менее прочные, чем всякие иные. Улыбки, поцелуи, нежные слова – вечный обряд, вечная тайна.
Небо светлело, и новые новым утром пали росы, и отгорел восторг зари, и солнце встало, – и только тогда они расстались.
Елисавета вернулась к себе. Но как уснуть? Пришла к Елене. Елена уже проснулась. Елисавета легла с нею рядом под ее одеяло и говорила ей о любви своей и о своем восторге. Елена радовалась, смеялась, целовала сестру без конца.
Потом Елисавета надела утреннее платье и пошла к отцу, – рассказать ему о своей радости, о своем счастии.
А Триродов, томимый утреннею усталостью, шел домой по холодным росам, – и в душе его были недоумение и страх.
Днем Триродов приехал к Рамеевым. Он привез в подарок Елисавете сделанный им самим фотографический снимок с его первой жены, – на обнаженном теле бронзовый пояс, соединенный спереди спускающимися до колен концами; на черных волосах узкий золотой обруч. Тонкое, стройное тело, – грустная улыбка, – безрадостно темные глаза.
– Отец знает, – сказала Елисавета. – Отец рад. Пойдем к нему.
Когда Елисавета и Триродов опять остались одни, что-то темное вспомнилось Елисавете. Она опечалилась, подумала, вспомнила, спросила:
– А спящий в гробе?
– Проснулся, – ответил Триродов. – Он в моем доме. Мы откопали его кстати, чтобы спасти мать от угрызений совести.
– Почему? – спросила Елисавета.
Триродов рассказывал:
– Сегодня утром судебный следователь раскрыл могилу. Нашли пустой гроб. К счастию, я узнал вовремя, прежде, чем могли возникнуть новые глупые толки, и дал им объяснения.
– А мальчик? – спросила Елисавета.
– Останется у меня. К матери он не хочет, матери он не нужен, мать получит за него деньги.
Все это Триродов говорил сухим, холодным тоном.
Весть о том, что Елисавета будет женою Триродова, очень различно подействовала на ее родных. Рамеев любил Триродова и потому был рад сближению с ним; немножко жалел Петра, но и радовался, что его неопределенное положение выяснилось и что уже он не будет томиться надеждами, которым не сбыться. Но все-таки Рамеев был взволнован почему-то.
Елена любила Елисавету и радовалась ее радости; любила Петра – и потому радовалась еще более; и так любила, и так надеялась на его любовь, что и жалость ее к нему была ясна и светла. Смотрела на Петра глазами влюбляющими, нежными.
Петр был в мрачном отчаянии. Но Еленины глаза сладко волновали его. Измученное сердце жаждало новой любви и смертельно тосковало по обманувшей надежде.
Миша был странно взволнован. Краснел, чаще обыкновенного убегал на речку поудить, плакал. А то порывисто обнимал Елисавету или Триродова. Он смутно догадывался, что влюбился в Елисавету. Было стыдно и горько. Знал, что Елисавета и не подозревает об его любви, и смотрит еще на него как на ребенка. Иногда начинал бессильно ненавидеть ее. Говорил Петру:
– Я бы на твоем месте не вешал носа. Она не стоит, чтобы ты ее любил. Гордячка. Елена гораздо лучше. Елена милая, а та воображает что-то.
Петр молчал и уходил от него. И то хоть хорошо, что не бранился и было с кем отвести душу. Быть с Елисаветою и хотелось Мише, и было стыдно и тяжело.
Мисс Гаррисон не выражала своего мнения. Она уже многим была шокирована и привыкла ко всему здесь относиться равнодушно. Триродов в ее глазах был авантюрист, человек с сомнительною репутациею и с темным прошлым.
Спокойнее всех была Елисавета.
Мрачный вид Петра угнетал Рамеева. Захотелось Рамееву утешить его хоть словами. Что ж, люди и в слова верят! Лишь бы верить.
Рамеев и Петр случайно остались одни. Рамеев сказал:
– Признаться, я прежде думал, что Елисавета любит тебя. Или полюбит, если ты крепко этого захочешь.
Петр сказал, грустно улыбаясь:
– Ошибка, стало быть, извинительная и мне. Тем более что у господина Триродова нет недостатка в любовницах.
– Ошибки всем извинительны, – спокойно возразил Рамеев. – Хотя и горьки иногда.
Петр промычал что-то. Рамеев продолжал:
– Но я внимательно наблюдал Елисавету в последнее время. И вот что я скажу, – ты уж меня извини за откровенность, – теперь я думаю, что с Еленою тебе лучше будет сойтись. Может быть, ты и в своем чувстве заблуждался.
Петр горько усмехнулся. Сказал:
– Ну, конечно, – Елена попроще. Не читает философских книжек, не носит слишком античных хитонов и никого не презирает.
– Зачем сводить все на самолюбие? – возражал Рамеев. – Почему попроще? Елена вполне интеллигентная девушка, хотя и без претензий на ширину и глубину взглядов, – и она милая, добрая, веселая.
– Мне под пару? – с ироническою улыбкою спросил Петр.
– Ну, что ты! – сказал Рамеев. – Да и разве ты, кроме моих дочерей, не можешь выбрать себе в жены любую девушку?
– Где уж мне! – с унылою ирониею сказал Петр. – Но я не вижу надобности настаивать. И с Еленою может повториться то же. Она может найти более блестящего жениха. Да и шарлатанов в духе Триродова на свете немало.
– Елена тебя любит, – сказал Рамеев. – Неужели ты не заметил этого?
Петр засмеялся. Притворился веселым, – или и в самом деле вдруг стало радостно и весело вспомнить о милой Елене. Конечно, любит! Но сказал:
– Да почему ты думаешь, милый дядя, что мне во что бы то ни стало нужна жена? Бог с нею!
– Ты вообще влюблен, как бывает в твои годы, – сказал Рамеев.
– Может быть, – сказал Петр, – но выбор Елисаветы меня возмущает.
– Почему? – спросил Рамеев.
– По многому, – отвечал Петр. – Вот он подарил ей фотографию с его покойной жены. Голая красавица. Зачем это? То, что было интимным, разве надо сделать всемирным? Ведь она для мужа открыла тело, а не для Елисаветы и не для нас.
– Этак ты и многие картины забракуешь, – возразил Рамеев.
– Я не так прост, – живо ответил Петр, – чтобы не сумел разобраться в этом вопросе. Одно дело – чистое искусство, которое всегда святое, другое дело – разжигание чувственности порнографическими картинками. И разве не замечаешь ты сам, дядя, что Елисавета отравилась этим сладким ядом и стала слишком страстною и недостаточно скромною?
– Не нахожу этого, – сухо возразил Рамеев. – Она влюблена, – что ж с этим делать? Если в людях есть сладострастие, то что же сделать с нашею природою? Изуродовать весь мир в угоду ветхой морали?
– Дядя, я не подозревал в тебе такого аморалиста, – сказал досадливо Петр.
– Мораль морали рознь, – ответил Рамеев, словно смутясь немного. – Я не стою за распущенность, но все-таки требую свободы мнений и чувств. Свободное чувство всегда невинно.
Петр язвительно спросил:
– А эти голые девицы там в его лесу, все это тоже невинно?
– Конечно, – сказал Рамеев. – Его задача, – усыпить в человеке зверя и разбудить человека.
– Слышал я его разглагольствования, – досадливо говорил Петр, – и не верю им нисколько, и удивляюсь, как другие могут верить таким нелепостям. Не верю также ни в его поэзию, ни даже в его химию. И все-то у него секреты и тайны, какая-то хитрая механика в дверях и в коридорах. А его тихие дети – этого я совсем не понимаю. Откуда они у него. Что он с ними делает? Тут кроется что-то скверное.
– Ну, это работа воображения, – возразил Рамеев. – Мы видим его часто, мы всегда можем прийти к нему, мы не видели и не слышали в его доме и в его колонии ничего, что подтверждало бы городские басни о нем.
Петру вспомнилась вечерняя беседа с Триродовым на берегу реки. Его грустные и властные глаза вдруг зажглись в памяти Петра, – и яд его злобы смирился. Странное очарование приникло к нему, и точно твердил кто-то настойчиво и тихо, что пути Триродова правы и чисты. Петр закрыл глаза, – и предстало светлое видение: лесные нагие девы прошли перед ним длинною вереницею, осеняя его тишиною и миром непорочных очей. Петр вздохнул и сказал тихо, точно усталый:
– Я говорю напрасно эти злые слова. Ты, может быть, и прав. Но мне так тяжело!
Этот разговор все-таки успокоительно подействовал на Петра. Мысли об Елене все чаще возвращались к нему, и все нежнее становились они.
Случилось так, что по какому-то безмолвному, но внятному сговору все старались фиксировать внимание Петра на Елене. Петр подчинялся этому общему внушению и был с Еленою ласков и нежен. Елена радостно ждала его любви и шептала, склоняя к русалочьему смеху тихой реки пылающее лицо и разбившиеся кудри:
– Люблю, люблю, люблю!
А когда оставалась одна с Петром, смотрела на него влюбленно-испуганными глазами, вся внешне-розовая, вся трепетная ожиданием, и каждым вздохом нежной груди под легкою тканью платья, и всею жизнью знойной плоти повторяла все то же несказанное люблю, люблю, люблю.
И начал Петр понимать, что Елена суждена ему, что волей-неволей полюбит он ее. Это предчувствие новой любви было как сладко ноющая заноза в ужаленном изменою возлюбленной сердце.








