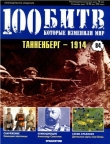Текст книги "Казаки на Кавказском фронте 1914–1917"
Автор книги: Федор Елисеев
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 30 страниц)
В селе Жолтик – дневка. На следующий день полк выступил через кряж на юг, по пути погибшей турецкой роты, чтобы обойти Мемахатун с юга, который будет атакован в этот день нашей пехотой с фронта. Под командование полковника Мигузова приданы 1-й Таманский и 55-й Донской казачий полки.
Ночью, в полной темноте, полки прошли невысокий перевал и проходят ту ложбину, где третьего дня погибла турецкая рота. До сотни трупов в беспорядке раскиданы по всему этому небольшому пространству, как показатель, что эта рота была отрезана от своих войск, и турки гибли не в фазисе правильного боя, а там, где их достигал меткий казачий выстрел.
Боязливый храп наших лошадей, проходивших мимо трупов, еще больше усиливал острую жуть этого скоротечного боя.
На днях русские саперы выкопают общую для них могилу, оставшиеся жители-турки снесут их в нее, и, может быть, никто и никогда не узнает о трагической судьбе этой арьергардной роты, исполнившей свой долг перед своим отечеством до конца.
Маленькая деталь: турок, что вел коня в поводу и присел, подстреленный насмерть, оказался командиром роты. Его конь попал трофеем в 1-ю сотню, а его маленькую, мелкого каракуля папаху с золотыми галунами по черному бархатному верху взял себе на память командир 1-й сотни подъесаул Алферов.
1-я бригада 5-й Кавказской казачьей дивизии (1-й Таманский и 1-й Кавказский полки и 55-й Донской казачий полк 3-й очереди), спустившись с перевала, шла легким шагом по хорошей мягкой дороге в долине, по правому берегу реки Тузла-чай, на запад. Справа от нас – крутое плато, которое мы уже проходили, а слева – высокий массив с вершиной Губан-дага. Светило раннее солнышко и грело нам спины. Полки шли не торопясь, с полным спокойствием, как победители, и вдруг – пух!.. пух! – и две шрапнели с вершины Губандага разорвались над самой головой. И не успел Мигузов от неожиданности дать распоряжения, как огонь четырех турецких горных орудий «заговорил» уже над всей колонной, и весьма удачно. Сотни немедленно шарахнулись вправо и рассыпались, укрываясь, где возможно. А турки вслед по спинам казаков распыляли еще более меткие разрывы. Полки были видны им как на ладони. И в какие-нибудь пять минут от трех полков казачьей конницы не осталось никакой боевой силы. Сотни метались по равнине и искали укрытия. Но стоило его только найти и хоть немного задержаться, как огонь турецкой артиллерии снова находил их и распылял. Буквально негде было укрыться, и – как единственное спасение – надо выйти из зоны досягаемости этого огня. Так и было сделано… Донской полк 3-й очереди растерял много своих пик, которые, кстати сказать, совершенно не нужны были на гористом турецком фронте. Наши же полки обогатились ими для сотенных значков… Старики донцы на своих крупных, мясистых лошадях русской породы вызывали улыбку у наших казаков своей беспомощностью. Хотя мы тоже были смешны, утопая в грязи. «Это турки мстят нам за свою погибшую роту», – накоротке делились мы, укрывшись от разрывов.
Наша пехота с приданными ей 3-м Линейным и 3-м Бкатеринодарским полками еще вчера заняла Мемахатун, и операция была закончена. Турки отошли за реку Кара-су (Черная река) и там остановились. Наш полк остался в селе юго-западнее Мемахатуна с задачей вести разведку на юг и юго-запад. 1-й Таманский полк был выдвинут далеко на запад по громадной долине. 2-я бригада была расквартирована в Мемахатуне.
Жуткая казачья действительностьВ день взятия Мемахатуна был убит младший урядник 4-й сотни Миленин, казак станицы Тихорецкой.
По государственному закону все строевые кони и седла убитых казаков или выбывших надолго из полка по болезни и по ранениям переходили в собственность полка, а семьям, обыкновенно отцу как главе дома или жене, если казак жил самостоятельно, отсылались за них деньги по казенной расценке. С казаками, эвакуированными по разным причинам, это производится в случае, если после двух месяцев они не возвращаются в полк. Остальные вещи убитых продаются с аукционного торга у себя же, в полку.
И вот из седельных подушек убитых казаков, в которых хранится на войне «по раскладке вещей» их белье, его вынесли на аукцион с другими вещами.
Что это было?.. Это было что-то спрессованное, как жмых, так как за два года войны оно не мылось никогда теплой водой или мылось наспех, в речке и, может быть, без мыла. По положению аукционом заведовал офицер, назначенный приказом по полку, чтобы все сделать законно. На полковой аукцион пришло десятка три казаков, по большей части одностаничники убитых.
Казаки молча смотрят на грязные вещи и не покупают, хотя оценка нижней рубашки и подштанников начиналась с двух и пяти копеек, смотря «по чистоте» этих вещей.
Было жалко и стыдно обозревать все это. И это было не белье, а буквально «ходячая холера».
Подхожу к своим станичникам и друзьям детства и говорю им с укором:
– Ребята… Вы же знаете, как бедно живут Боевы?! Покупайте хоть вы!
– Да зачем ана нам… У нас свая такая же грязная… только вазить зря… када и свая астачертила ат грязи…
Да, это была сущая правда. За два года войны казаки сильно обтрепались и не только что никогда не мыли свое белье горячей водой, как следует, да еще с мылом, но и сами почти не мылись, так как негде было.
Было о чем подумать!.. И такое белье во всем своем неприглядном виде надо послать в высшие штабы как наглядный показатель, в каких страданиях своей телесной жизни воюют казаки. И тогда, может быть, вся тыловая Русь, спекулянты всех мастей устыдились бы роскошества своей жизни…
Семья казака, провожая сына на службу, справляла все это часто на свои последние трудовые гроши, и вот теперь убит казак и все это никому не нужно. Нормально – все вещи надо отправить домой, в семью.
Жуткая и оскорбительная действительность…
Представление офицеров в следующие чиныВоюя, мы, хорунжие, как-то и не думали о чинах. Мы отлично знали, что чин сотника получим только через три года. Это был государственный закон. Подъесаулы же, командиры сотен, подсчитывали, когда они получат чин есаула по вакансиям. И вдруг в полку был получен высочайший приказ «об ускоренном производстве всех в следующие чины, за выслугу лет на фронте».
Это был приказ за № 681 1915 года. По этому приказу офицеры всей русской конницы могли быть представлены в следующие чины в таких случаях:
1. Хорунжие и корнеты, выступившие на войну, с производством в сотники и поручики со старшинством 19 июля 1915 года, то есть год войны им давал следующий чин.
2. Прапорщики и хорунжие (в кавалерии корнеты), выступившие на фронт после объявления войны, производятся в следующие чины, пробыв на фронте и в строю 9 месяцев. Им старшинство в следующем чине ограничивалось также не выше 19 июля 1915 года.
3. Для получения чина подъесаула или штаб-ротмистра – надо пробыть на фронте и в строю ровно один год.
4. Для получения чина есаула или ротмистра – надо прокомандовать на фронте сотней или эскадроном 1 год и 4 месяца.
5. Для получения следующих штаб-офицерских чинов – надо на фронте и в строю пробыть 1 год и 4 месяца.
В артиллерии срок пребывания на фронте и в строю чуть увеличивался, так как этот род оружия меньше подвергался непосредственному огню противника.
В пехоте – наоборот, срок пребывания на фронте и в строю уменьшался, так как этот род оружия нес исключительно большие потери.
6. Чтобы получить прапорщику чин хорунжего, а хорунжему чин сотника, надо было пробыть в строю и на фронте только 4 месяца.
7. Чтобы сотнику получить чин подъесаула, надо пробыть на фронте и в строю 6 месяцев.
Дальнейшее производство по срокам не помню, почему и не пишу об этом.
Во всяком случае, каждый род оружия имел свою шкалу времени пребывания на фронте и в строю, чтобы получить очередной чин.
В младших чинах полагался чин и за два ранения, чем воспользовались многие. Потом высочайшим приказом это правило было отменено как слишком щедрое.
Вот по этому высочайшему приказу все наши прапорщики, хорунжие и подъесаулы были немедленно представлены в следующие чины. Представления к производству сделаны в Мемахатуне в середине марта 1916 года, куда были оттянуты к тому времени все полки нашей дивизии.
Первые отпуска в армииТам же, в Мемахатуне, был получен приказ по Кавказской армии, разрешающий 28-дневный отпуск офицерам и казакам. Офицерам – два на полк, а казакам – два на сотню. Это были первые отпуска с начала войны. Мы радостно крикнули «ура» в своих хатах-норах, но немедленно же всплыл вопрос – кто пойдет в первую очередь? Кому дать преимущество?
Почти ко всем семейным приезжали их жены во время короткого, двухнедельного отдыха полка под Карсом. Некоторые офицеры были в командировках по делам полка в Эриване и Тифлисе. Все прапорщики в полку недавно, почему права на отпуск не имели. Собрание офицеров нашло, что первыми должны поехать автор этих строк и старший полковой врач Капелиович.
Он – еврей по рождению, из Баку, высшее образование получил в Германии. Он очень сроднился с полком и полюбил его, держал себя со всеми и с командиром полка умно, солидно, достойно. Мы его называли по имени и отчеству – Самуил Израилевич, а казаки – ваше высокоблагородие. Он не имел никакого чина, но по каким-то законам носил погоны врача «без просвета», и казаки приравнивали его чин к есаулу. В боях вел себя как всякий достойный мужчина и своим спокойствием внушал раненым успокоение. Он уже имел боевой орден Св. Анны 3-й степени с мечами и бантом, который носил с достоинством, и был польщен этим. Вообще, это был европейски культурный человек, гостеприимный и дружественный. Летами он был сверстник нам, сложения крупного, брюнет и носил бороду, как генерал Кутепов.
Но отпуск утверждает командир полка. И полковой адъютант, и полковой врач – должности ответственные. Можно получить и отказ.
С постановлением общества офицеров я докладываю ему, кому ехать в отпуск. Я знал, что Мигузов меня любил. Он вообще любил почти всех нас, молодых хорунжих, еще не испорченных жизнью, хотел нам добра, но это у него получалось как бы «под кислым соусом». Он и тут, после моего доклада, не устоял в своем ехидстве:
– Поезжайте, поезжайте… и покажите там свои ордена… У вас их много теперь… – растянул он, смакуя слова.
Калугин, Маневский и я имели уже все очередные боевые ордена, числом пять, до Св. Анны 2-й степени с мечами на шею, тогда как сам командир полка получил только два боевых ордена. Вот поэтому-то он и ехидничал. Доктора Капелиовича он отпустил без разговоров. К тому же последний внушил ему, что он в Тифлисе побеспокоится о медикаментах.
Отпущен в отпуск и мой денщик, Иван Ловлин, казак станицы Казанской. Конный вестовой Федот Ермолов, казак станицы Расшеватской, идет с нами: в Сарыкамыше он будет ждать нас из отпуска с нашими лошадьми.
От Мемахатуна и до Эрзерума мы скачем в один переход. От Гасан-калы до Сарыкамыша – 90 верст. На дорогу в седлах уже потрачено четыре дня. Тифлис – Кавказская – еще три дня по железной дороге. Всего семь дней, да обратно столько же, значит, дома, в станице, пробудем только 14 дней. Даже для дорогого отпуска на родину Кавказский фронт урезал время.
В Тифлисе заказал наскоро новое обмундирование и впервые надел аксельбанты. На автомобиле-такси несусь вниз, с Головинского проспекта по Верийскому спуску. Навстречу также несется кто-то, двойник по костюму, – в черной черкеске и бешмете, в маленькой белой папахе. Он махнул рукой. Остановились. Оказалось – сотник Коля Бабиев.
– Куда? – бросил он. – Садись ко мне и едем обедать в ресторан «Анона». Там меня ждут два моих урядника, и мы пообедаем вместе, – командует он, ретивый.
– Обедать с урядниками? Да еще в первоклассном ресторане? Но ведь по уставу нижним чинам запрещено даже входить в них, – предупреждаю его.
– У казаков можно! У нас казачье братство и равенство! И я отвечаю за это! – громко, весело, авторитетно произнес он. Сотник Коля Бабиев – «мой средний брат Кабарды – Хаджи-Мурат», которого должен слушаться «его меньший брат, Джембулат»…
У входа в ресторан, что на Головинском проспекте, его действительно ждали два урядника, одетые, как и он, в черные черкески и черные бешметы при небольших белых папахах. На поясе – серебряные кинжалы, но при простых строевых шашках. На газах – по два Георгиевских креста у каждого.
При нашем подходе они молодецки вытянулись, приложив руки к папахам.
И повторилась старая «бабиевская» история. Он им бросил татарское приветствие «Селям!» – и они немедленно громко ответили: «Чох саул!»
Мы все четверо едим шашлык с тархуном и запиваем его кахетинским вином. Урядники держатся скромно и почтительно, и Бабиев говорит с ними запросто, словно в станице. Мне это очень понравилось.
С Бабиевым невольно задержался в Тифлисе на два дня, он потом ехал в свое немецкое селение Еленендорф, что около Елисаветполя, где стоял их полк в мирное время, и хотел дольше побыть вместе со мной. С ним было интересно – особенно слушать его повествования о боях их 1-го Лабинского полка, об офицерах и о многом другом, что крепко связывает чувствами дружбы строевых офицеров на фронте. Оригинальный и интересный был Бабиев тогда и оставался таковым, став генералом ровно через три года.
В отпуску, на берегах Кубани…Я в своей станице. Святая Пасха. Мы на кладбище, по обычаю – поминовение усопших. Там – вся станица. Масса родственников. Сплошное христосование до боли в губах. Казачки целуются крепко, смачно, обязательно в губы и три раза. Спросы да расспросы о мужьях. Свой офицер-станичник, да еще полковой адъютант, живой вестник полка. Он должен все знать, и он должен все рассказать – как там?
Ко мне близко-близко подходит мать и тихо говорит:
– Сыночек… к тебе хотят подойти Боевы, да стесняются. Ведь их Гриша убит в полку… Отец и жена хотят расспросить: как он погиб, но боятся к тебе подойти, сыночек-Воспоминание о гибели Гриши и то, что Боевы хотят подойти, да «боятся», – кровь ударила мне в лицо.
– Где они? – схватив руку матери, болезненно произнес я.
– А вон в сторонке, за могилами… – ответила она, указывая кивком головы.
Бросаю всех своих многочисленных родственников и через могилы, заросшие свежей травой, быстро, перескоком, приближаюсь к ним.
Я хорошо знал «дядю Боева». Он не переменился. И вот он стоит, все такой же маленький ростом, сухой, пришибленный, в серой черкеске домотканого сукна, сшитой ему, видимо, еще к службе. В черном ветхом бешмете, в обыкновенной, уже потертой временем, небольшой черной папахе, без кинжала на поясе, в шароварах, убранных в черные чулки и… «в чириках с ушками».
Бедность, непроглядная бедность во всем выпирала наружу и теперь, как и тогда, в далекие годы моего детства. Они стоят грустные, словно пришибленные – отец, мать, сноха и меньший сын.
– Дяденька, здравствуйте! Христос Воскресе! – очень почтительно и радостно говорю я, обнимая и целуя его в совершенно сухие губы – растерявшегося и убитого горем казака-старика 45 лет от роду. Жена его уже горько плачет, приговаривая:
– Гри-шут-ка на-аш па-ги-ип…
Обнимаю и целую старушку, залившуюся при виде меня еще больше горючими слезами. Все ведь они знают меня еще с пеленок, как своего родного соседа-казачонка, и вот теперь я – офицер, живой, здоровый, веселый, счастливый и прибывший с фронта, где погиб их старший сын, будущий кормилец стариков. Рядом стоит сноха, жена Гриши. Стоит, горестно потупившись, и молча плачет. Я ее раньше не знал. Она «с чужого края станицы».
– Жена Гриши? – спрашиваю ее, сам уже готовый расплакаться. А она, горемычная вдовушка в свои 22 года, вместо ответа бросилась ко мне, повисла на шее и залила слезами и мои боевые ордена, и аксельбанты, и своим неутешным горем перевернула всю мою душу. И мне стало так неловко, даже стыдно, что я так нарядно одет, когда у них большое и непоправимое семейное горе. И мои боевые офицерские ордена, честно заслуженные в должности младшего офицера сотни, меня уже смущали и давили на психику.
Успокоились. Начались расспросы, как всегда у неискушенного казачества: где? Когда? как именно погиб Гриша?
Что я им мог сказать в утешение? Сын ведь погиб, погиб безвозвратно. Я даже не мог им сказать всю правду, чтобы еще больше не усилить их горе. Что он, Гриша, убит в лоб, убит наповал, не пикнув, как цыпленок, так как такие подробности их убили бы еще больше. Ведь все хотят услышать, что «умирающий еще дышал, смотрел, вспоминал отца, мать, жену-подруженьку… и перед последним вздохом просил им кланяться…». А тут – их сын и муж убит «наповал и в лоб». И какое могло быть здесь утешение для них…
Рассказал подробно, как похоронили. Сказал, что мы умыли им лица, поставили православный крест (я не сказал, что это был маленький крестик из палочек, чтобы не огорчить их). Сказал, что могилу можно будет после войны найти и тело перевезти в станицу. Это я врал уже умышленно, желая хоть чем-нибудь, хоть как-нибудь посеять в их душах радость, утешение, успокоение.
От этого рассказа, вижу, посветлели их лица. Они уже смотрят радостно на меня, уже рассматривают мой мундир, ордена. Они уже называют меня по-станичному, по-старому – Федюшка. Но мне от всего этого стало неловко. И вот почему. Их сын, рядовой казак, погиб в бою, зарыт в чужой «распроклятой турецкой земле», а вот он, офицер, не только что жив, но и здоров, весел, приехал в отпуск, да еще к самой Святой Пасхе и – с орденами… Ну, какая же тут может быть справедливость?! Офицер, да еще полковой адъютант… Ну, конечно, сидел в тылу, в канцелярии, не воевал – вот и жив остался, продолжал я думать их горестными думами.
Были тяжкие минуты, и было такое человеческое горе, которое никакими доводами, никакой логикой не доскажешь и не докажешь.
Наговорились. Успокоились. И что же еще спросила меня эта молодая и несчастная вдовушка?
– Федюшка… а как вы мине пасаветуете – аставатца у свекровин или итить к сваим (то есть к родному отцу и матери)? Я тут как свая… миня ани жалеють (то есть любят).
– Слухьяная ана бабачка (то есть послушная), – вставила тут же свекровь.
Я посоветовал остаться у Боевых.
– А как конь и седло? – задал всегда больной у нас в казачьей службе и в семействе вопрос старик Боев.
– Дяденька, конь и седло по закону остаются в полку и за них вам будут высланы деньги, – разъясняю ему и вижу, будто успокоил их.
Теперь они уже сами обняли меня, поблагодарили, и мы расстались, убаюканные человеческими житейскими мечтаниями…
Война 1914–1917 годов, как известно, окончилась бесславно для России. Мы очистили абсолютно весь громаднейший район Турции, занятый нашими войсками в упорных и кровопролитных боях, и отдали даже часть своей территории туркам… И Гриша Боев погиб «зазря». И не только тело его не доставлено в станицу для успокоительного погребения в родной земле, но и погибло все наше Великое Отечество, и все храброе трудолюбивое и добросовестное Казачество.А над могилой трех казаков 1-го Кавказского полка, так геройски погибших под Мемахатуном, турок давно распахал свою небольшую скудную ниву и посеял себе пшеничку. И никто и никогда из родных не найдет того места, в котором похоронены три казака, убитые «в лоб и наповал».
И редко кто остался в живых из нашего, тогда молодого, поколения, бывшего в войне с Турцией. Все погибло…
– Как конь и седло? – спрашивает меня урядник Никита Чулюк, встретившийся со мной на улице, эвакуированный по болезни в самом начале 1915 года.
– Как конь и седло? – спрашивает меня урядник Афоня Сломов, эвакуированный по болезни в конце 1915 года.
– Как конь и седло? – спрашивает меня «дядя Лала», последний сын которого, Гриша, убит под Мемахатуном, у горы Губан-даг, когда я выехал в отпуск.
Горькие и больные вопросы у казаков, связанные именно «с конем и седлом», всегда ими остро переживаемые. И всем надо ответить, разъяснить, всех успокоить. И нужно родиться, жить, воспитываться в станице, чтобы все это тонко понимать.
Однако за годы войны появилась и зажиточность у казаков, в семьях которых были рабочие руки. Много запасного зерна в амбарах. Заметно щегольство среди парубков. Фабричного сукна черкески черного, темно-синего, темно-зеленого цвета, при серебряных кинжалах и поясах – уже не удивляли никого, чего до войны почти не было. Девчата – в дорогих, длинных до полу и широких кашемировых юбках, в шелковых косынках и полусапожках с городскими каблуками. Писаря управления отдела – одно щегольство, умные, отлично грамотные, подтянутые. У них заметно сознание своего достоинства, военно-казачьего и личного, человеческого. В нашей станице в изобилии появился местный кофе – из жареных желудей и ячменя. С каймаком он очень приятен, душист и полезен. Казачки щедро угощают им гостей.
Быть в отпуску и не побывать в Екатеринодаре, в стольном городе Кубанского войска, считалось ненормальным. Я там. По главной – Красной – улице – сплошные ленты гуляющих военных.
Черкески и папахи различных цветов и фасонов. Думалось – откуда и почему их здесь так много?
«Да вот такие же, как и хорунжий Елисеев, прибывшие сюда из многочисленных конных полков, пластунских батальонов, конных батарей, особых конных сотен и других многочисленных частей и учреждений войска – вот почему и много их, праздно и весело проводящих здесь время», – проплыла успокоительная мысль в голове.
Быть в отпуску на Кубани и не побывать за 17 верст в станице Казанской, родине моей матери, – это обида для нее. Там у меня по матери четыре дяди, три тетки и несколько десятков двоюродных братьев и сестер. Семьи у казаков ведь многочисленные!
К парадному крыльцу одного из дядей собрался целый гурт казачек, жен казаков полка. Они хотят посмотреть на меня и порасспросить о своих мужьях. Станица Казанская – особенная станица. Жители ее, безусловно, вышли когда-то на Украину из Великого Новгорода. У них певучий разговор и певучие старинные песни. В их разговоре есть слова чисто новгородские. Например: «ильмень» – это лужа воды после дождя, «любушка» – красивая девушка, «варяги» – казаки другой станицы, «калики перехожие» – нищие с сумой.
Девушки и молодые замужние женщины одеваются в однообразные цветные с крапинками юбки и передники. В данный момент они пришли в желтых широких юбках с черными крапинками и в малиновых передниках с черными, но мелкими крапинками, в белых кофточках и в белых накрахмаленных косынках.
На неделе Святой Пасхи, как во времена новгородского Гостомысла, они строят на длинных жердях «рели» (качели). На двухместное сиденье садится парубок, а его друг идет в гурт девушек и приглашает ту из них, которая намечена парубком. Расплата «за качание» – крашеными яйцами. У парубков бешметы с позументами. В станице «дерутся край на край», как и в Великом Новгороде. В «битве», для славы «своего края», принимают участие и бородатые казаки.
Казачки скромны и боязливы перед офицером, которого они считают как бы «высшим существом». Они поклонились мне в пояс. С ними прибыли и раненные 23 августа прошлого года на склонах Большого Арарата казаки. Среди них на костылях казак Кащаев. Свинцовая курдская пуля перебила ему кости обеих ног, и теперь он калека, но с Георгиевским крестом. Расцеловался со всеми, с казаками родной 3-й сотни подъесаула Маневского.
Казачки поют песни особенно складно. Напоследок хотят меня «обыграть», то есть спеть свадебную песню мне и моей невесте, и спрашивают ее имя. Даю имя первой юнкерской любви, оренбургской казачки. Они голосисто и весело поют и рады угодить гостю с родного «Первого полка», где служат их дорогие мужья.
28-дневный («с дорогой») отпуск проходит быстро. Дома, в своей станице, в семье отца, фактически пробыл чуть больше недели. Наступают дни отъезда. Казачки-станишницы, жены мужей полка, посещают наш дом. На парадном крыльце – не протолкнуться. Чтобы их не стеснять своим офицерским положением и вести непринужденный разговор – выхожу к ним в одном бешмете. Казачки нашей станицы смелы и с офицерами. Станица Отдельская, где и в мирное время живет генерал-атаман отдела, командир 2-го полка и командир льготного батальона пластунов с кадрами своих офицеров. Они их видят часто на Красной улице. Все офицеры живут на квартирах у казаков. Близость железнодорожного узла – станции Кавказской, 40-тысячного населения при нем (теперь город Кропоткин) сказываются на жизни станицы. Летом, почти ежедневно, на станционный базар подводами отправляются казачки с виноградом, клубникой, малиной и всевозможными овощами и фруктами своих богатых садов над Кубанью. Все это, вместе взятое, дало нашим казачкам независимость в жизни и изворотливость. И вот теперь они смело ласковы, разговорчивы, шутливы и даже кокетливы со своим офицером-станичником. Все они – чуть старше меня летами, знают с детства, почему и обращаются свободно. Два года войны без мужей, да до войны два-четыре года без мужской ласки… Молодые, красивые, напомаженные – от них маняще исходил запах физически здорового женского тела. Но и теперь, как и в 1914 году после лагерей, я смотрел на них, как на своих дорогих подруженек детства, тоска и страдания которых в разлуке с мужьями так неописуемы и так мне близки и понятны, что грязные мысли и не зарождались в моем молодом существе.
Они упрашивают меня взять гостинцы своим мужьям – сдобных сладких «орехов», так любимых на всей Кубани.
– Дорогие подруженьки! – говорю им. – Больше 200 верст верхом по горам Турции придется скакать мне… это невозможно. Письма возьму все, – трактую им уже не раз.
– Да хуть немножко возьмите, Федюшка, – настаивают некоторые. Сами они отлично знают, что и «немножко» невозможно, так как служилых казаков в станице несколько десятков, но женское кокетство… Им хочется побыть со мной своим девичьим гуртом, побалагурить, подышать воздухом 1-го полка и, может быть, в десятый раз спросить:
– Ну, как он там? Как его конь? Здоров?
Моей матери не нравится, что они отнимают драгоценные часы у нее, мешают «смотреть на своего сынка». Она выходит на парадное крыльцо и говорит им:
– Бабочки! Ну, чиво вы окружили его? Не может ведь он везти ваши гостинцы верхом на коне!
– Тетенька! Да дайте хучь наговориться с ним – как там в полку живут наши мужья, – отвечает самая смелая из них.
День отъезда настал. Писем для казаков набрался ворох. Весна в полном своем цвету. В станице не чувствовалась война. Казалось бы, в полк возвращаться не хочется. Но нет! Душа уже целиком принадлежит родному полку. Там полностью обозначился «мой дом», как и моя новая полковая семья. А здесь, в отчем доме, я только гость…
В первых числах мая я был уже в Сарыкамыше. И каково же было мое удивление, когда там я встретил квартирьеров от полка. От них я узнал, что полк идет на отдых и завтра будет здесь. И что полковник Мигузов отозван в Тифлис, в распоряжение резерва чинов армии, и временно командующим полком остался старик, полковник Ташлинцев. В полку ожидались перемены.