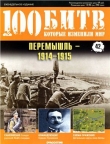Текст книги "Повесть о моей жизни"
Автор книги: Федор Кудрявцев
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 17 страниц)
Встреча Нового года
На встречу нового 1915 года в трактире «У золотого ягненка», в его летнем павильоне в саду за домом, собралось множество зажиточных бюргеров Дрозендорфа в штатском и в военных униформах. Все уселись за одним длинным столом, и пиво полилось рекой. Пили его из отдельных увесистых кружек, пили из одной, ходившей по кругу, огромной, чуть не ведерной глиняной кружки, постепенно хмелели и все громче и задорнее горланили свои воинственные песни под визг скрипок и вой каких-то духовых инструментов небольшого оркестра из заключенных музыкантов, русских подданных евреев.
Гостей обслуживал сам хозяин. Я только подносил ему из дома кувшины с вином и кастрюльки с гуляшом и сосисками с кухни, где готовила сама хозяйка. Ей помогала какая-то бедная родственница, девушка лет восемнадцати по имени Мици.
В какой-то момент, когда хозяйка отлучилась из кухни, Мици робко обняла меня и задушевно сказала:
– Ах, Теодор, как я желаю тебе поскорей возвратиться домой, в Россию, а пока ты здесь, пусть у тебя всегда будет кусок хлеба.
В двенадцать ночи под бой часов гости встретили новый 1915 год, и, покричав «Хох!», попев воинственных песен, подвыпившие австрийцы вскоре разошлись. Увели в лагерь и меня.
Дня через два в лагере вспыхнул сыпной тиф и был объявлен карантин. Начальство предложило моему хозяину предоставить мне жилье, чтобы я не занес заразу в город. Но когда он сказал мне об этом, я жить у него наотрез отказался, чем его и хозяйку сильно удивил. Удивился моему отказу и переводчик господин Фильгур.
– Ну и чудак же ты, ну, – говорил он мне. – У хозяина ты был бы сыт и не заболел тифом, ну, тебе было бы лучше, а ты уходишь, ну?
Но в лагере русские готовились к Рождеству и встрече Нового года, которые тогда, по старому стилю, праздновались в России на две недели позже. И я уперся, так как не мыслил себя в эти дни без своих товарищей по плену и таких добрых друзей, как вечный студент, вятич Сергей Иванович Крестьянинов; будущий агроном, краснохолмец Василий Иванович Шмутин; его товарищ по практике, милый душевный Григорий Федорович Водянюк с Волыни и его землячка Маруся Матвеюк. Все они, за исключением Маруси, были значительно постарше меня и относились ко мне внимательно и заботливо.
Самым близким моим земляком оказался в лагере Николай Александрович Матавкин, учитель, родом из одного со мной Мологского уезда Ярославской губерии. Впоследствии он тоже оказал большое влияние на мое развитие. Но об этом позднее.
Итак, я избавился от работы у герра Файлера. На мое место с большой охотой пошел молоденький серб, который до войны, как и я, работал мальчиком в ресторане.
Рождество и Новый год русские решили отметить самодеятельными концертами. Во втором этаже нашего огромного мрачного здания было устроено из досок небольшое возвышение – эстрада. Перед ней подвешены гирлянды из еловых веток и две небольшие керосиновые лампы. Места для зрителей – на полу с постланной по стенам и посредине соломой для спанья.
Концерты состояли главным образом из песен: «Из страны, страны далекой…», «Ты взойди, взойди, солнце красное…», «Солнце всходит и заходит…» и других подобного рода. Мне было предложено прочитать стихотворение Н. А. Некрасова «Внимая ужасам войны…», но я оказался плохим чтецом и этот номер исполнил пленный Иванов из Ставрополя Кавказского. На скрипке, гармонии и балалайке исполнялись «Тоска по Родине», «На сопках Маньчжурии» и др. Большой успех имела исполненная хором песня «Вечерний звон».
Впечатление от концертов в этой обстановке было потрясающее. Некоторые заключенные плакали.
К чести австрийцев, надо сказать, что свое католическое Рождество они отметили, выдав всем пленным кроме обычного рациона по небольшой белой булочке. Через две недели в православное Рождество всем русским подданным без различия вероисповеданий, а также сербам и черногорцам как православным, снова было выдано по белой булочке. Некоторые из пленных объясняли это тем, что у коменданта нашего лагеря барона Доббльгофа мать русская, православная. Кстати, барон Доббльгоф был довольно порядочным человеком и никаких особых притеснений пленным не чинил.
Зерновики
На втором этаже нашего здания, где пол был не кирпичный, а дощатый, хотя и здесь пленные спали на соломе, было все же лучше, теплее бокам. Тут среди общей массы пленных выделялась группа, человек тридцать – сорок, молодых парней лет по двадцать пять – двадцать семь. Это были представители разных народов России, но держались они между собой дружно и сплоченно. Они называли себя «зерновиками» и имели много общего. В Петербурге в те годы существовало общество «Русское зерно». Оно занималось распространением среди крестьян агрономических знаний. Возглавлял его генерал Болотов. Это общество вербовало в разных губерниях России наиболее развитых молодых крестьян, в ряде случаев и сельских учителей, и за свой счет отправляло их на практику за границу, главным образом в чешскую область Моравию, бывшую тогда под властью Австро-Венгрии. Здесь их устраивали в деревнях у зажиточных крестьян в качестве практикантов на два года. За койку, харчи и небольшую плату практиканты должны были работать как батраки и одновременно приглядываться к ведению сельского хозяйства и перенимать опыт. Родство русского и чешского языков облегчало эту задачу.
Начавшаяся летом 1914 года война нарушила эту работу. Все практиканты были интернированы сначала в пустовавшем заброшенном старинном замке Карлштейн в Чехии, а затем переведены в концлагерь Дрозендорф в собственно Австрии, куда вскорости перевели из Чехии и нас из города Эгера (ныне Хеб).
Я узнал, что среди зерновиков есть несколько казаков, а казаки в моем представлении тогда были особыми людьми, «которые за царя против народа». И мне захотелось к ним приглядеться. Я познакомился с ними. Их было трое. Все они оказались простыми русскими людьми без всякой свирепости в характере и внешнем виде. Вот донской казак – землероб Иван Артемов из хутора Жуков. Смуглый, темноволосый. Сильно тосковал по родине и по молодой жене. На третий год нахождения в лагере помешался и все хотел расправиться со стариком-цыганом, который будто бы подговаривал его убить сербского премьер-министра Пашича. Артемова увезли в Вену, и больше мы о нем не слышали.
Кубанский казак Семен Давыдов. Молодой белокурый красавец с чубом, лихо закрученными усами и довольно воинственным обликом, но простой и веселый парень.
Оренбургский казак Александр Пичугов. Худощавый, небольшого роста, очень интеллигентный парень из города Троицка, где он служил писарем в каком-то управлении. Человек передовых взглядов. К войне и царизму относился резко отрицательно.
Эти казаки, как и все остальные зерновики, относились ко мне дружелюбно, а некоторые, упомянутые выше (Шмутин, Водянюк и Матавкин), стали моими истинными друзьями. Я сблизился с этой группой пленных и старался держаться около нее.
Я и сейчас хорошо помню многих из них, правда, имена некоторых уже забыл. Вот Константин Кашин из Перми. Певец и рассказчик. Вот Дементьев – любитель поспорить, который, чтобы убедить противника, восклицал: «А вот приезжай к нам в Сампур и увидишь!» Вот белорусы, двоюродные братья Адам и Лазарь Мурашки; два латыша – запасной солдат-гусар Петр Кукач и красивый статный Викентий Зуян; тихий улыбчивый грузин Трифон Цегарешвили; украинцы – могучий Степан Барабаш, ведущий свою родовую от какого-то гетмана, и не менее могучий полтавский хлебороб с грубым крестьянским лицом Илларион Громко; вот высокий костлявый черноволосый учитель-мордвин Игнатий Нуянзин; простодушный литовский крестьянин Петр Палюкенс; объект товарищеских шуток – пахарь из пензенской деревушки Никита Доронин, которого его хозяева-чехи долго не могли приучить пить кофе. Еще вспоминается мне Иван Полубабкин, который, если слышал жалобы товарищей на плохой менаж (питание) в лагере, всегда говорил: «Ничего, охламоны, злее будете». А молчаливый воронежец Михаил Баранов втихомолку писал стихи. Как-то он осмелел и прочитал их нам. Стихи были примитивные, слабые. Я решил про себя, что смогу сочинить стихи складнее, и тоже стал писать. Наш критик С. И. Крестьянинов нашел мои произведения лучше, чем Баранова, и с тех пор я стал заниматься стихотворчеством. Найдя некоторые из моих виршей удачными, Сергей Иванович назвал меня «поэтом в неволе».
Объяснив мне простейшие правила стихосложения, мой друг принялся обучать меня простым дробям. В это время Франц Лерл прислал мне из Теплы учебник английского языка, и я принялся и за него. Вскоре я это занятие бросил, решив, что не уцелею от тифа, а праотцы поймут меня и по-русски. Бросить же дроби Сергей Иванович мне не позволил. Когда мы прошли все четыре действия, я спросил его, можно ли теперь считать, что я вроде как окончил гимназию. Вопрос был наивный и глупый, как и мое решение бросить английский, и я пишу об этом для того, чтобы показать, каким еще ребенком был я в мои девятнадцать лет.
Опасения попасть к праотцам имели серьезные основания. Я видел, как на полу, на перетертой соломе, рядом со здоровыми метался в тифозном бреду бежавший после 1905 года из России от смертной казни за революционную деятельность латыш-агроном Александр Владимирович Эйдук. Недалеко от него лежал в тифу тоже агроном украинец Коваленко. Были и другие тифозные больные.
Наша коммуна
Если в начале войны нашего менажа нам хватало, то уже в начале 1915 года он сильно уменьшился и ухудшился. Началась полуголодная жизнь, при которой каждая картофелина, каждый ломтик хлеба или ложка фальшгуляша были благом.
Чтобы добывать себе хоть немного добавочного питания, мы, несколько человек ближайших соседей по спальным местам в помещении, объединились в коммуну с условием, что каждый из нас будет стараться честно добывать чего-нибудь съестного и пользоваться этим всем вместе. В коммуну вошли: Сергей Иванович – он рисовал портреты желающих, кто мог заплатить ему чем-нибудь съестным; затем еврей-портной из Варшавы Игнатий Малый, который кусок хлеба или пару галет добывал иглой. Два донецких шахтера Червяков и Максимов, бежавшие в Австрию от военной службы еще до войны, носили на кухню воду и за это получали прибавку супу, который они отдавали в коммуну. Еще один пленный, бывший во время русско-японской войны в плену в Японии, и я, не умея ничего делать, просто брали у получающих с воли посылки белье в стирку, стирали его холодной водой в будке-прачечной, за что тоже получали чем-нибудь съестным. И был еще в нашей коммуне русский немец студент Бухмюллер. Чем он добывал свои вклады в общий котел, я сейчас точно не помню, кажется, что преподаванием стенографии.
Таким образом, к нашему полуголодному пайку к вечеру образовывалась кое-какая добавка, которую мы съедали все вместе.
Наша коммуна просуществовала недолго. Заказчиков на наши услуги оказалось очень мало, к тому же Сергея Ивановича вскоре перевели в другой лагерь под названием Гроссау, который, кажется, был филиалом нашего и находился от нас километрах в двадцати.
Австрийские власти приняли решительные меры против тифа. Произвели дезинфекцию в помещениях. В горячих паровых установках пропарили все вещи каждого пленного. Эпидемия прекратилась. Никто из членов нашей коммуны не болел.
Справа от меня на полу спал правоверный еврей лет сорока. Он был очень набожный, до войны жил в каком-то сугубо еврейском местечке русской части Польши и имел традиционные еврейские пейсы, рыжие усы и бороду.
Мой набожный сосед просыпался рано и готовился к молитве. Он прикреплял ко лбу нешироким ремешком какой-то кубик, затем этим же ремешком от плеча до кисти спиралеобразно туго обматывал левую руку, накрывался с головой большим белым покрывалом с черной полосой по краям и начинал, сидя, раскачиваясь взад и вперед, вполголоса читать молитвы, а я, слушая их, снова засыпал.
Иногда, ложась спать или просыпаясь, крестился и я, а один раз даже исповедовался и принимал причастие. Это было во время эпидемии тифа, когда то и дело кто-нибудь умирал. Было объявлено, что из Вены приехал греческий священник и что все православные могут исповедаться и причаститься.
Евреи устроили в одном углу первого этажа свою постоянную молельню, которую мы называли синагогой, и раз в неделю собирались там на моление. Раза два я заходил в нее и слушал, как заунывно запевал кантор и как общим пением, похожим на отчаянные вопли, подхватывали его песнь молящиеся.
Во время эпидемии тифа евреям пришлось вынести отчаянную борьбу в защиту своих бород и пейсов. Дело в том, что был приказ остричь всех пленных наголо во всех местах, где растут волосы. По понятиям же пожилых евреев, а их было много, борода и пейсы – это священный признак благочестия, придающий лицу богоугодный вид. И большинству благоверных евреев удалось сохранить этот вид.
Евреи-интеллигенты относились к своим бородатым сородичам с пейсами пренебрежительно и заверяли нас, что у них с этими богомолами столько же общего, как, скажем, с китайцами или эфиопами, и сторонились их.
Буковинцы
Той же зимой начала 1915 года в наш лагерь прибыла новая группа пленных. Это были пожилые мужчины, женщины и подростки. Были и молодые женщины с малолетними и даже грудными детьми. Вместе с ними прибыло шесть или семь небольших крестьянских лошадок с упряжью и крестьянскими повозками. Мужчины были одеты в домотканые шерстяные штаны и полушубки, на голове овчинные шапки, из которых почти до плеч свешивались длинные волосы. У них были усы, а бороды сбриты. Женщины были одеты по-деревенски. Во всем облике этих людей просвечивала нужда и забитость. Говорили они на каком-то украинском, но довольно близком к русскому наречии. Это были крестьяне из принадлежавшей в то время Австрии украинской земли Буковины.
Интересуясь, кем они считают сами себя, я спросил об этом одного из них, молодого парня.
– А мы руськие, – простодушно ответил он.
– Русские – это мы, а вы буковинцы, – возразил я.
– Ни, – заспорил он, – мы живем в Буковине, але мы руськие.
– Ну а кто же мы? – спросил я.
– А вы москали, российские, – так же просто пояснил он.
Видимо, буковинцев согнали с родных мест в спешном порядке. Они были плохо одеты, особенно дети, а зима была холодной. И вот один австриец из администрации лагеря, житель городка Дрозендорфа, стал в свободное от службы время ходить по домам, рассказывать о тяжелом положении детей в лагере и собирать пожертвования детскими вещами. Этим он очень хорошо помог маленьким невинным жертвам войны. Фамилия этого доброго человека была Кайзер.
Весна 1915 года
Миновала тяжелая холодная тифозная зима. Наступила весна, а с нею и весенние праздники.
На еврейской Пасхе для пленных русских евреев от австрийских евреев из Вены поступило много мацы – очень тонких лепешек из совершенно пресного теста из белой муки. Мацу разделили между всеми верующими и неверующими, то есть с пейсами и без пейсов, евреями. Многие из интеллигентных евреев угостили своей мацой и нас, что было очень кстати.
Наступила и христианская Пасха. Имевшееся в лагере православное духовенство организовало церковную службу под открытым небом. Устроили примитивное подобие алтаря и утром после завтрака началось богослужение. Его вел старший среди православных священников по сану, сербский не то архимандрит, не то епископ. Я помню, во время этой службы случился забавный курьез. По ходу службы требовалось кадило. Такого кадила не было. Его заменили железной сковородой с железной же ручкой. От горящих на ней углей с еловой смолкой сковорода раскалилась, нагрелась и ручка, и когда священник ухватился за нее, то сильно обжегся, и вот в молитву, с которой он в этот момент обращался к Господу, вплелась такая забористая матерщина, которая сразу развеселила молящихся. Замечу, что бывшие в лагере сербы матерились крепче всех и превосходили в этом мастерстве даже русских. Причем сербские ругательства очень схожи с русскими.
В один погожий день пленным объявили о прогулке вне лагеря. Желающих набралось сотни две. Нам разрешили взять с собой деньги в виде особых бумажных знаков, которые были введены в лагере вместо наличных денег. Такие знаки назывались бонами и принимались в отдельных магазинах и трактирах в самом городке.
Нас построили, сосчитали, предупредили, как вести себя на прогулке, и в сопровождении десятка солдат мы пошли в городок. Пройдя километра четыре то лесом, то по открытому месту в гору, мы пришли в небольшую деревню Обертюрнау. Здесь тоже имелась небольшая лавка и трактир одного из офицеров нашей охраны – пожилого ополченца господина Кельнера. Он был сам налицо и встретил нас очень радушно. Не снимая мундира, он надел фартук и в саду при своем трактире принялся наливать нам пиво. У другой бочки орудовала его жена. Кто-то из семьи подавал на столики вино и ром. Торговля шла бойко. Впоследствии нам рассказывали, что прогулка была организована именно для того, чтобы малость оживить совсем заглохший из-за войны гешефт некоторых лиц из нашей лагерной администрации.
Не помню, до или после этой прогулки со мной произошел неприятный случай. В лагерь привезли для раздачи пленным, кто сильно нуждается, подержанную, но еще довольно хорошую гражданскую одежду, пожертвования австрийского населения на нужды войны. Мой черный рабочий костюм за зиму сильно истрепался, при этом я постарался и сам придать ему рванистый вид. Когда я попросил дать и мне костюм, начальник склада спросил: разве у меня больше нечего носить? Я сказал, что нечего. Правда, у меня в чемодане был новый выходной костюм, но я не хотел рвать его на разных работах в лагере. Берег до дня освобождения. Начальник послал солдата проверить мой чемодан. Увидев у меня выходной костюм, солдат доложил начальнику. Начальник ударил меня раза три по лицу, один солдат стал бить по спине палкой, а двое или трое били кулаками. За обман. Узнав об этом, мои друзья пытались писать властям протест, но следов побоев у меня на теле не оказалось и дальше возмущения моих товарищей по коммуне дело не пошло. А потом всех нас, за исключением небольшой группы строителей да переводчика господина Фильгура, отправили в другой лагерь в другом районе.
Штейнклямм бай Рабенштайн
Недалеко от станции с таким названием стояли три-четыре небольших здания какой-то фабрики, а дальше ровными рядами стояли дощатые бараки, их было свыше семидесяти. Все это находилось в небольшой котловине, со всех сторон замкнутой высокими горами. На вершине одной из них виднелись развалины старинного замка. С одной стороны у подножия горы шумела небольшая речка, с другой параллельно ей шла железная дорога. Кроме фабрики и бараков, в котловине никаких селений не было.
Мы разместились в бараках и стали знакомиться с обстановкой. Прежде всего менаж. Он был хуже дрозендорфского. Около половины бараков пустовало. В остальных размещались бывшие союзники Австрии и Германии – итальянцы, а также прибывшие раньше нас русские подданные разных национальностей.
В этом лагере пленных заставляли работать. В одном из бараков одни пленные плели длинные жгуты из соломы, а другие шили из них огромные боты для фронта, чтобы надевать поверх ботинок. Мы всячески саботировали эту работу. Незаметно резали большие клубки с этими жгутами, протыкая их ножом. По возможности портили и готовые боты, и их производство скоро прекратилось. Стали гонять на работы по уборке лагеря и на разные другие работы.
Вскоре я заметил, что при прочесывании лагеря для сбора людей на работу солдаты пропускают пленных интеллигентного вида, на ходу читающих книгу. Я достал свой английский учебник и также во время сборов на работу стал расхаживать между бараками, заниматься английским. Больше меня на работу не гоняли. Но и без работы было скучно.
Стали набирать группу на работу по расчистке реки вне лагеря. На месте работы выдавали суп и хлеба лучше и больше, чем в лагере. Многие зерновики, жившие со мной в одном бараке, записались в эту группу. И я с ними. И вот каждый день утром мы садились на электричку (здесь я впервые в жизни ездил на электропоезде) и остановки четыре ехали до места работы.
Работали мы по расчистке реки, сильно занесенной песком. Одни нагишом влезали в воду, лопатами поддевали со дна песок и грузили его на тачки, которые другие по узким мосткам выкатывали на берег и там опорожняли. На другой день работавшие накануне в воде возили тачки, а их товарищи лезли в воду. Вечером электричка везла нас домой. Работали мы так около месяца.
Но вот стали набирать группу человек шестьдесят на угольные копи возле городка Берндорф. Объясняли, что будут хорошо кормить и платить по одной кроне (37 коп.) в день, а уголь-де идет на газовый завод, освещающий этот городок. В эту группу записались все зерновики. Не отстал от них и я.
И вот мы в Берндорфе, очень живописном, уютном рабочем городке. Разгар лета. Кругом все цветет. Со станции нас ведут в большую столовую какого-то завода. Перед ней зеленая лужайка. Развалясь на ней, мы с полчаса ждем. Затем входим в столовую. Большой чистый зал с длинными, чисто отструганными столами без скатертей. Возле столов длинные скамьи. Над окном раздачи, очень широким, под потолком красивая крупная надпись по-немецки: «Мир, работа, образование». Выделенные товарищи подают на столы прекрасный рисовый суп с консервным мясом, по большому куску хлеба и на второе по куску жареного мяса с гарниром из фасоли. Едим, а на лицах у всех радостное удивление, и рты невольно растягиваются в улыбку. Давно так хорошо и сытно не ели. Ведут на квартиру. Большой красивый оштукатуренный барак в каштановой роще. Каштаны цветут. В бараке три помещения с чистыми нарами и шкафчиками для вещей и одежды. Получаем пустые матрацы (штрозаки) с отверстиями для набивки соломой посередине, наволочки для подушек и жиденькие клетчатые хлопчатобумажные одеяла. За бараком куча соломы. Набиваем. Устраиваемся матрац к матрацу по полюбовному выбору соседей слева и справа. Смех, разговоры. В десять часов отбой. Гаснет свет. Засыпаем.
В шесть утра крик: «Ауф!» Просыпаемся. Это нас разбудил солдат на работу. Быстро одеваемся. Строимся, и нас колонной по четыре под конвоем солдат ведут километра два за город, полем. Подводят к небольшому белому зданию. Это столовая и души для рабочих со шкафчиками для одежды. Получаем по пол-литра эрзац-кофе и по куску, граммов двести, хлеба. Завтракаем и по очереди проходим медосмотр. Военный доктор средних лет спрашивает меня о возрасте. Отвечаю:
– Девятнадцать.
– Но вы же совсем мальчик, – удивляется он, но к работе все же допускает. У зерновика Мельникова красные глаза. Трахома. Его тут же направляют обратно в лагерь. Нам выдают по хлопчатобумажной куртке, кепке, паре штанов и по паре рабочих ботинок, по паре грубого белья и носков. Велят переодеться, потом снова ведут метров триста к какому-то сооружению с крышей без стен. Некоторым из нас выдают кирки, другим лопаты. Многим ничего не выдают.
Перед нами небольшая копь по добыче бурого угля открытым способом. Неглубокий, от трех до пяти метров, неровный котлован с выбранной землей и открытым пластом угля. По дну котлована разбегаются маленькие рельсы, на них опрокидные вагонетки.
Штейгер расставляет нас по рабочим местам и объясняет, кому что делать. Мне достается работа по засыпке шлаком места, где выбран уголь.
Мы быстро освоились с работой. Одни внизу дробили уголь, другие грузили его в вагонетки, третьи подгоняли вагонетки к машине-дробильне, которая измельчала его и насыпала в вагонетки, убегавшие по канату над землей куда-то через гору, а обратно эти же вагонетки шли к нам со шлаком и автоматически опоражнивались возле края котлована, а мы с товарищами грузили этот шлак в вагонетку, подгоняли ее ближе и опрокидывали над самым котлованом.
Часов в десять по свистку начинался получасовой перерыв. Раздатчик из столовой, тоже пленный, приходил с корзиной и раздавал всем нам по куску колбасы и хлеба и по четыре сигареты.
Обед был от часу до двух. Его, первое и второе, привозили в термосах по канатной дороге с заводской кухни. Это был какой-нибудь суп с консервным мясом и какое-нибудь тушеное или жареное мясо, иногда колбаса, с гарниром. В шесть кончали работу, шли в столовую, перед ужином мылись в душе, одевались во все чистое, ужинали и шли домой, то есть в свой барак.
По воскресеньям не работали. Питание получали в заводской столовой.
Однажды нам предложили поработать в воскресенье. Мы поработали. Вечером после ужина нам всем выдали по большой кружке пива, а в следующее воскресенье повели на экскурсию в поместье владельца завода Круппа. Там нам показали свинарник и коровник. При нас произвели электродойку коров. Я не буду описывать чистоту животноводческих помещений, скажу только, что в коровнике стены были облицованы кафельной плиткой, было светло и солнечно, коровы и свиньи были как сейчас из ванны. Потом мы полюбовались аллеями усадьбы, напоминающими зеленые туннели, окропленные солнечными брызгами.
Наш штейгер, пожилой австриец, был ревностный католик, читал клерикальную газету «Кройццайтунг» и пытался вести с нами душеспасительные разговоры. Его поддразнивали. Некоторые спрашивали его, сколько по Библии лет от Сотворения мира, он отвечал, что семь тысяч с чем-то лет. Тогда его спрашивали о возрасте добываемого нами бурого угля. Опасаясь показаться невеждой, он говорил, что двадцать пять тысяч лет, и тотчас же начинал мямлить о каких-то особых Господних сроках. Однажды его чуть не хватил удар.
А было это так. Зерновик-мордвин Игнаха Нуянзин, учитель по профессии, высокий костлявый брюнет, отпустил длиннющую черную бороду и стал похож на сурового Божьего угодника. Кто-то в шутку прозвал его по-немецки «Герр Гот», что по-русски означает «Господь Бог». Кличка привилась, и мы все стали называть его так. Он охотно отзывался. Раза два-три это было при штейгере. Он спросил: «Почему вы его так зовете?» Ему ответили: «Потому что он похож на немецкого бога». Штейгер побледнел от обиды за своего бога. Долго глядел на Игнаху, повернулся и пошел. На следующий день он попросил нас больше его так не называть. «Иначе я доложу начальству», – пригрозил он. Игнаха сбрил бороду, и штейгер успокоился.
Наше положение было неплохое. Кормили прилично. Каждую субботу платили, как и обещали, недельный заработок по кроне в день. Мы могли на эти деньги покупать в магазине рабочего кооператива белье, обувь и кое-какие ненормированные продукты. На руках у нас образовались сухие мозоли со въевшейся в них угольной пылью.
Я купил хромовые ботинки, рубаху апаш и металлическую папиросницу, хотя сам еще не курил. Мне она понравилась тем, что на ней стояло такое же клеймо, как на столовых приборах и металлической посуде в «Европейской» гостинице в Петербурге, где я работал до отъезда в Австрию.