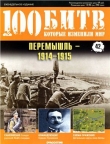Текст книги "Повесть о моей жизни"
Автор книги: Федор Кудрявцев
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 17 страниц)
При новой власти
Возвращение
На другой день после моего возвращения из плена утром завтракать за стол село десять человек, то есть родители и восьмеро детей: четверо старших от первой жены отца – нашей матери – и четверо младших от второй. Но здесь были еще не все его дети. Самая старшая дочь Ираида была замужем в соседней деревне Поляне, имела пятерых детей и вместе со своим неловким на крестьянскую работу мужем, бывшим рабочим-жестянщиком, билась в отчаянной нужде. Жили они в старенькой покосившейся избе с соломенной крышей.
Самый старший сын Василий, тоже рабочий-жестянщик, с женой и тоже пятерыми детьми, был отделен от отца, жил в Москве, но военное ненастье выгнало его из города в родное село, где он получил надел земли, с трудом построил маленький домик, завел корову, купил чуть живую клячу и начал хозяйствовать. Но кляча вскоре пала, а какое крестьянство без лошади?! Он поступил почтальоном и стал на казенной лошади возить почту – это уже при советской власти – и, как советский служащий, получать зарплату и скудный продовольственный паек. Но одного пайка на семь ртов было мало. И вот он, собрав в мешок свои жестяницкие инструменты, отправился зарабатывать хлеб для семьи в «сытую» Нижегородскую губернию, а некоторые из его детей пошли по деревням просить подаяния. Отчаянней нужды не придумаешь!
И еще один сын, Иван, четвертый год томился в германском плену. Он был не женат и тоже должен был вернуться в отцовский дом.
Сам наш отец имел достаточно хлеба, чтобы прокормить свою семью. У него было две коровы, рабочая лошадь, лошадь-подросток и купленная недавно тощая бывшая кавалерийская лошадь. Так что по семье, где много рабочих рук и много едоков, это было только-только как раз, но беда была в том, что имелись только один плуг и одна борона.
Короче говоря, к моему возвращению из плена семья отца нужды в основных съестных припасах не испытывала. Отец считался средним крестьянином, или, как было принято говорить, середняком.
Мой брат Петр кроме крестьянской работы у отца служил еще у новой советской власти милиционером.
Таковы были семьи моего отца и старших сестры и брата весной 1918 года и их материальное положение.
Во время завтрака к нам в избу вошел юноша лет восемнадцати, поздоровался, поздравил меня с благополучным возвращением из плена и непринужденно сел, как свой, на переднюю лавку. Закурил. Я смотрел на него, пытаясь вспомнить, кто это такой, и молчал.
– Федя, да ты не узнаешь, что ли, родню-то? – спросил меня Илюша. – Ведь это же Ванюшка Григория Васильевича.
Действительно, узнать его было трудно. Когда я уезжал в Австрию, Ванюшка был четырнадцатилетним мальчишкой, а теперь он вырос, у него заметные темные усики и папироса в зубах.
– А ты знаешь, у Григория Васильевича теперь в нашем селе лавка, отбивает покупателей у своего братца Ивана Васильевича, – сказал отец, когда Ванюшка ушел.
Братья лавочники Иван и Григорий Васильевичи Кудрявцевы были племянники моего отца. Иван открыл в селе лавку еще до войны и стал отбивать покупателей у своего родственника Николая Спиридоныча, имеющего лавку в соседней деревне. Теперь у него самого стал отбивать покупателей родной брат. Но дела у всех троих шли плохо. Война разорила страну, и добывать нужный деревне товар стало все труднее. А тут еще эта пролетарская революция, которая не обещает им ничего хорошего. Но пока что все они торгуют, закупают товар у оптовых фирм в Ярославле, Рыбинске и других городах и ездят за ним на своих лошадях на станцию.
После завтрака пришла с Поляны старшая сестра Рая. Взволнованно обнимала меня, целовала. Потом повела меня на кладбище поклониться могиле матери. Там она наплакалась, сожалея о том, что мать не видит, какие у нее выросли хорошие сыновья, и не может сегодня порадоваться моему приходу из плена.
Потом приходил повидаться старший брат Вася. Стесняясь своей бедности, посидел на задней лавке, шевеля своими красивыми усами и уныло пошутив, что его дом в селе самый крайний к полю и теперь люди называют его не Василий Кудрявцев, а Василий Полевой.
Вечером мы с братьями пошли на «беседу», то есть в избу, где собираются на посиделки девушки и парни. Батюшки, в каких красавиц превратились за эти четыре года, что я не был дома, наши девчонки-подростки Феня Сторожева, Катя Серышева и другие. А парни! Почти все мои сверстники и те, что помоложе меня, одеты в солдатскую форму, только без погон и кокард.
Но прошла веселая пора отдыха, пока в поле и на огороде было нечего делать. Началось время срочных деревенских работ.
Сначала навозница, то есть вывозка со двора навоза на поля, и огородные работы – копка гряд и посадка картофеля и овощей. Это работа для женщин. И одновременно на полях разбивка и запашка навоза – это дело мужчин.
Отпраздновали престольный праздник «Десятую», в честь святой Параскевы Пятидесятницы, и началась страдная пора горячей крестьянской работы. Сенокос!
Какая это тяжелая в самую жаркую пору года и в то же время веселая работа! Косить траву встают очень рано, до восхода солнца. Сушить и убирать сено выходят принаряженные, особенно девушки и молодые женщины. Но эта веселая работа началась для меня с конфуза.
В утро начала сенокоса отец, братья и Шура встали очень рано. Я тоже. Они быстро оделись и вышли косить в загороде возле дома. Я немного замешкался, навертывая на ноги обмотки. Когда я вышел, все уже шли друг за другом, размахивая косами. Чувствуя себя неловко за опоздание и не зная, откуда мне приниматься косить, я спросил отца растерянно:
– Тятенька, а где же мой-то прокос?
Все прыснули со смеху. Дело в том, что прокосом называется та полоска земли со скошенной травой, по которой только что прошел косец. А я еще ни разу не тяпнул косой. Смеясь, вспомнили старый деревенский анекдот про парня, который, пожив полгода в городе, забыл, как называются грабли. Он вспомнил их название, когда наступил на их зубья и ручкой граблей его ударило по лбу. «Какой дурак бросил здесь грабли?!» – крикнул он. Словом, как я искал свой прокос, стало темой добродушных подшучиваний надо мной.
Все ли в нашей семье были одинаковых взглядов на новую, советскую власть? Нет. Отцу она не нравилась тем, что она опирается на бедноту и позволяет ей отбирать излишки хлеба у зажиточных крестьян, и тем, что в продаже не стало очень многих товаров, а те, что есть, дороги. По его мнению, пусть бы власть была у партии кадетов. Они бы не дали в обиду настоящих тружеников, старательных мужиков. Да и с послевоенной разрухой справились бы скорее. И снова бы сыновья поехали в Питер и нашли себе работу. Царя отец не жалел – как никудышного хозяина.
Брат Илюша был беспартийным, но держался большевистских взглядов. Как официант по профессии он нагляделся, как богачи швыряются в ресторанах деньгами, а простой народ живет в нужде. Он помнил, как какой-то великосветский паразит куражился над ним и кричал на него с угрозой: «Плевка от тебя не оставлю!»
Брат Петя в политику глубоко не вдавался, а просто честно служил в советской милиции под начальством дьяконова сына, убежденного члена коммунистической партии Вениамина Андреевича Успенского.
Мачеха и сестра Шура были вне политики.
А я? Я больше придерживался взглядов отца. И неудивительно. Ведь три года войны я сидел не в окопах под пулями, а далеко от них в австрийском концлагере. И я не верил, что партия большевиков, о которой я раньше и слыхом не слыхал, с помощью бедноты вроде нашего сельского многодетного мужика Васи Федина, пьяницы и нерачителя, делающего все кое-как, или придурковатого бобыля Саши Языни, сможет наладить большое хозяйство огромной страны России и разумно управлять ею.
Самым досадным для меня и моих братьев была вынужденная жизнь в деревне, так как в Петрограде было трудно найти работу и было голодно. А у отца мы все-таки работали и ели досыта.
Бежавший несколько раньше меня из плена мой друг Н. А. Матавкин еще до моего возвращения из Австрии приходил к нам в село обменять кой-какие вещи на хлеб. Он рассказал моим родным обо мне и показал фотокарточку, где я снят вместе с ним в женском облике.
Вскоре дал о себе знать и другой мой товарищ по плену – Александр Владимирович Эйдук. Это профессиональный революционер, латыш, за революционную деятельность в 1905 году заочно осужденный к смертной казни, но бежавший за границу и сотрудничавший с В. И. Лениным в Австрии. Вскоре после Октябрьской социалистической революции в России Александр Владимирович был выменен на какую-то австрийскую значительную военнопленную персону и теперь занимал в Москве ответственную должность. Случай помог ему узнать обо мне.
Получилось это так. Мой двоюродный брат Григорий Васильевич поехал в Ярославль, где только что был ликвидирован контрреволюционный мятеж, за товаром для своей лавки. В Ярославле он остановился в гостинице. Не успел выйти из номера, как к нему постучали и вошел рослый человек в военной форме с маузером на боку.
– Ваши документы, – спросил военный.
Григорий Васильевич подал свое удостоверение.
Чекист просмотрел его, хотел вернуть, но помедлил, снова просмотрел. Григорий Васильевич почувствовал легкий озноб, думая, что могут найти в документе какой-либо недостаток. Но еще держа удостоверение в руке, военный спросил:
– Ваша фамилия Кудрявцев?
– Кудрявцев, – встревоженно ответил Григорий Васильевич.
– Скажите, у вас случайно нет родственника в плену в Австрии? – продолжал чекист.
– Есть родственник.
– А его не Федей Кудрявцевым зовут?
– Федей. Был в лагере в Дрозендорфе, только сейчас его там нет. Он бежал из плена и теперь находится дома.
– Молодец Федя, – похвалил военный. – Мы были с ним в одном лагере. Нам такие люди очень нужны. Передай ему от меня большой привет!
– Но от кого передать-то? Вы бы лучше ему написали, – посоветовал Григорий Васильевич.
– От Эйдука, от Эйдука, от Саши, от Александра Владимировича, – поправился он улыбаясь. Он сел к столу и написал мне небольшую записку с приветом. Записка была подписана так: «Управляющий делами высшей советской ревизии А. Эйдук». Эту записку и передал мне Григорий Васильевич рано утром, едва вернувшись домой.
Месяца через полтора я получил письмо от Н. Матавкина, который сообщал, что он служит вместе с Эйдуком в штабе Северо-Восточного фронта, штаб размещается в поезде, стоящем в тот момент в Вологде. Матавкин приглашал меня приехать туда повидаться.
Илюша и Петя советовали мне ехать и по возможности остаться там. Отец и мачеха не возражали, и я поехал, а через месяц вернулся.
Мачеха
Бытует мнение, что большинство мачех злые, изредка бывают и добрые. О своей мачехе я могу сказать, что она была и злая и временами добрая, причем злая она была главным образом от темноты и невежества, а добрая – от сердечных побуждений.
Мачеха была небольшого роста некрасивая женщина, о каких говорят «невзрачная». Ей было двадцать восемь лет, отцу пятьдесят. Она пошла за него, вдовца с тремя малыми детьми, потому что ее никто больше не сватал, в девках оставаться не хотелось, а отец был ладный собой мужчина и исправный хозяин.
Отец взял ее потому, что за два года вдовства с малыми детьми намучился без настоящей хозяйки, о мачехе же были отзывы как о девке «на работу огонь». Он, видимо, не знал тогда, что существуют люди, которые «на работу огонь, да и с работой-то бы их в огонь». Эта поговорка к нашей мачехе полностью не относилась, но временами была приложима, до того мачеха на работу была тороплива, суетлива и суматошлива. Кроме того, она была еще и руглива. У нее то и дело сыпались такие выражения, как «черт», «дьявол», «леший», и такие, которые не принято употреблять в печати. Вероятно, сказывалось влияние на нее родителей. Ее отец был крючник, то есть грузчик. В прошлом веке погрузочные работы выполнялись хребтом грузчика с крюком в правой руке, которым он придерживал груз, отсюда и «крючник». Работа была адская, и сквернословили крючники адски. Мать ее была под стать отцу. Мне приходилось слышать, как моя богоданная бабушка Лукея, полная шестидесятилетняя старуха, при детях рассказывала охальные истории.
Когда отец женился на Анне Григорьевне, мне было десять, сестре Сане семь и брату Лене четыре годика. Я не помню случая, чтобы мачеха нас била или оставляла голодными, необшитыми, необмытыми. Но зато мы узнали от нее много новых словечек и истин, которые в наши годы нам знать было рановато.
Через год после прихода мачехи брат Леня умер пяти лет от роду. Через полтора года у мачехи родился сын Николай, а через два, в сентябре 1907 года я уехал в Питер. Мне было двенадцать лет. Дома осталась девятилетняя сестра Саня. Вот ей-то и досталась участь Золушки, только не с таким сказочно счастливым концом, как у той, а совсем наоборот.
Ей пришлось нянчить маленького братца Николая. Через три года к нему прибавился маленький Борис, а еще через два – маленькая Нина, затем Маша. Но теперь Саня подросла и с четырнадцати лет стала работать, как взрослая, а мачеха стала больше находиться дома при детях и за стряпней.
Когда в 1914 году началась Первая мировая война, четверо старших братьев Сани оказались на войне. У отца и у нее в душе поселилась тревога – не убили бы! У мачехи в душе тайное желание – хоть бы убили которого! Чтобы отцу не пришлось давать ему долю.
Никоторого не убили и даже не ранили! Двое пришли из армии к отцу зимой. Теперь, в мае, явился из плена третий – я, а в ноябре тоже из плена прибыл к отцу четвертый сын, Иван. Одиннадцать человек. Одного хлеба на такую семью сколько надо напечь! А сколько надо наготовить другой еды!
В Вологде
Я поехал к Эйдуку и Матавкину в Вологду, в Ярославле была пересадка. Между поездами я успел посмотреть на некоторые разрушения, произведенные в городе во время недавнего мятежа.
В Вологде «поезд Кедрова», как он назывался по имени командующего Северо-Восточным фронтом Михаила Сергеевича Кедрова, стоял на путях возле станции. Я сразу нашел начальника политотдела фронта товарища А. В. Эйдука и коменданта поезда Н. А. Матавкина. Меня тут же временно оформили на должность курьера политотдела и поставили на довольствие. Ночевать меня взял к себе Матавкин. Я занял нижнюю полку напротив него. На верхней спал сын командующего, шестнадцатилетний Юра Кедров.
Мои обязанности были несложны – разносить пакеты по отделам штаба, подшивать поступающие в политотдел бумаги, вызывать на допрос к Эйдуку задержанных по разным причинам людей, сидящих в арестантском вагоне, по которым велось следствие, или просто сидеть у Эйдука в вагоне и смотреть, как он ведет допрос. Меня удивляло, как он мягко обращался с задержанными и тщательно разбирался в деле, чтобы не обвинить невиновного.
Я особенно хорошо запомнил трех задержанных. Один был бывший царский офицер, барон Остен-Сакен, худощавый человек лет тридцати. Подозревался в желании перебежать к белым. По его делу были посланы в несколько мест запросы. И вот из какого-то губисполкома пришел ответ, подтверждающий, что «товарищ Остен-Сакен действительно командирован в г. Вологду по таким-то делам». А. В. Эйдук извинился перед ним за задержание, вернул оружие и документы и отпустил выполнять задание.
Второй – лесничий Дегтярев – подозревался в активном пособничестве белым и жестокости к населению. Я несколько раз вызывал его к Эйдуку, но каждый раз он все отрицал. И вот однажды из района, откуда были выгнаны белые, в политотдел пришла учительница Пластинина. Она рассказала о жестокостях Дегтярева и на очной ставке узнала его. Он побелел, как бумага, и стал молить о пощаде. Когда его повели обратно в арестантский вагон, он бросился бежать и двумя выстрелами конвойного был убит.
Третий – крестьянин из недальней от Вологды деревни, тщедушный мужичонка по фамилии Копейкин. Когда, приехав на лошади зачем-то в Вологду, он сидел в чайной, в его телеге в сене солдаты нашли карабин с пулеметными лентами. Эйдук спрашивал Копейкина, где он взял эти ленты и куда вез, Копейкин ныл и говорил, что сам не знает, как они очутились у него в телеге. К задержанному приезжала жена, привозила скромную передачу, просила Эйдука отпустить мужа. Эйдук передачу разрешил и велел ей посоветовать мужу, как бедняку, во всем признаться.
По словам Матавкина, в большинстве случаев задержанные оказывались активными врагами советской власти и их расстреливали за дело.
Чем кончилось дело Копейкина, я не знаю, так как вскоре уехал из Вологды, потому что штабной паек был очень скудным, я не наедался, а дома все-таки ел досыта.
Незадолго до отъезда мне пришлось принимать и записывать телефонограмму о ранении В. И. Ленина эсеркой Каплан.
Я ждал, что меня скоро так и так призовут в армию и я еще всего натерплюсь, поэтому добровольно оставаться у Эйдука мне не хотелось. Впрочем, он и не уговаривал, видя мое нежелание.
Снова дома
И вот я снова в кругу семьи. Замечаю, что мачеха становится все раздражительней. Она часто нападает на отца, адресуя свою брань и упреки нам. С Илюшей она не схватывается. Он выдержан и серьезен, и он больше других присылал отцу денег из Питера. Со мной тоже нет. Я как-то умел ей ответить так, что она замолкала. Саню не трогала, ибо за нее заступался Илюша. Зато Петя был такой же горячий и невыдержанный, как она сама. С ним схватки были чаще и злее.
Однажды в такой схватке Петя нехорошо выругался, мачеха подхватила это ругательство и целый день до вечера ежеминутно повторяла его, не стесняясь ни взрослых, ни своих детей.
В другой раз Петя в пылу ссоры крикнул мачехе: «Застрелю!» – и рванулся к столу за револьвером. Мачеху как ветром вынесло из избы.
Как-то в пылу общей ссоры, когда все, в том числе и отец, были против нее, она крикнула падчерице: «Саня, побереги моих детей!» – собрала узелок и убежала к своей матери в деревню Спасское. Отец плюнул ей вслед, а ее сын, одиннадцатилетний Николай, серьезно заметил: «Теперь у нас хоть тихо будет».
Но тихо было всего три дня. На четвертый она, урезоненная своими братьями, вернулась домой и как ни в чем не бывало принялась за обычные дела, а вечером расплакалась и сказала: «Я и сама не рада, что у меня такой характер». А характер у нее был такой, что она в ярости била своих детей чем попало, и они с плачем бросались к нам, старшим, ища защиты от не помнящей себя матери, а отец говорил ей: «Ведь искалечить можешь ребенка, полоумная!»
Мы, особенно Илюша, утешали обиженных детей как могли, и они платили нам за это своей чистой детской любовью.
Между тем в России все сильнее разгоралась гражданская война. Враги свои и интервенты наседали со всех сторон. В стране было объявлено всеобщее военное обучение.
Моему брату Илюше, как бывшему унтер-офицеру, и бывшему унтер-офицеру Алексею Степановичу Фалину из деревни Поляна было поручено обучать военному делу не служивших в армии здоровых мужчин и парней. Я попал в отряд брата Илюши.
Топча осеннюю грязь, мы маршировали, производили разные построения и тому подобное, готовясь к защите Родины и завоеваний Революции.
Но враг был ближе, чем мы думали. В один день к нам в село и прилегающие деревни явилась из соседней волости толпа вооруженных винтовками мужчин, которые стали призывать население к восстанию против советской власти, говоря, что восстание начинается по всей губернии и что на ближайшей станции стоит вагон с винтовками и каждый может там получить винтовку и патроны. Большинство к такой возможности отнеслось безразлично, но некоторые пошли на станцию и вернулись, потрясая оружием и призывая сшибать советскую власть начиная с волостного исполкома. Толпа поменьше пошла в церковь и, взяв иконы, что раньше были в школе, снесла их туда обратно.
Мой брат Илюша в это время был в другом селе, куда еще не докатилась эта сумятица, а брат Петя, милиционер, встретив в толпе неизвестно откуда-то появившегося на коне своего сверстника и однофамильца Дмитрия Владимировича Кудрявцева, бывшего офицера царской армии, мирно побеседовал с ним. Затем этот Кудрявцев – офицер куда-то быстро исчез, и мы так и не узнали, был ли он свой или враг. Лишь спустя пятьдесят пять лет я прочел в журнале «Наука и религия», что он умер в соседнем селе в глубокой старости, проработав там десятки лет учителем, и что он был опытнейшим краеведом.
Подойдя к исполкому, простому деревянному дому, я увидел, как «сшибают» советскую власть. У стены дома стояло человек пять советских работников с бледными лицами и среди них местный большевик, бывший питерский рабочий, небольшого роста, носастый Николай по прозвищу Епраксеин, а по фамилии Блохин. Перед людьми, которые были у стены, стояло несколько человек с винтовками, один из которых, рядовой крестьянин из деревни Старово Борис Мартимов, припрыгивая на месте, совал Блохину винтовкой в грудь и кричал:
– Говори, Колька, где у вас оружие? Говори, а то расстреляю!
– Да говорят же тебе, крестный, что нет в исполкоме никакого оружия, – заверял Блохин.
– Да расстрелять их, и вся недолга, – раздавались голоса подстрекателей.
– Нет, товарищи, так нельзя, мы не большевики, чтобы без суда расстреливать, – возражали трезвые голоса. – Может, они ни в чем не виноваты, а мы их расстреляем, а потом отвечай!
Слово «отвечай» отрезвило людей с винтовками. Крестный Николая Блохина перестал прыгать и тыкать крестника дулом винтовки. Решили исполкомовцев посадить в холодную и увели. Смотреть стало не на что. Толпа разошлась.
На другой день страшный слух – из уездного города Мологи идет большой отряд на усмирение восстания. Больше никто не хотел сшибать советскую власть, а охотники изучения закона Божьего в школе поспешно снесли из нее иконы обратно в церковь.
День прошел тревожно, ночь тоже. А утром наш отец обнаружил возле стен нашего дома десятка полтора приставленных к ним винтовок. Это под покровом ночи произвели саморазоружение перед спящим инструктором всеобуча моим братом Илюшей не в меру горячие головы.
Так у организаторов мятежа в Ярославле провалилась и эта попытка поднять восстание против советской власти на селе среди крестьян.
Через неделю отмечалась первая годовщина победы пролетарской революции. Возле клуба был митинг, на котором я увидел плакат на красной материи со словами «Собирали дураков на защиту кулаков».
После праздников я получил повестку о призыве в Красную Армию.
Призывная комиссия в Мологе меня временно забраковала по состоянию здоровья. Следующую повестку я получил уже в июле 1919 года. А теперь, вернувшись из Мологи, я застал дома брата Ивана. Он тоже пришел из плена, из Германии.
Брат Иван недолго раздражал мачеху своим присутствием в отцовом доме. Он быстро нашел себе невесту – единственную дочь у родителей, в чем ему поспособствовала мачеха, и ушел жить в семью жены.
В положении каждого из нас это был лучший способ решения семейного вопроса. У Пети тоже была на примете молодая вдова с домом, коровой, лошадью и полным крестьянским хозяйством. Для меня у отца с мачехой тоже имелось на примете несколько девушек – единственных дочерей у родителей. Но угрожающее для Советской России развитие гражданской войны решило все по-иному.
В декабре 1918 года брата Петю, как бывшего артиллериста, призвали в армию, теперь уже в новую – революционную Красную Армию. Петя получил назначение в часть.
Рано утром Пете надо было ехать на станцию Харино. Отец благословил Петю иконой.
Запряг лошадь. Петя стал прощаться с родными. Я, одетый, чтобы отвезти его до станции, ждал у дверей. Вот Петя подошел к постели мачехи. Она лежала лицом к стене.
– Ну, прощай, мама, – дрогнувшим голосом тихо сказал он.
– Прощай. Первую пулю тебе в лоб! – зло бросила она уходящему на войну пасынку невероятные слова, не поворачиваясь на постели. Эти слова меня потрясли, а Петя недоуменно развел руками, мгновение подождал, не ослышался ли, потом решительно повернулся и пошел к двери. Почти всю дорогу до станции мы молчали, не находя слов для осуждения дикой выходки мачехи.
Через три месяца, в феврале 1919 года, призвали в Красную Армию и старшего из нас – тридцатичетырехлетнего Илюшу – и сразу отправили на фронт. И его, как и Петю, мне пришлось отвезти на станцию Харино и там возле поезда проститься с любимым братом, проститься навсегда!
По примеру многих ловкачей-мешочников, возивших в голодные города Москву и Петроград съестные припасы и самогон, дорого их там продававших и привозивших в деревню городские товары и спекулировавших ими, попробовал и я испытать свои силы и убедился, что я на это не способен.
Великим постом, какого-то числа марта месяца, я выпросил у мачехи ведро творога и отправился с ним в Москву. Не зная, куда идти и как торговать своим товаром, стыдясь спрашивать за него с голодных людей дорогую цену, я отдал ведро с творогом земляку-рабочему, у которого остановился на ночлег, и он быстро расторговался им среди своих товарищей на заводе по скромной цене.
На вырученные за творог деньги я купил для «спекуляции» в деревне с десяток баночек сомнительного крема для чистки хромовой обуви и фунта два вара для натирания дратвы.
Хромовую обувь тогда в деревне носили немногие, многие обходились лаптями, и крем у меня не пошел. Продавать вар кусочками в розницу было неспособно. Я отдал его весь отцу, и ему хватило его на многие годы на дратву для подшивания валенок. Словом, я понял, что начисто лишен коммерческих способностей, и больше не пытался их в себе развивать. Зато этой способностью был богато одарен мой двоюродный брат по матери, любимец моего отца Михаил Иванович Кузнецов из села Сасеево, с легкой руки моего брата Илюши прозванный «буржуем». Он и вправду был мелким буржуем, так как до революции имел в Петрограде мясную лавку с наемными продавцами. Приземистый, темноволосый, с маленькими глазками и плотоядной ухмылочкой на круглом лице, «буржуй» ездил на низкой лошадке по деревням и скупал у крестьянок головки самодельного голландского сыру, клал их в мешки, перекинутые через спину лошади. Затем он возил этот сыр в Петроград, выгодно продавал, покупал у знакомых торговцев припрятанный в революцию товар и так же выгодно спекулировал им в деревне.