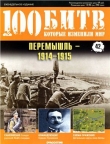Текст книги "Повесть о моей жизни"
Автор книги: Федор Кудрявцев
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 17 страниц)
Вступление в партию
– А не пора ли тебе, тезка, вступать в партию? Парень ты хороший, честный, развитой, общественными делами интересуешься, – сказал мне один раз Ф. Г. Князев в январе 1925 года. – Идет ленинский призыв в партию. 21 января будет первая годовщина со дня смерти В. И. Ленина, на заводе состоится торжественно-траурное партийное открытое собрание, – продолжал Князев, – будет прием в партию, так что подавай заявление.
Я давно уже думал о вступлении в партию, но считал себя еще недостаточно подготовленным и сильным для этого. Коммунисты же казались мне особыми людьми, кристально честными борцами против зла и несправедливости. Я вспомнил призыв ЦК партии: «Все, кто покрепче, – в ряды ВКПб!» «Значит, и я могу быть полезным членом партии, раз меня приглашают вступить в нее в такое трудное для страны время?» – подумал я и спросил Федора Герасимовича:
– А как же быть с рекомендациями?
– Во-первых, я как член ВКПб с 1914 года, тебе дам рекомендацию, так как знаю тебя с 1920 года, вместе служили в Красной Армии; во-вторых, тебя будет рекомендовать наш парторг Иван Слюняев – балтийский матрос, партиец с 1918 года; и, в-третьих, рабочий-разборщик Александр Солнцев, член партии с 1920 года, да, кроме того, и беспартийные рабочие будут на собрании выдвигать тебя в ряды партии.
Я написал заявление, получил от названных товарищей рекомендации, и на собрании, посвященном первой годовщине со дня смерти В. И. Ленина, был принят в кандидаты ВКПб. Вместе со мною были приняты молодые рабочие: Алексей Сеземов – разборщик, Павел Ананьев – кишечник, Сергей Благинин – коптильщик и Алексей Кузьмин – бухгалтер. Все с годичным кандидатским стажем.
Я всегда относился к своей работе добросовестно, но теперь почувствовал необходимость принимать и в общественной работе самое активное участие. Вскоре меня избрали в состав завкома и поручили культкомиссию. Затем вместе с бухгалтером А. Кузьминым мы организовали регулярный выпуск стенной газеты «Волчок», в которой я помещал свои заметки и сатирические стихотворения.
В 1925 году начали открываться «трудовые сберегательные кассы» (так они вначале назывались). Я стал одним из первых вкладчиков в ближайшей сберкассе и стал горячо агитировать за них и вовлекать новых вкладчиков. Некоторым из моих товарищей коммунистов не понравилось такое мое рвение к сберегательному делу, и один из них, товарищ Степан Объедков, во время чистки партии в 1929 году даже задал такой вопрос:
– Ты, товарищ Кудрявцев, очень уж агитируешь за сберкассы. Люди говорят, что ты накопил уже целую тысячу Что ты хочешь делать с деньгами – открыть свою лавочку или мастерскую и стать хозяйчиком?
Я ответил, что привлечение вкладов в сберкассы – дело большой государственной важности, что государство гарантирует тайну вкладов, но сам я могу сказать, что накопил четыреста рублей и потрачу их на одежду и обстановку комнаты, так как собираюсь жениться. Члены комиссии по чистке похвалили мои действия и мой ответ на вопрос и поставили меня в пример другим.
Но я опять немного забежал вперед.
Итак, я работал экспедитором, и эта работа мне нравилась. Другой я не хотел. Но примерно через год, когда завод стал выпускать больше продукции, кладовщику готовых изделий Александру Лукичу Цапугину, давно уже сменившему товарища Стильве, потребовался помощник, и на эту должность перевели меня.
Александр Лукич был тоже ярославец, тоже старый знакомый руководителя завода Князева.
Он был на два года постарше меня и гораздо деловитее и оперативнее при отпуске изделий по ежедневным заказам от магазинов и столовых. Это был кристальной честности и преданности делу человек. Серьезный, доброжелательный и справедливый к людям. Я сразу крепко и надолго – на всю жизнь! – подружился с Лукичем. Мы настолько верили друг другу, что, уходя в отпуск, он без всякого взвешивания имеющегося в кладовой товара и составления акта оставлял кладовую мне, а я принимал ее, даже не требуя честного слова, и заменял его во время отпуска. Возвращаясь из отпуска, Лукич просто вставал на свое рабочее место и начинал работать. И так было несколько раз. И ни разу никакой недостачи или излишков. Все в порядке.
И так повелось, что, когда Ф. Г. Князев с женой Марией Андриановной раза два-три в году справлял праздники, Лукич с женой Анной Петровной и я всегда были среди их гостей. Непременными гостями в семейные или революционные праздники у Цапугиных всегда были Князев с Марией Андриановной и я.
Но вот года за два до консервации нашего завода Князева перевели руководить чугунно-литейным заводом, а на его место пришел Алексей Владимирович Владимиров, бывший заведующий небольшим 1-м Колбасным заводом, рабочий-выдвиженец с Путиловского завода, худощавый, небольшого роста, со строгим лицом человек.
Сначала он хотел сменить кое-кого из работников завода – и в первую очередь А. Цапугина и меня, для чего принял на работу двух своих близких родственников, но они не подошли на предполагаемые должности, и мы остались на своих местах. Но, будучи редактором стенгазеты, я стал неугоден Владимирову, и он из помощников кладовщика перевел меня в помощники закупщика, на должность, в которой я ничего не смыслил, да и душа к ней не лежала, так как я был удален и от завода и от коллектива, хотя и был член завкома. Отдельные коммунисты увидели в этом стремление Владимирова держать меня подальше от завода, да заодно и мой новый шеф, закупщик, был недоволен мною, и я был возвращен на завод, но уже не помощником Лукича, а весовщиком с меньшим окладом, хотя я и продолжал выполнять ту же работу. Теперь я уже не подменял Цапугина во время отпуска, а заменял председателя завкома во время его призыва в Красную Армию на лагерный сбор, а также и при уходе в отпуск.
В члены ВКПб я был принят в июле 1926 года. В это время в завкоме работала техническим секретарем довольно симпатичная двадцатилетняя девушка-комсомолка Аня Николаева. Наш парторг начал усиленно сватать ее за меня. И когда в завкоме он заводил речь на эту тему, Аня вспыхивала до кончиков ушей и опускала глазки.
Но Аня и я были разные люди. Я был старше ее на десять лет. Она любила танцевать, я совсем не умел не только танцевать, но и увлекать девушек забавными разговорами. Поэтому на заводских вечерах я никогда не был ее кавалером, хотя, кажется, я ей все же нравился и даже вместе ходили в кино и ездили летом за город. Я убеждался, что Ане жить со мной будет скучно, и не решался сделать ей предложение, а тут еще другие наши девушки указали мне на Анин один очень неприятный физический недостаток, и мне расхотелось делать ей предложение.
Впрочем, Аня вскоре и, видимо, ничуть не сожалея обо мне, вышла замуж за знакомого рабочего паренька с Тамбовской улицы и родила ему сына, а ее мужа призвали на военную службу.
Но это не все. В 1929 году казначей завкома, хроменький молодой бухгалтер, изобличил Аню в уголовном преступлении, она крупно жульничала с профчленскими марками и была исключена из кандидатов в члены партии и осуждена на год принудительных работ. Мне и другим товарищам душевно было жаль Аню.
Между тем с 1928 года началась первая пятилетка, в 1929–30 годах развернулась массовая коллективизация сельского хозяйства. Проходила она туго. Многие крестьяне отказывались вступать в колхозы, например, в нашем селе Парфеньеве даже такой бедняк, как В. Ф. Рудаков по прозвищу Вася Федин, бывший первый председатель сельсовета в 1918–19 годах, отказался от вступления в колхоз. Мне он объяснил это тем, что всю жизнь имел мало земли, а теперь ему на большую семью наделили много, так он и хочет быть порядочным хозяином.
Во многих местах ретивые головы загоняли крестьян в колхозы насильно, угрозами и репрессиями. В колхоз при вступлении надо было отдавать свой скот и сельскохозяйственный инвентарь и работать в подчинении председателя колхоза и разных бригадиров. Все это для крестьян было как нож острый. Чтобы не сдавать скот в колхозы, началось его массовое истребление и поедание крестьянами на месте. Очень скоро возникло затруднение с заготовкой мяса и свинины. Резко сократилось поступление на завод этого сырья. Стали делать колбасу из конины и верблюжатины, но очень скоро прекратилось поступление и такого сырья.
В августе 1930 года завод на неопределенное время закрыли (законсервировали). Вместе с основной массой рабочих, со своим старшим братом Иваном и другом Петром Коленкевичем, которые тоже успели поработать здесь продолжительное время, я опять остался без работы.
Было жаль расставаться с заводом, с его коллективом, с хорошими друзьями, но теперь мне было не страшно, потому что безработных в городе сильно убавилось, а к тому же я был не только член профсоюза, но и член партии, и надеялся, что райком партии не позволит мне долго быть безработным. Да и на сберкнижке еще были деньги.
Шесть лет работы на 2-м Колбасном заводе были светлым периодом в моей жизни, но и с него я уходил, к сожалению, неженатым!
Работа в столовой
Признаюсь, я никогда не был способным руководителем или организатором, поэтому при обращении в райком партии насчет работы я на командные должности и не претендовал, но исполнителем я был добросовестным.
Учитывая это, райком направил меня на работу в районный рабочий кооператив «Красный Октябрь». Правление кооператива послало меня в открытую столовую на углу Невского проспекта и Дегтярной улицы на должность помощника заведующего.
Надо сказать, что в Советском Союзе еще в 1928 году были введены хлебные и продуктовые карточки. Рабочие и служащие, привыкшие питаться в столовых, могли прикрепляться на питание в столовые, которые кормили только прикрепленных, а для остальных были закрыты. Столовых, в которых мог поесть любой желающий, было оставлено немного, главным образом недалеко от вокзалов или рынков, то есть в местах скопления приезжего или пришлого люда. Такова была и столовая близ Московского вокзала, где мне пришлось работать. Открытая для всех.
Заведующим столовой был очень культурный деликатный приятного вида человек, коммунист Федор Феофанович Буров, бывший повар высокой квалификации, еще до революции совершивший с тремя такими же, как он сам, юными товарищами месячное путешествие по Европе.
Шеф-поваром был прекрасный специалист своего дела Федор Митрофанович, и вот я, третий Федор. «Столовая трех Федоров», – шутили наши товарищи по работе.
Старшим официантом был некто Одинцов, лет сорока, до революции служивший в трактирах, из которых приходилось «выкидывать» посетителей.
И еще один примечательный человек запомнился мне по этой столовой. Это совершенно опустившийся, не старый еще мужчина, которого все звали Ванька и добавляли прозвище, которое женщины-официантки стыдились произносить. Ванька прибился к нашей кухне, как прибивается течением бревно к берегу. Как-то раз худой небритый оборванец принялся помогать кухонному рабочему носить дрова на кухню, потом попросил у повара поесть. Его накормили. На другой день этот несчастный снова явился и опять стал таскать в кухню дрова. Его накормили. Была стужа. Непрошеный помощник попросил разрешения посидеть в теплой кухне в углу за дровами. Ему разрешили. Он пришел и на третий день. Кто-то из мужчин принес ему пару старенького чистого белья, кто-то старую одежонку. Ивану велели сходить в баню. С тех пор он так и прижился на кухне, всегда готовый выполнить любую самую неприятную работу. Где он жил-ночевал, никто не знает. Паспорта у него не было. О его прошлом никто ничего не знал.
Среди посетителей нашей столовой было немало темного бродяжного спившегося люда, среди которого выделялась тесно спаянная ватага подростков и молодых парней – беспризорников. Грязные, худые, с испачканными лицами, в лохмотьях, они были очень живописны. При появлении их в столовой не привыкшие к их виду посетители опасливо оглядывались и спешили поскорее съесть заказанный обед или ужин и уйти из столовой.
Когда официантка отказывалась брать у них заказ, они дико и шумно скандалили. Зав. столовой товарищ Буров, которого они явно уважали, попросил их брать питание домой и там кормиться.
«Котловцы», как их тогда часто называли за то, что они часто забирались греться, а то и ночевать в теплые большие котлы, в которых на улице варился асфальт, послушались Бурова и стали приходить за едой с большой кастрюлей. А «домом» им служил подвал в полуразрушенном доме рядом со столовой. Там у них был свой вожак, или, как они говорили, «комендант», умирающий от чахотки мужчина, о котором они любовно заботились, беря для него что-нибудь получше из еды.
Один раз вечером в столовую пришел пьяный подросток-котловец и потребовал чего-то, чего у нас в меню не было. Он поднял скандал, опрокинул стол с мраморной крышкой. Крышка разбилась на куски. Я хотел позвать милицию, но котловец сказал:
– Не зови, я сам пойду, проводи меня.
И действительно пошел. Я пошел за ним. Он весело вошел в дежурную комнату милиции. Дежурный старшина поднял голову и скучно спросил:
– Ну, что ты еще натворил?
Я стал говорить о разбитой крышке стола.
– Ну что ж, придется тебя посадить, – сказал милиционер.
– Сажай, дядя Миша, – сказал оборвыш и так мотнул ногой, что с нее слетел опорок, пролетел над головой дежурного и ударился о дверь каталажки.
На другой день, когда наш добровольный помощник Ванька узнал об этом, он мне сказал:
– Вы, Федор Григорьевич, поосторожней с этим парнем, он уж не одну голову у людей напрочь отрезал.
Работа в столовой мне очень не нравилась, и я думал отсюда сразу уйти. Но куда? Что я умею делать? Ничего не умею. Я с удовольствием бы пошел работать туда, где требуется знание иностранных языков, ведь я неплохо знал немецкий, но такой работы не находилось.
Я очень берег знание немецкого и старался все больше совершенствоваться в нем, будучи уверенным, что он мне когда-то потребуется. Я часто сам с собой говорил вслух по-немецки, читал вслух книги на этом языке и не упускал возможности поговорить с людьми, знающими его. На колбасном заводе был один немец из Поволжья, товарищ Кайзер, худощавый, небольшого роста человечек. Я и с ним часто беседовал на его родном языке. Занимался я и с учебником. И впоследствии эти мои знания хорошо послужили Родине. Но об этом потом.
А пока что я честно выполнял свои обязанности, хотя и не лежала у меня к ним душа.
Помню, меня с самого начала работы не включили в платежную ведомость, и я четыре месяца не получал зарплаты, а потом сразу получил порядочную сумму.
Примерно через полгода меня перевели из этой столовой в другую при общежитии Института гражданского воздушного флота. В ней питались только студенты, человек четыреста, этого института, жившие в общежитии.
Со своей работой я справлялся хорошо. В этом мне неплохо помогал и шеф-повар товарищ Скорняков, хороший, добросовестный работник.
В нашем меню часто была рыба – лещи, корюшка, салака, очень много шло соленой кеты. Эту крупную красную рыбу нам привозили в огромных деревянных бочках, центнера по два. Случалось, что студенты жаловались, настолько она им надоедала.
Со студентами у меня с самого начала установились хорошие отношения, и за целый год, что я проработал в этой столовой, у них не было ни на меня, ни на Скорнякова ни одной жалобы.
И все-таки и здесь у меня не лежала душа к работе, и я чувствовал себя не на своем месте. Вдруг мне представилась возможность уйти отсюда.
В те годы наша партия вела большую работу по созданию кадров специалистов из рабочих и крестьян по воспитанию своей народной интеллигенции. Партийным, комсомольским, профсоюзным организациям предлагалось выделять из своих рядов по тысяче – по две для направления на рабфаки и в вузы для получения высшего образования. Среди наших студентов тоже было немало таких тысячников.
Я тоже стал подумывать об учебе. Кстати, и возраст у меня был уже критический – тридцать пять лет. Старше этого возраста тогда в вузы уже не принимали.
И вот на одном профсоюзном собрании председатель месткома объявил, что нам выделена одна путевка для поступления в Ленинградскую высшую школу профдвижения. Огласил условия поступления. Назвал стипендию. Она была чуть меньше моей зарплаты. Спросил, кто желает учиться. Присутствующие молчали. Мгновение подумав, я поднял руку и объявил о своем желании. Путевку предоставили мне.
Сдав не очень трудные вступительные экзамены, я с 1 сентября 1931 года стал студентом Ленинградской высшей школы профдвижения (ЛВШПД) с двухгодичным сроком обучения.
В дворницкой мы с братом Петей ютились не очень долго. Месяца два спустя после приезда в Петроград ему удалось поступить в мясную торговлю государственной фирмы под названием «Мясохладобойня» на Сытном рынке. Чуть раньше его я поступил на Колбасный завод, и мы зажили нормальной жизнью. Муж и жена Куликовы освободили от своей рухляди комнату рядом со своей квартирой, тоже в подвале, тоже с плитой и раковиной, но чуть побольше размером и с двумя окнами. В нее нам Куликовы и предложили перейти. Комната была теплая, не очень сырая, и нам в ней было хорошо, но одолевали нахальные крысы. Однажды ночью они прожрали на коленках Петиных засаленных, пахнущих мясом брюк две большие дыры. В другой раз, когда он спал, крыса вцепилась зубами ему в руку, и я сквозь сон слышал, как он испуганно вскрикнул, и что-то мягкое шлепнулось об пол. Зажгли свет, и я перевязал ему укушенную руку. Рана вскоре зажила.
Мы решили во что бы то ни стало вывести крыс. На наше счастье, у Куликовых был черно-белый кот Мотька. Мы стали брать его к себе в комнату, а так как один из нас был мясник, а другой – колбасник, то Мотьке на наше угощение обижаться не приходилось. За короткое время Мотька окреп, в нем проснулся охотничий азарт, и он очень скоро избавил нас от этих противных тварей, за что продолжал получать у нас сытные ужины.
Семья Коленкевич из комнаты со сводами и окнами на помойку тоже перебралась в подвал напротив нас и чувствовала себя в нем недурно. Осенью 1925 года к нам с Петей приехал старший брат Иван. Встал на учет на биржу труда, а пока ходил без работы, жил и питался у нас. Он был колбасник по профессии и вскоре поступил на временную работу в частную колбасную мастерскую Рыбкина, а месяца через два подыскал себе и комнату и ушел от нас.
В начале зимы, когда деревенские работы кончились, брат Петя попросил у меня разрешения выписать из деревни свою семью – жену Клавдю и двух маленьких дочек Маню и Шуру. Я, конечно, не возражал, хотя комнатка наша была для пятерых и тесновата. Я даже обрадовался, что и у нас, как у Коленкевича, будет в доме хозяйка.
И вот мы с Петей встретили на вокзале и привезли домой Клавдю и девочек. На радостях я взял на себя обязательство приобщать невестку к культуре.
Мы зажили отлично. Питались вместе. Петя приносил домой мясо и телятину, я – колбасы и сало. Расходы на прочие продукты делили поровну на двоих. Клавдя и дети были нашими общими гостями.
Меня умиляло и забавляло, как Клавдя, никогда не видавшая города, воспринимает его и его явления. Петя оставался дома с детьми, а я водил невестку в кино и театры, где ей все было удивительно и казалось чудесами. Но когда мы были с ней в цирке, и, глядя на ловкие номера акробатов, я сказал Клавде:
– Смотри, что люди могут делать!
Она вдруг скучным голосом ответила:
– Ну, это все электричество.
Случались и неприятные казусы. Как-то, уходя на работу, Петя попросил жену приготовить на ужин макароны. Вечером Клавдя на сковороду с маслом положила сухие макароны и стала жарить, удивляясь, что они долго не делаются мягкими. В другой раз она начала чистить наждачной бумагой мою посеребренную столовую вилку. Вместо белой вилка стала красной. Взявшись постирать белье, она стала кипятить белое и цветное в одной воде. Что из этого получилось, можно себе представить. Во всяком случае мою модную тогда серую рубашку с белой отделкой стало уже неудобно надевать.
Я старался смягчать конфуз невестки, но Петю сердила такая неопытная жена, и он хмурился.
Маруся
Как-то в конце зимы в воскресенье вечером я, вернувшись домой, зашел за ключом от своей комнаты к Куликовым – мы всегда оставляли свой ключ у них.
– А здесь к вам пришли, Федор Григорьевич, – сказала Евдокия Денисовна. В их комнате сидела, не раздеваясь, в пальто и серой вязаной шапочке с помпоном, какие были тогда в моде, молоденькая, почти подросток, девушка. Она поздоровалась со мной, как знакомая, назвав меня Федей. Спросила, скоро ли придут Петя с Клавдей.
У девушки было приятное румяное личико, темные брови и карие глаза. В руках у нее был какой-то маленький пакетик. Мне она сразу понравилась.
Я пригласил ее к себе в комнату. Через несколько минут вернулись и Петя с Клавдей и детьми. Оживленно поздоровались и заговорили с гостьей, которая, развернув пакетик, подарила девочкам по маленькой кукле. Это мне тоже понравилось. В разговоре с девушкой я участия не принимал, а она, посидев немного, попрощалась и ушла.
– Что это за девушка? – спросил я невестку.
– Да, чай, Манька Монашенина, не знаешь, что ли? У нас еще в няньках жила, Манюшку нянчила, – ответила Клавдя, и мне не понравилась какая-то презрительная нотка в ее голосе. Я не стал больше задавать ей вопросов.
Я знал, что в деревне Софроново есть семья Федора Монашенина, а что это за семья и из кого состоит, не знал, да никогда и не интересовался. Правда, о самом Федоре я слышал осуждающие отзывы как о непутевом хозяине, который больше увлекается охотой с собаками, чем деревенской работой.
И вот дочь этого Федора, Маруся, как называли ее мои брат и невестка и стал называть и я, стала время от времени заходить к нам, то есть к Клавде с Петей, как к своим землякам и соседям по деревне, и рассказывать о своих делах.
Из их разговоров я узнал, что у родителей Маруси Федора Алексеевича и Евлампии (Евлании по-деревенски) Сергеевны Зайцевых, по прозвищу Монашениных, пятеро детей – четыре дочери и сын. Старшая из дочерей, Анна, замужем, живет в Разливе, свекровь у нее немка, младшие за Марусей – Юлия, Федор и Капитолина – живут с родителями в деревне.
Прозвище Монашенин Федор Алексеевич получил через свою мать, красавицу Александру, которая в юности пыталась уйти от грешного мира в монастырь и стать монахиней, или, как говорили в деревне, монашеной. Она даже пробыла какое-то время в монастыре, где носила черное одеяние послушницы, то есть была в приготовительной стадии для поступления в монашество. Но ее родители не допустили этого и вернули дочку домой. После этого ее в деревне и прозвали Монашеной. Случалось, что подруги и парни старались обидеть, а ребятишки подразнить ее этим прозвищем.
Саша была по-прежнему очень набожна и красива. Вскоре она вышла замуж, родила сына Федора и совсем еще молодой овдовела.
Федор женился на Евлании, когда ему не было еще и двадцати лет. Как единственный сын у матери призыву на военную службу он не подлежал. Его теща, Марусина бабушка Катерина, крестьянка из недальней деревни, жила в Питере прислугой в семье дальнего родственника, богатого владельца типографии А. Ф. Маркова. Свою дочь она тоже устроила прислугой к Марковым, а зятя – к ним же на дачу с большим участком земли дворником, садовником и кучером. Дача Марковых была в поселке Саблино под Петербургом, и знаменитые саблинские пещеры принадлежали тоже ему.
К началу Первой мировой войны у Федора было уже трое детей. Он был красив, и его дети тоже. Одевался франтовато, умел играть на гармони, был старательным работником, и хозяин ценил его.
В начале войны Федор, чтобы не попасть в армию, перешел на оборонный завод «Арсенал» чернорабочим в литейный цех, где вскоре после Октябрьской революции заболел туберкулезом, был признан инвалидом и по совету врачей уехал с семьей в деревню к матери. В течение года получал из Петрограда пенсию. За год жизни в деревне окреп, на переосвидетельствование в Петроград не поехал и пенсию получать перестал. За это время пристрастился к охоте и частенько в неподходящее время брал ружье, звал собаку и уходил в лес на охоту. Иногда он использовал на корм своим собакам мясо убиваемых крестьянами только что родившихся, но не нужных в хозяйстве жеребят. Все это сделало Федора в глазах односельчан лодырем, никудышным мужиком, а кое-кто и брезговал им, хотя он был неплохим охотником, и в тяжкие времена послевоенной разрухи и трудностей с продовольствием у его семьи на столе бывала жареная дичина – тетерка либо зайчик.
Маруся приехала в Петроград в конце 1924 года, чтобы поступить на работу. Явилась к старым хозяевам своих родителей и бабушки Екатерины, прослужившей у Марковых кухаркой более двадцати лет. От семьи Марковых осталось к тому времени только три дочери; две младшие – инвалидка Анна и Александра, старые девы; у старшей же, вдовы Дарьи Андреевны Животовой, были три замужние дочери. У одной из дочерей был маленький ребенок.
Сестры Марковы встретили Марусю радушно. Они жили в той же квартире на Невском проспекте, где жили и при родителях, во втором этаже. Под этой квартирой шумела и стучала, сотрясая квартиру, типография, некогда принадлежавшая их отцу, а теперь ее хозяином было Военно-морское ведомство.
До революции в этой типографии с ведома ее владельца Андрея Федоровича Маркова иногда тайно печатались большевистские брошюры и листовки, и поэтому от новой власти Марковым, кроме национализации их предприятия и имения, никаких стеснений не было.
Не вкусив длительной безработицы, Маруся быстро устроилась няней к имевшей маленького ребенка дочери Дарьи Андреевны Тамаре, муж которой, Владимир Васильевич Курасов, был преподавателем в одном высшем военно-учебном заведении.
У четы Курасовых своих детей не было, ребенок-мальчик был приемный, его имя было Спартак, но приемным родителям больше нравилось называть сына Юркой, они его так и звали.
После года с небольшим работы у них Маруси Курасовы переехали в Москву. После них она работала еще в двух семьях, о которых отзывалась очень хорошо. Хозяева последней семьи, где она служила, сами посоветовали и помогли ей поступить на лесопильный завод в Старой Деревне, говоря, что в рабочем коллективе она скорее разовьется, приобретет специальность и продвинется.
Все эти годы Маруся в свободные дни время от времени заходила к нам. Случалось, что у нас были гости, и мы приглашали ее к столу. Она держалась скромно и с достоинством и всем, кто ее видел, нравилась.
Как-то раз, когда во время отпуска я был в деревне, к нам в дом пришла немолодая уже женщина, назвалась Марусиной матерью и попросила передать своей дочери небольшую посылку – головку самодельного сыру. При этом Евлания Сергеевна простодушно пыталась дать мне десять копеек на трамвай. Я посылку обещал передать, а от денег, конечно, отказался.
Когда в Ленинграде я принес Марусе посылку на Петроградскую сторону, она, аккуратно одетая и причесанная, так мило захлопотала, чтобы угостить меня чаем, что я не смог отказаться. Чай и к нему печенье она подала мне на красивом подносике. Стала деликатно спрашивать о жизни в деревне.
Я ушел от Маруси с приятным чувством. В другой раз я испытал такое же приятное чувство от встречи с Марусей, когда она пришла к нам в хорошо сидевшем и очень шедшем к ней ковровом платье. Я любовался ею, но невестой себе не считал.
А между тем знакомые женщины донимали меня вопросами, почему я долго не женюсь, и советовали поскорей жениться. На такие советы я отвечал, например, жене Князева Марии Андриановне:
– Найдите мне невесту, похожую на вас, и я сразу женюсь. – Я и в самом деле хотел, чтобы у меня была такая жена.
– Ишь, тезка, черт, в мою жену влюбился, – смеялся ее муж.
Марии Ивановне Коленкевич я говорил, что у меня нет невесты, а она отвечала:
– А зачем ты от твоей литвинки отстал?
И только жена брата Вани Ксюша да сестра невестки Клавди Дуня как-то в праздник после ухода от нас Маруси воскликнули:
– Ну чем тебе, Федя, это не невеста? Посмотри, какая она хорошенькая!
С тех пор я стал замечать во внешности Маруси все больше и больше сходства с женою Князева. Но вот однажды Дуня показала мне фотокарточку Маруси в профиль с модной прической, в темном платье с кружевной отделкой и большой ниткой белых бус на шее, и я нашел, что Маруся не только моложе, но и красивее жены Князева.
Я спросил Дуню:
– А за что в деревне Федора, Марусиного отца, мужики не уважают? Что он, пьяница, драчун или нечист на руку?
– Что ты, Федя! – возмутилась она. – Федор – хороший мужик, детей своих любит и честный, только живет не совсем так, как все, вот некоторые на него и злятся.
У меня отлегло от души. Я стал думать о Марусе как о возможной невесте.
Но меня смущала не разность в летах и не то, что у Маруси нет никакого приданого, и не опасенье отказа с ее стороны, а значительная разница в моем и ее общем развитии и еще тот высокий авторитет нашей семьи и нелестная репутация, как непутевого мужика, отца Маруси в деревне. Короче, я боялся, что, если я женюсь на Марусе, деревенское общественное мнение да и отношение к браку с ней моих отца и мачехи будут не в мою пользу.
Во мне шла борьба. Я взвешивал все «за» и «против» и внутренне мучался. «За» были известные мне случаи неравных браков, например женитьба Н. А. Некрасова на простой девушке Фекле (Зинаиде), А. Ф. Маркова на Прасковье Ивановне, а также сожаление покойного брата Илюши, что он в свое время отверг предложенную ему невесту Маню Лодыгину. Вспомнилась досада отца, с которой он мне как-то сказал:
– И как ты можешь жить до таких лет неженатый? Да я бы на твоем месте Дуняшку Павла Ефимова взял, а не стал жить без жены! (Дуняшка была очень неказистенькая тихая крестьянская, уже не молоденькая девушка в нашем селе.)
«Против» – то, что я сказал выше.
Не в малой мере торопила меня с решением вопроса о женитьбе и известная басня И. А. Крылова «Разборчивая невеста». А главное, естество молодого, здорового мужчины властно требовало наличия подруги жизни. Мысль встретить очередную зиму 1930–31 года в одиночестве меня просто ужасала.
В это время я жил уже один в комнатке в седьмом этаже, в которую меня временно пустил пожить мой товарищ по работе Степан Объедков, уехавший в числе двадцати тысяч городских рабочих по призыву партии помогать в проведении коллективизации деревни. Интересно, что Объедков стеснялся своего имени Степан и, знакомясь, называл себя Сережей.
И еще одно обстоятельство подтолкнуло меня на решительный шаг. Передовой рабочий, не помню, какого завода, по фамилии Слободчиков, предложил объявить четвертый квартал 1930 года ударным, чтобы успешнее выполнялась первая пятилетка. Объявили. Портрет товарища Слободчикова напечатали в газетах, которые осветили этот почин.