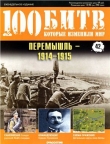Текст книги "Повесть о моей жизни"
Автор книги: Федор Кудрявцев
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 17 страниц)
Мы обмануты
Прошло месяца два нашей работы на копях. И вот в одно утро человек десять из наших товарищей повели не на копи, а на завод. Вечером они вернулись взволнованные. Они рассказали, что на заводе, куда прямехонько подаются по канатной дороге вагонетки с углем, производятся боеприпасы и что они сами видели, как идут в переплавку бронзовые статуи разных католических святых. Оказывается, мы добываем уголь для военного завода, делающего снаряды, которые полетят убивать русских. Мы этого не хотели и поэтому, посовещавшись, решили требовать вернуть нас в лагерь, о чем на другой день заявили начальнику копей. Он уговаривал нас остаться, обещал запросить разрешение нам здесь работать у испанского посла, поскольку Россия уполномочила нейтральную Испанию защищать интересы своих подданных во вражеской стране. Мы стояли на своем, говоря, что патриотическое чувство не позволяет нам помогать противнику. Начальник согласился с нами, но дело с отправкой нас обратно в концлагерь затягивал. Мы начали саботировать: умышленно сталкивали с рельс вагонетки с углем, ломали черенки лопат и кирок, переставали работать, как только видели, что за нами не наблюдают. За особо откровенный вид вредительства трое-четверо из нас отсидели по шесть часов в штольнях. Производительность нашей работы резко упала. Начальство не выдержало и отправило нас обратно в Штейнклямм. Согласились остаться работать человек десять, но и те вскоре вернулись. Я был в числе активных саботажников и уехал из Берндорфа с первой группой.
В концлагере прибавилось народу. Пригнали румынских и итальянских военнопленных, так как союзные с Австрией и Германией Италия и Румыния выступили против своих союзников.
В лагере рассказывали, что какой-то итальянский солдат вырвал у своего конвоира-австрийца винтовку и ударом о камень раздробил у нее приклад. Что было герою-итальянцу и разине-австрийцу, никто не знал.
После сносной жизни в Берндорфе в концлагере нам показалось особенно голодно и томительно скучно. Нас поддерживало сознание, что мы открыли обман австрийцев и освободились от работы на копях. Но мы не прочь были работать при лучших условиях, только не на войну. И вскоре нас опять обманули.
В Вене
Недели через две в лагере стали набирать группу на погрузочные работы в Вену. Обещали хороший менаж, и жилье, и плату за работу по одной кроне в день. Многие из моих товарищей-друзей, и я с ними, записались в эту группу Очень уж нам хотелось пожить в этом знаменитом городе и посмотреть на него.
И вот поздней сентябрьской ночью мы вышли из поезда на каком-то венском вокзале. Старший конвоир в чине капрала сказал, что здесь будем ждать до утра. По залу болтались какие-то сонные австрийские солдаты. Один молодой украинец рассказал, что он только что был в плену у русских, но его с товарищами не успели отправить подальше в тыл, и австрийцы снова отбили их у русских, о чем он очень сожалеет.
Утром мы сложили свои пожитки на подводы, а сами построились в колонну по четыре и под конвоем пошли по улицам Вены. Я шел рядом со своим ближайшим земляком из деревни Дымцево возле Красного Холма Васей Шмутиным. Будучи лет на семь старше меня и много грамотнее, он старался быть моим руководителем.
Нас привели на какой-то пустырь на окраине Вены, на котором одиноко стоял какой-то каменный сарай без окон. По стенам и посередине сарая были двойные деревянные нары. Мы только присвистнули. Обед, который нас ожидал, был не лучше лагерного.
На другой день после завтрака пришли грузовики и повезли нас на работу. Я отметил про себя, что еду на «моторе» четвертый раз в жизни.
Приехали на какую-то товарную станцию и стали на эти «моторы» грузить строительные материалы, железные балки, кирпич и пр.
Прошла неделя-другая. Менаж не лучше, спим в духоте и никакой платы за работу. Явно отсюда надо скорей бежать.
Мы, русские, в том числе двое татар, потребовали отправить нас обратно в концлагерь. Начальство отказало. На другой день отказались от завтрака и забираться в грузовики. Поехали на работу всего десятка два пленных итальянцев.
В наказание за стачку нас лишили обеда. Мы отказались и от ужина.
На следующий день никто из забастовщиков при побудке не встал с нар. Пришли солдаты, штыками и прикладами подняли и выгнали нас на улицу. Прибежал фельдфебель и стал уговаривать нас позавтракать и идти на работу. На первое мы согласились, на второе – нет. Тогда по его приказу солдаты окружили нас и, взяв винтовки наизготовку, стали наскакивать, грозя нам штыками, повторяя: «Жизнь или смерть!» Фельдфебель побежал докладывать о нас офицеру. Когда он ушел, солдаты засмеялись, опустили винтовки и, подмигивая нам, заговорили:
– Молодцы, русские, к черту войну, не бойтесь, мы вас не тронем, стойте на своем!
Пришел офицер с фельдфебелем. Солдаты снова приняли угрожающую позу и, подмигивая нам, направили на нас винтовки, а фельдфебель, показывая на нас офицеру, говорил:
– Вот это и есть самые такие, которые не хотят работать!
Офицер выслушал наше требование об отправке в лагерь и быстро ушел. Через несколько дней нас отправили на вокзал и повезли на поезде, но, к нашему удивлению, привезли не в Штейнклямм, а в Дрозендорф.
Снова в Дрозендорфе
На холме кроме каменного шюттенкастена в некотором расстоянии от него мы увидели расположенные четырехугольником четыре больших дощатых барака, немного в стороне еще один, окруженный проволочной сеткой. В центре между бараками стоял небольшой павильон-умывальня и другой – туалет. Все это было выбелено внутри и снаружи известью и имело веселый вид. К каменному зданию шюттенкастена было пристроено дощатое помещение кухни. От кухни к баракам был проложен ровный решетчатый настил. Такой же настил, но с крышей над ним, был и от барака к бараку, а от них к умывальнику и туалету. Вся территория лагеря была обнесена высокой проволочной сеткой на аккуратно выструганных столбах. Во всю ширину ворот в лагерь высилась вывеска со словами «KuK Konzentrationslager Drosendorf» («Императорско-королевский концентрационный лагерь Дрозендорф»). Во всех бараках и других помещениях был электрический свет. Освещена была и территория лагеря. У его ворот и вокруг проволочной ограды расхаживали часовые. Каждый барак был разделен на четыре больших помещения со входами через коридор посредине. В помещениях над койками вокруг стен были антресоли с перилами, на которых было столько же коек, сколько и внизу, всего коек сто в помещении. Посредине стоял длинный стол с такими же скамейками.
Вместе с лагерным начальством встретил нас и переводчик, все тот же любезнейший господин Фильгур.
– Ну, приехали и вы, ну, – говорил он нам, узнав большинство из нас, – а из Штейнклямма тоже все наши вернулись, идемте, я сведу вас в один барак с ними.
Мы со Шмутиным заняли две койки рядом внизу. В этот же вечер господин Фильгур с нашего согласия назначил меня и Васю рабочими на кухню. Мы носили из сарая уголь на растопку, разжигали котлы, мыли их после раздачи менажа, мыли столы и пол в кухне.
Недели через три Васе предложили работу в крестьянском хозяйстве, и он выбыл из лагеря. На его место назначили высокого курносого хохла Ивана Ермоленко, лет на десять старше меня. Вскоре мы стали с ним хорошими друзьями. Глядя на нашу крепкую дружбу, рабочий по кухне, пожилой сербский турок, которого все звали не по имени, а по-сербски – Турчин, умилялся на нашу дружбу и однажды высказался в восторге:
– Иване, Тодоре, вы врло (очень) добры люди, кажте да убию за вас любого турчина – и убию, тако вас люблю!
К счастью, в лагере больше, кроме него, турок не было, и убивать за нас Турчину было некого. Но Иван однажды допустил злую шутку над этим простодушным, как дитя, человеком. Турчин, согласно своей вере, не ел свинину, а у нас то и дело обеденный суп заправляли мукой, поджаренной на свином сале. В такие дни Турчин просил повара – а Иван стал уже поваром – наливать ему в котелок супу, пока в него еще не опускали свиное сало. И вот однажды Иван налил в его котелок супу, добавив в него изрядно сала, чтобы посмотреть, учует ли Турчин неладное и что он будет делать, поев запрещенной верой свинетины (свинины). Турчин съел весь суп и облизал ложку. Тогда кто-то из поваров-сербов сказал ему об озорстве Ивана. Турчин побледнел как мел, пристально поглядел на Ивана, на меня и изменившимся голосом спросил:
– Это правда, Иване, Тодоре?
– Неправда, Турчин, – ответили мы.
– Нет, Иван не мог этого сделать, – сказал Турчин и успокоился.
О, если бы он поверил своему земляку-сербу, он бы наверняка убил не турка, а самого Ивана. Бывает и ложь во спасение. Но мне до сих пор стыдно за Ивана, что он так зло подшутил над бедным фанатиком Турчином.
Вскоре и меня сделали поваром, и отношения у нас с Турчином остались самые лучшие. Повторять с ним подобные шутки я Ивану не позволял, сам наливал Турчину не оскверненного свиным салом супа.
Кроме меня с Иваном Ермоленко были еще повара, два брата серба Савва Маркович и Милан Маркович, а кроме Турчина еще трое кухонных рабочих. С сербами мы хорошо понимали язык друг друга и даже такие выражения сербов, как «извади ватру на поле» («выгребай огонь из-под котла») или «ели, бре, мети мало выше» («слушай, брат, положи немножко побольше»).
Работать поваром мне нравилось. Я вообще люблю этот труд. Я старался из имеющихся скудных продуктов готовить по возможности вкуснее. Из продуктов для обеденного супа давали картофель, фасоль, пшено, квашеную капусту, кукурузную крупу, горох. Супы из этих продуктов заправлялись небольшим количеством жаренных в свином сале, маргарине или растительном масле лука и муки, что вместе с морковью, лавровым листом и какой-то сухой измельченной зеленью придавало еде хороший вкус. По четвергам и воскресеньям суп варился с мясом, небольшой кусочек которого получал каждый пленный. Повара, конечно, ели сытнее остальных. Поварам, кроме того, платили за работу по 25 крон в месяц. На эту должность рекомендовал людей лагерный переводчик господин Фильгур, о котором я говорил выше. Но не надо думать, что он получал с этого какую-либо корысть. Просто он старался, чтобы у котлов стояли честные, уважаемые остальными пленными люди. При этом Фильгур предпочитал почему-то русских. Так, например, поварами (благо нетрудно было научиться несложной варке супов) работали такие авторитетные зерновики, как Константин Кашин и Николай Матавкин и некоторые другие.
Культурная жизнь в лагере
С наступлением зимы у некоторых пленных явилась мысль организовать концерт, поставить любительский спектакль. Главными инициаторами этого дела были зерновики К. Кашин, Н. Матавкин, русский немец Ломайер и некоторые другие. Получили разрешение коменданта лагеря. Провели концерт, в котором участвовал и я, прочитав сатирическое стихотворение «Тайя». После концерта стали готовить спектакль. Ставили комедию Н. В. Гоголя «Женитьба». Роли распределили так: Подколесин – К. Кашин, Кочкарев – Н. Матавкин, Степан – И. Полубабкин, невеста – М. Жидкая, ее тетка – Ф. Кудрявцев, то есть я, Яичница – И. Ермоленко, Анучкин – Н. Гиль, Жевакин – В. Базарник, Стариков – В. Литвинов, сваха – А. Полякова, Дуняшка – молодой паренек из Волынской губернии, фамилию не помню. Суфлером был очень интеллигентный оренбургский казак Саша Пичугов.
Спектакль, на котором присутствовали и комендант лагеря барон Доббльгоф с женой, и другое лагерное начальство, и большинство населения лагеря, – прошел очень удачно.
После «Женитьбы» инициаторы этой художественной самодеятельности пригласили фотографа, который и снял группу участников в костюмах и гриме.
Затем была заказана каучуковая овальная печать со словами на немецком языке «Musikalisch-dramatischer Verein der russischen Internierten, Drosendorf a/d Taja» («Музыкально-драматический кружок русских интернированных, Дрозендорф на Тайе»).
В ту же зиму нами был подготовлен и сыгран «Ревизор» Н. В. Гоголя. Роль Хлестакова исполнил Н. Матавкин, Городничего – И. Ермоленко. Мне достались две роли в разных актах – почтмейстера Шпекина и слесарши Пошлепкиной. Это были все те же артисты, что и в «Женитьбе», и некоторые новые люди. Режиссерами того и другого спектакля были Матавкин и Ломайер. Гримировали они же.
Выезды на работы
Из внешних событий закончившегося 1915 года вспоминаются неудачи наших войск на фронтах, взятие русскими Львова и Перемышля в Галиции и последовавшая вскоре их потеря. Впрочем, простые австрийцы этому не очень радовались, как и не очень скорбели над своим умершим в том году престарелым императором Францем Иосифом I, вместо которого вступил на австрийский престол другой КуК – Карл I. Война продолжалась и в наступившем 1916 году.
Кончилась зима. С наступлением весны в лагере начали формировать рабочие группы для направления на сельскохозяйственные и строительные работы с выездом из лагеря. Мне тоже надоело сидеть в лагере и видеть вокруг себя все одну и ту же обстановку. Захотелось хоть на время вырваться из лагеря и побыть в другом месте. Я сказал об этом переводчику Фильгуру.
– Ну хорошо, ну и поедешь, ну, – пообещал он.
В июне стала формироваться группа из двадцати – тридцати человек на ликвидацию разрушений от сильного ливня какой-то небольшой водяной лесопилки возле маленькой деревни Кольмюцграбен. Дома этой деревни белели по обеим сторонам реки Тайи в тесной лощине меж высоких скалистых гор. Здесь река делала крутой поворот, огибая большую высокую отвесную скалу, на которой стоял мрачный полуразрушенный замок какого-то феодала, или, как о нем говорили местные жители, чешского рыцаря-разбойника Кольмюца.
В эту группу, или, как было принято говорить, партию, входило большинство русских и несколько сербов. Старостой партии (партайфюрером) был назначен серб, поваром – я.
От Дрозендорфа на Тайе до Кольмюцграбена было километров пятнадцать, и мы под конвоем одного солдата пошли туда пешком вслед за подводой, которая везла наши пожитки и на неделю хлеба и продуктов.
Дорога, по которой мы шли, на открытых местах была с обеих сторон обсажена фруктовыми деревьями. На некоторых из них висели спелые ягоды черешни, и, если не было соломенной кисточки, запрещающей щипать ягоды, мы по дороге щипали их понемногу и ели.
В Кольмюцграбене мы разместились в небольшом двухэтажном крестьянском доме, рабочие на первом этаже, я с партайфюрером в спальне хозяев во втором. Здесь же, во втором этаже, была и кухня, где я готовил пищу для своих товарищей. Перед самым окном росло сливовое дерево со спеющими плодами. Немного справа от дома, видный и слышный из окон спальни и кухни, шумел на реке небольшой водопад.
В спальне среди прочего убранства красовалось большое католическое распятие и статуйка Мадонны с младенцем. Было довольно уютно.
Хозяин дома был чех с немецкой фамилией Вайсхаар. Трех его взрослых дочерей звали Анна, Эмма и Мария. Все были незамужние. За старшей, Анной, стал ухаживать кто-то из рабочих, за средней, Эммой, – староста-серб. Младшая, Мария, или, как ее ласкательно звали, Мици, строила глазки мне. Я это заметил и стал говорить ей комплименты и немножко ухаживать. Ей это нравилось, и однажды она, увидев на мне зеленый галстук, сказала по-чешски:
– Травичка зелена – мам вас рад значена (что по-русски можно перевести так: травка зелена – я в вас влюблена).
Но дальше глазок, комплиментов и прогулок за деревню к расщелине высокой скалы, сквозь которую прорывалась Тайя, у нас дело не пошло. Мици строго берегла свою девичью честь. Она с осуждением относилась к своей подруге Юлии Скаленц, которая после побывки в отпуске ее жениха-солдата родила ребенка, а вскоре прибыло известие с фронта, что ее жених убит.
Юлия была некрасивая бедная девушка с прыщеватым лицом, с веселым и довольно развязным нравом, но ухаживать за собой никому не позволяла. По вечерам ее всегда можно было видеть только с ребенком на руках.
О расщепленной скале, возле которой мы гуляли с Мици, есть легенда, что с ее вершины когда-то давно бросилась в реку обманутая рыцарем девушка, и поэтому скала зовется Юнгферфельс (Скала девы).
В деревне был небольшой трактирчик, где имелось пиво. Перед трактирчиком высились голые скалы. Вершина одной из скал была очень похожа на голову льва, с другой скалы рядом с ней с высоты стремился крошечный водопадик, рассыпая при падении облачко брызг, в которых по вечерам купался рой голубых светлячков. В вечернем полумраке это было очень красивое зрелище.
По лесистому склону горы я раза три поднимался к замку и бродил по его залам с обрушенными потолками и высокой круглой башней, на крыше которой росло раскидистое дерево. В зале, вероятно пыток, зияло отверстие в глубокий колодец, дна которого не было видно. Я бросил в него камень, всплеска воды в нем не услыхал, чуть слышно стукнуло где-то очень глубоко. Зажег бумажку и бросил в темное жерло. Бумажка погасла недалеко от поверхности, ничего не осветив. Стало жутко, и я поспешил прочь из мрачных стен.
Идя домой, я нашел несколько сыроежек. На улице мне встретились Мици и еще несколько девушек. Они стали уверять, что это ядовитые грибы и советовали их бросить. Я не послушал. Отварил и в присутствии Мици и Юлии съел. Девушки потом удивлялись, как я остался жив.
В Кольмюцграбене мы пробыли не больше месяца. С большой неохотой вернулись обратно в лагерь. А лето играло своими красками. Сердце стремилось снова на простор, в поля и горы.
Вскоре стали набирать небольшую группу на сельскохозяйственные работы в помещичье имение. Я в нее записался, но не поваром, а рядовым рабочим.
Генрихсрайт
Нас и на этот раз пешком привели в деревню с двумя недлинными рядами домов, составляющих единственную улицу этой деревни. В конце ее находилась небольшая помещичья усадьба. Вокруг была довольно ровная местность с посевами клевера, сахарной свеклы, мака. Рожь была уже убрана. Мы расположились в небольшом помещении с нарами на скотном дворе, окруженном хозяйственными постройками.
На другой день нас послали ворошить и убирать скошенный клевер. Граблей хватило не всем, некоторые взяли простые палки, иронизируя над запущенностью этого хозяйства.
Управляющим имением был чех, который ненавидел австрийцев, демонстративно не говорил по-немецки и даже со стерегущим нас солдатом говорил через переводчика, то есть одного из нас.
Вместе с нами на работу выходил худенький старик-батрак, рубаха и штаны которого были все в заплатах. В зубах он неизменно держал трубку с длинным висящим чубуком и большой головкой, которая во время работы раскачивалась, как маятник. Кроме него были еще два старика-итальянца, две молодые женщины и молоденькая девушка, тоже итальянки, австрийские подданные, беженцы из Тироля, где шли бои с итальянскими войсками.
Это был веселый живой народ. По пути на работу один итальянец брал грабли, как скрипку, водил по ним палочкой и что-то весело пел, женщины ему со смехом подпевали. Другой итальянец тоже пел и дирижировал своими граблями. Мне запомнились слова из наиболее часто повторяемой ими песни: «Триполи сераль тальяно, Триполи сераль тальяно, тромм делля канон». Что они значат – не знаю. Ходить с итальянцами на работу всегда было весело.
Женщин-итальянок звали Мария и Джулия, девушку – Джижотта. Мне она очень нравилась, и во время обеда или передышки в работе я старался подсаживаться поближе к ней. Мария и Джулия это заметили и стали легонько подталкивать меня к Джижотте, а Джижотту ко мне. Когда наши плечи касались, мы оба смущались и краснели, остальные потешались над нами.
Мы подружились с Джижоттой. Она называла меня Тодоро и каждое утро стала приносить мне в передничке слив из сада своих хозяев. Мы стали обоюдно учить друг друга каждый своему языку.
Однажды я, чтоб щегольнуть перед итальянцами, произнес запомнившуюся мне из какой-то книги стихотворную фразу: «Пию форте, пию форте, ке ля морте, ке ля морте».
– Но, но! – весело закричали и засмеялись итальянцы. – Но ля морте! Пиу форте, пиу форте, ке ль аморе, ке ль аморе! – и так нас толкнули, что мы с Джижоттой невольно прижались друг к другу и наши сердца сладко забились.
Из Генрихсрайта я помню еще, как, получив получку, мы, несколько парней (человек восемь), пришли в деревенский трактир и спросили литр рому. Хозяйка подала. Мы разлили его по стопкам и залпом выпили. Хозяйка ахнула и сказала, что впервые видит, как пьют русские. А мы после рома выпили еще стопки по две-три местного виноградного вина и, расплатившись, спокойно пошли домой. Хозяйка сказала, что теперь у нее плохо идут дела, все мужчины на войне, а мы дали ей хорошую выручку, и просила нас заходить к ней почаще.
В нашей группе был один хитрый парень, хохол Иван Присяжный. Как-то, огребая клевер, мы вспугнули зайца. Заяц понесся к недалекому лесу, Иван с криком «Сейчас поймаю!» понесся за зайцем, а управляющий, схватясь за бока, смеялся:
– Вот дурак, да разве ему поймать зайца!
Иван скрылся в лесу и вернулся оттуда к концу работы.
– Не поймал, уж очень быстро бегает, – смущенно говорил он управляющему, – весь лес за ним обегал.
А нам он говорил:
– Ну и выспался же я и погулял по лесу, а пан, дурак, думает, что я зайца ловил!
Месяца через полтора я попрощался с Джижоттой и другими итальянцами. Нас вернули в лагерь.
Наступила осень. В ноябре выпал снег. Началась зима. Война продолжалась без перспективы на скорый мир. Австрия выдыхалась. Нас кормили все хуже и хуже. Крупяной и фасолевый супы стали варить все реже. Чаще варили квашеную капусту. Появился какой-то эрзац гороха. Говорили, что это размолотая в муку солома с добавлением малой доли настоящей муки. Немногим лучше кормили и солдат из нашей охраны.
В лагере пошли разговоры о каких-то международных комитетах Красного Креста, оказывающих помощь военнопленным. Называли их адреса, главным образом в швейцарских городах. Заключенные начали писать в них просьбы о помощи. Несколько писем по этим адресам в разное время написал и я. По ним в разное время я получил одну продовольственную посылку с колбасой, галетами и чем-то сладким, одно письмо из Москвы, Остоженка, 19, с просьбой к «дорогому солдатику» прислать ни больше ни меньше как немецкую каску. Под письмом подпись: «О. Кудрявцева». Возможно, это писал ребенок.
Еще на мое имя в лагерь пришла посылка, в которой было около полусотни книг, в том числе поэма Лонгфелло «Песнь о Гайавате», которую, да и ряд других книг, я прочитал с удовольствием. Разумеется, все книги я сразу отдал в наш кружок, и они явились основой для создания лагерной русской библиотеки, которую организовали те же Н. А. Матавкин, К. К. Кашин и другие.
Позднее я получил посылку из Лозанны, в которой был прекрасный жакет, жилетка и брюки с носовым платком и театральным билетом в карманах. Костюм был с мужчины высокого роста, и я потом перешил его в Вене.
И еще в конце зимы я получил от неизвестного мне лица сто крон (около 37 рублей на наши деньги).
Получали мы и коллективные посылки с галетами, черными сухарями и табаком и даже с молитвенниками. Для их распределения был избран специальный комитет из заключенных.
Конечно, каждой посылке с едой я радовался. Но у меня были и большие огорчения. В русской армии на фронте находились три моих старших брата – Илья, Иван и Петр. И вот об Иване отец сообщил мне из России, что он попал в германский плен. Затем новое известие о том, что Иван, красавец, весельчак Иван, болел в плену особо тяжелой формой гриппа – «испанкой», ослеп и как инвалид обменен на немецкого инвалида и отправлен в Россию. Это известие меня потрясло. Я поплакал о беде брата и написал стихи:
О, если б я услышал, что брат мой в битве пал,
Я так бы не заплакал, но я не то узнал.
Узнал я, что мой милый, мой ненаглядный брат
Ослеп, что очи брата на свет уж не глядят.
Ужасно быть немому, глухому страшно быть,
Но хуже всех слепому на белом свете жить, —
Все чувствовать, все слышать – жар солнца, звон ручьев,
И ничего не видеть – ни неба, ни цветов!
Вскоре новое потрясающее известие об Иване – он умер от чахотки на шведской границе! Значит, я никогда больше не увижу брата Ваню, думал я, читая со слезами письмо от отца. И вдруг недели через две получаю от самого Вани письмо с его фотоснимком, и не с того света, а из Германии, с адресом лагеря военнопленных, где он находится. Как велика была моя радость! Я тут же ответил ему письмом и послал двадцать крон денег. Мы стали переписываться.
Оказывается, мой адрес он узнал через Красный Крест.
Между тем в лагерь вернулись с внешних работ все наши «артисты», и наши «режиссеры» стали готовить новую постановку. На этот раз выбрали сцену «Корчма на литовской границе» из «Бориса Годунова». Гришку играл Н. А. Матавкин, хозяйку корчмы – я, монаха Варлаама – К. К. Кашин, Мисаила – Володя Литвинов, сторожевых приставов – дюжий И. Г. и тщедушный Вася Базарник, студент учительской семинарии из Волынской губернии.
Спектакль удался на славу. На нас, «артистов», заключенные стали смотреть с любовью и уважением, а лагерное начальство – с почтительным удивлением: вот, мол, эти медведи русские на деле какие культурные, способные люди.
Успех нас раззадорил, и мы замыслили поставить новый спектакль, на этот раз драму Л. Н. Толстого «Власть тьмы».
Комендант лагеря барон Доббльгоф тем более охотно дал на него разрешение, что он сам со своей женой видел предыдущие спектакли и горячо апплодировал исполнителям.
Мы тщательно подготовили и хорошо сыграли без малейших сокращений и эту сложную пьесу при полном бараке зрителей, которые бурно нам аплодировали.
Главные роли в этом спектакле исполняли: Аким – Петя Гиль, молодой учитель из Волынской губернии, Матрена – Федя Кудрявцев, то есть я, Никита – Н. А. Матавкин (мой земляк, о нем я говорил в начале). Участвовали и другие, знакомые по прежним спектаклям «артисты», но кто что играл, я сейчас не помню.
Шла на убыль зима. На фронтах продолжались бои. Увеличивалось число убитых и инвалидов. В морях тонули корабли. Разрушались города, деревни и села. Голодали по тылам старики, женщины и дети. Уныло тянулась жизнь и в нашем лагере. На ухудшение менажа заключенные реагировали двух-трехдневными голодовками, на что лагерное начальство досадливо отвечало:
– Мы сами голодаем и не можем отдать вам последнее, чтобы раньше вас умереть с голоду. Лучше вы раньше нас умрите.
Но умирать никто не хотел, и голодовка прекращалась.
В один из мартовских дней менажмайстер (заведующий питанием) герр Франц Мандль, толстый пожилой австриец в мундире ополченца, принес на кухню газету с сообщением о событиях в Петрограде. Через несколько дней в газете появился портрет царя Николая II и сообщение о его отречении от престола. В России произошла Февральская революция!
Теперь мы ловили каждое известие о нашей стране. Начали повторяться имена Керенский, Львов, Родзянко и другие.
Радость по поводу свержения самодержавия смешивалась с опасением, что теперь немцы, пользуясь революционными событиями, победят Россию, а мы так хотели победы своей родине!
Я написал стихи:
Пусть будет отнята свобода,
Пусть холод, голод нас томит
В плену у чуждого народа,
Но все ж победа заблестит
На нашем русском небосводе,
И после бури роковой
Настанет ясная погода
И заликует край родной!
Австрийцы обрадовались было, что Россия скоро запросит мира, но новое русское правительство о мире и не думало, выдвинув лозунг «Война до победы!».
В разговорах нашей лагерной интеллигенции высказывалось удовлетворение «почти бескровной революцией» и стремлением новых властей к победе. Изредка слышались голоса, что революцию может использовать буржуазия в своих интересах. Так, например, говорил учитель из Житомира Андрей Дроздовский. Тогда я еще не слыхал слова «большевик», но мне все-таки вместе с Дроздовским не хотелось, чтобы буржуазия оставила рабочих с носом. В то время я в политику глубоко не вникал.
В апреле 1917 года я опять с небольшой группой рабочих поехал в качестве повара в Вену на строительство какого-то здания. Партайфюрером (старостой группы) на этот раз поехал молоденький польский шляхтич Любич-Грушецкий. Это был изящный франтик, одетый в форму австрийского офицера, но без погон и кокарды. Он рассказал мне, что служил добровольцем в австрийской армии, но потом одумался, отказался в ней служить, и его, как русского подданного, интернировали.
О России и русских этот мальчишка отзывался всегда хорошо и поругивал Австрию. Мы с ним подружились.
На этот раз мы помещались в каком-то старом доме, бывшем в давние времена карантином, в старом городском районе (в восьмом бецирке) на Шляйфмюльгассе. Кухня была здесь же. В помощники мне назначили пленного итальянца Артуро Фрешки. Он немного говорил по-немецки, но с кошмарным акцентом. Вместо «шпрехен» говорил «жбрекен», вместо «шнель» – «жнель» и т. д. Потом Артуро за то, что он при раздаче пищи обделял русских в пользу итальянцев, сняли, мне дали в помощники австрийского солдата-чеха, придурковатого Карла Лацину, в котором было кое-что от Швейка. Он больше прикидывался глупым, чем, пожалуй, был им.
В этот раз мне удалось хорошо познакомиться с Веной. За некоторыми продуктами мне с Лациной приходилось ходить с мешками на склад самим, а это было довольно далеко. В этих случаях Лацина был в двух лицах – носильщиком и моим конвоиром, хоть и без винтовки. Мы старались ходить на склад по разным улицам и таким путем знакомиться с городом.
Одним утром мы с Карлом, идя на склад, увидели на углах улиц и кое-где под арками ворот группы вооруженных солдат. Прохожих на улицах было мало. Нас несколько раз останавливали и проверяли полицейские патрули – я был в штатском.
Было утро первого мая. Власти опасались революционных выступлений венских рабочих. Вернувшись, я рассказал о виденном пожилому солдату-сапожнику, чинившему в каморке возле кухни обувь своим товарищам.
– А, – злорадно сказал он, – боятся, сволочи, чтобы и у нас не было, как у вас в России. Они и на крыши домов пулеметов понаставили! Но ничего, придет и их очередь. Вишь ты, новый военный заем выпустили, хотят воевать дальше. Дудки! Я, рабочий, социал-демократ, гроша ломаного им не дам! – гневно заключил он.
В Вене ничего особенного не произошло. Жизнь текла своим чередом. Любич-Грушецкий успел познакомиться с хорошенькой продавщицей из маленькой кондитерской лавочки напротив нашей казармы. С другой продавщицей, венгеркой Розой, он познакомил меня. Девушки были рады, когда мы приходили к ним в лавочку, шутили и смеялись с нами, отпуская нам жалкие сласти военного времени из ненормированных продуктов. Они прозвали нас – Любича-Грушецкого «Шнуки», меня «Бэби». Раза два нам удалось пригласить девушек в кино «Чеканандер», где молоденькая кассирша, когда мы сказали, кто мы, получила с нас за билеты, как с солдат.