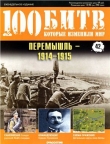Текст книги "Повесть о моей жизни"
Автор книги: Федор Кудрявцев
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 17 страниц)
– Вполне, вполне можешь сойти, – отвечал тот улыбаясь. Затем, вызвав солдата, обер-лейтенант приказал:
– Отведите этого человека в помещение интеллигенции, да скажите на кухне, чтобы ему дали поесть.
Пройдя немного по коридору, солдат подвел меня к двери, у которой стоял часовой с ружьем с примкнутым штыком. Часовой отпер ключом дверь. Я вошел в нее. Замок железно скрипнул, и я уже по-настоящему оказался заключенным на целых три с половиной года.
Я оказался в большой светлой, с несколькими окнами, с побеленными стенами комнате. Посреди нее стоял сколоченный из досок длинный стол с некрашенными скамейками по сторонам. За столом сидело несколько человек в штатском. Вдоль стен комнаты на полу на соломе сидело и лежало еще человек тридцать. Я поздоровался, подошел к столу и сел на скамейку. Меня тотчас же окружили находившиеся здесь люди, у многих из которых на одежде были следы соломы, и стали расспрашивать, кто я, откуда и какие новости на фронтах. Я мог рассказать им только о прочитанном в газете сообщении о большом сражении под каким-то селением или городом Красником. В это время в комнату вошел солдат и принес мне обед – суп с кусочком мяса и половинку, фунта полтора (около 600 граммов), черного солдатского хлеба.
Жизнь в плену
Так началась моя жизнь в плену. Утром я проснулся хорошо выспавшимся и спокойным от сознания, что мое положение хотя и таким образом, но все же определилось, что я теперь имею крышу над головой и какое ни на есть питание и ко всему тому нахожусь среди своих соотечественников. Нас по нескольку человек выпустили умыться. На завтрак нам выдали по пол-литра подслащенного кофе-суррогата и дневной паек хлеба. После завтрака нас вывели на плац на прогулку. Под охраной нескольких солдат с винтовками мы около часу ходили друг за другом по кругу, на расстоянии один от одного метра полтора-два. Разговаривать между собой нам не разрешалось. Эта мера казалась нам предельно глупой, как будто мы были из одиночек и власти боялись нашего общения, хотя мы кроме этого часа прогулки и так целые сутки находились вместе и разговаривали сколько душе угодно.
К обеду мне выдали солдатскую железную, луженную оловом миску с отгибающимися ручками-ушками, с крышкой в виде сковородки и луженую железную ложку Обед состоял из такого же супа с мясом, какой я ел накануне. В пять часов вечера нам дали по пол-литра подслащенного чая-суррогата, а в семь часов по порции какой-то каши с салом.
Целый день, кроме прогулки, мы сидели взаперти, и если кому требовалось в туалет, стучали в дверь, солдат выпускал того в коридор, запирал дверь и под конвоем вел заключенного в туалет, затем обратно.
Окна в помещении были без решеток, их можно было открывать для проветривания. Перед окнами на плацу происходило обучение солдат стрельбе, штыковому бою, строю и другим военным наукам. Эти солдаты в своих мешковатых мундирах и тяжелых больших ботинках с манжетами поверх брюк казались мне против русских солдат такими жалкими и неуклюжими.
«Учитесь, учитесь, – думал я, – все равно вас русские перебьют на фронте, – и мне становилось их как-то жалко. – А может быть, который-то из вас убьет, и не одного, русского, и в том числе и моего брата», – приходила в голову мысль, и в сердце закипала злоба на зачинателей войны и в первую голову на германского кайзера Вильгельма II и его генералов. Престарелого австрийского монарха Франца Иосифа I я как-то не брал в расчет, потому что из тех немногих знаний по истории, которые у меня были, я что-то не помнил случаев, когда австрийцы побеждали противника в сражениях.
Между прочим, я постепенно знакомился с «интеллигенцией», то есть с моими товарищами по заключению. Это были большей частью студенты, одни помоложе, другие постарше, были и такие, которых принято называть вечными студентами. Русских из них было немного. Из них мне запомнилась почему-то всего одна фамилия – Дятлов, переводчик с болгарского языка. Было много евреев. Из них я запомнил толстяка Лурье, маленького доктора Сигалевича, задумчивого Бегуна и красивого франта Брусиловского, которого остальные называли почему-то князем. Запомнил я украинцев Квашу и Продайко с его скрипкой, молдаванина Гаркушу и эстонца Махлапу. Я был самый младший из них по возрасту, всего с начальным образованием, и мною особо никто не интересовался. Я же с жадностью слушал их умные, образованные разговоры о науке, политике и о прочих вещах, во многое вникал, что мог, запоминал, словом, понемногу развивался. Постепенно я привязался к Мише Брусиловскому и больше всех докучал ему разного рода вопросами и разговорами.
Время от времени к нам заглядывал обер-лейтенант, о котором я говорил выше. Заключенные почему-то называли его не по чину, а по фамилии – герр Матейко, против чего он ничуть не возражал. Это был явно славянин, только чех, поляк или украинец, я так и не знаю. Скорей всего, что чех, судя по его дружелюбному отношению к нам.
Наше сидение в этой казарме продолжалось месяца полтора. Но вот в один из дней к нам вошел Матейко и велел подготовиться к переводу в другое место.
– А там вы тоже будете нашим начальником, герр обер-лейтенант? – раздались вопросы.
– Да, я буду и там, – ответил он.
Нам не хотелось, чтобы на его место назначили другого начальника.
Вскоре к выходу из казармы подъехала конная повозка, мы сложили в нее свои пожитки и, окруженные конвоем, двинулись в путь. Нас привели в город на площадь с уже знакомым мне собором. Слева от собора темнело мрачное здание с зарешеченными окнами. Это была тюрьма. Войдя в ее двери, мы сразу начали спускаться этажа на два вниз по лестнице. «Нас ведут в подземелье», – с тревогой подумал я. Нас остановили в длинном сводчатом коридоре с рядом дверей с одной стороны. Мы вошли в одну из них, и моя тревога рассеялась. Это была довольно светлая, с двумя или тремя окнами, большая комната, но грязная, с давно не беленными стенами и потолком. Нам предложили разместиться, затем выдали по охапке соломы, и мы стали осваиваться и знакомиться с находившимися там заключенными. Близ окна, у стены, где была неглубокая ниша, я узнал в сидящем на соломе человеке священника карлсбадской церкви отца Николая Рыжкова. Мое место на полу оказалось рядом с местом дьякона той же церкви Александра Васильевича Соловьева, человека средних лет, со светлой бородкой и такими же волосами.
В этом же помещении находился и псаломщик церкви, молодой красивый статный человек Сергей Михайлович Брянский, студент Петербургской духовной академии, совмещавший летние каникулы с поездкой в Карлсбад и службой в здешней церкви.
Рядом со мной справа помещался черноволосый человек с глубоко запавшими глазами по имени Игнатий Кравчук, бывший кочегар с мятежного броненосца «Потемкин». Запомнились мне в нашей камере четыре рыжих парня – англичане, точнее, ирландцы из Белфаста. Помнится, что это были матросы с какого-то торгового судна. Все они умели лихо по-русски ругаться матерно, правда, с английским акцентом, отчего получалось очень смешно. Это были противные люди. Как только гасили в камере свет и все укладывались спать, они закуривали свои трубки и начинали дымить, отчего спертый воздух становился совсем невозможным. Нахалам со всех сторон кричали: «Не курить! Но смоук!» – но это не помогало, и тогда в них летели куски хлеба или ботинки. Другого под руками ничего не было. А они смеялись и ругались по-русски с английским акцентом.
Батюшка Николай Рыжков вел себя тихо, незаметно, в разговоры ни с кем не пускался. Я видел каждый день, как он перед обедом крестился, целовал висевший в нише большой серебряный нагрудный крест на серебряной цепи, выпивал стопочку спиртного и не спеша ел свой суп из солдатской миски, потряхивая седеющими волосами.
Запомнился мне из заключенных еще один. Кругленький человек средних лет, бритый, с улыбчивым круглым лицом, не то еврей, не то немец, по фамилии Реслер. О нем говорили, что это торговец живым товаром, и заметно его сторонились.
Ни книг, ни газет у нас не было, смотреть из окон на улицу запрещалось, дни текли томительно скучно. Но вдруг однажды утром дверь в нашу камеру отворилась и часовой пропустил к нам прелестную чернобровую румяную девушку лет семнадцати с большой, покрытой белой салфеткой корзиной. Блестя веселыми глазами и улыбаясь, она обвела камеру изумленным взглядом и милым голоском запела:
– Kalatschen, meine Herren, bitte, Kalatschen! (Калачиков, мои господа, пожалуйста, калачиков!) – И откинула с корзины салфетку.
«Калачиками» оказались разные сдобные булочки, рогульки и коржики. Деньги у заключенных имелись, и корзинка у девушки быстро опустела. На следующее утро наша милая «калашница» явилась снова и снова завела свою чудную песенку:
– Калачиков, мои господа, пожалуйста, калачиков! – И снова ушла с пустой корзинкой и полной выручкой. И так продолжалось каждый день, пока мы находились в этой тюрьме. Девушка из булочной кое-кого из нас уже знала по именам. Иногда она говорила:
– Калачиков, мои господа, калачиков! Господин Реслер, калачиков!
И слышать это несимпатичное имя из уст такой чистой хорошенькой девушки мне было неприятно.
Допуск к нам девушки с булочками мы расценили как добрый жест славянина обер-лейтенанта Матейко.
Но в нашей камере был случай, когда он на нас мог и рассердиться. Какой-то солдат принес и пустил к нам в камеру небольшую собачонку. Мы обрадовались, и так как собачонка была курносая, а обер-лейтенант тоже, мы дали ей кличку Матейко. И вот как-то раз вечером обер-лейтенант заглянул к нам в камеру. Увидев незнакомого человека, собачонка набросилась на своего тезку со свирепым лаем.
– Тихо, Матейко, назад! – закричал, забывшись, ближайший к двери заключенный и схватил пса за шкирку. Офицер все понял, нахмурился, сердито посмотрел на всех и приказал сейчас же убрать собаку из камеры, затем молча вышел.
Охранявшие нас солдаты были по большей части чехи. Нередко вечером они заходили к нам в камеру и знакомились с нами. Выяснив, что среди заключенных есть медики, просили у них совета, как сделать не очень вредное снадобье, приняв которое, можно обмануть медицинскую комиссию насчет здоровья и избежать отправки на фронт. Все они были убеждены, что русские наскоро разобьют австрийцев и скоро будут здесь, в Эгере, и просили нас, когда придут сюда казаки, чтобы они ненароком не изрубили их, приняв по форме за австрийцев.
Дрозендорф
С начала ноября 1914 года нам объявили об отправке из этого богемского городка на германской границе в глубь Австрии. И вот наши вещи сложены на подводы, и мы стоим, построенные перед тюрьмой близ собора, и ждем команды к отправлению. Возле нас топчутся человек двенадцать солдат – наш конвой. Мы видим, как перед нами откуда-то возник невзрачный старикашка с бакенбардами под Франца Иосифа и начал нас ругать, выкрикивать угрозы и плеваться. К нему подошли два солдата из нашего конвоя, сказали ему что-то и отвели его за угол собора. Вернувшись через минуту, они сказали стоявшему на фланге заключенному:
– Это шваб, мы дали ему пару раз, больше он не будет ругаться.
Мы поняли, что старик был австриец, а солдаты – чехи.
Но вот вышел Матейко с портфелем, отдал команду, и мы отправились в путь. На вокзале мы заняли указанный нам вагон третьего класса. Внутри нашего вагона возле окон уселось несколько конвойных. В тамбурах вагона тоже встало по конвойному.
Около полудня поезд подкатил к маленькой станции с названием Дрозендорф. Невдалеке краснел под горой крышами и кирхой маленький городок, а повыше него на горе белели стены и высилась другая кирха другого маленького городка. И хотя в общем это было одно целое, но, как мы потом узнали, назывались они по-разному: верхний назывался просто «город», а нижний с добавлением – «Старый город Дрозендорф». Здесь был конец железнодорожной ветки, и поезд дальше не шел.
Мы сложили вещи в приготовленные повозки, нас построили и повели мимо городка, мимо небольшого леска справа и кладбища с белой стеной слева. За леском мы увидели холм, а на нем какое-то большое странное строение. С дороги мы повернули к нему и, миновав проход в колючей проволоке, остановились в ста метрах от него.
Это было прямоугольное двухэтажное каменное здание со старой почерневшей черепичной крышей и с небольшими квадратными окнами, в которых виднелись толстые железные решетки.
Возле здания ходили какие-то фигуры, некоторые из них кутались в тонкие пестрые одеяла. Все мы порядком приуныли.
К нам подошел Матейко. Некоторые спросили его, останется ли он служить здесь, чего нам очень хотелось. Обер-лейтенант ответил, что не останется. Сдав нас по списку коменданту этого нового места заключения, он пожелал нам благополучия и вместе со своими солдатами ушел в город.
Новое начальство приказало нам размещаться в первом этаже на кирпичном полу вдоль стен. Снова нам выдали по охапке ржаной соломы, и мы устроились бок о бок, как снопы. Стали знакомиться с находящимися здесь старожилами. С первых же слов они стали жаловаться на «менаж», то есть на питание. И действительно, на ужин нам дали какой-то невкусной кукурузной каши.
Наше помещение изнутри представляло собой сплошное, в половину здания пространство с деревянным, из широких дубовых досок потолком, который посередине подпирали толстые, фигурно обтесанные дубовые столбы. Стены здания были в метр или более толщиной, а под каждым окном до самого пола была глубокая ниша. В углу против входа стояла параша – половина разрезанной надвое большой деревянной бочки с ушками из толстых железных прутьев. Днем можно было выходить из этого помещения на воздух, но с девяти вечера оно запиралось. Около восьмидесяти человек заключенных должны были пользоваться парашей, и от этого в помещении, освещенном небольшой керосиновой лампой, стояли невыносимая вонь и духота.
Мы узнали, что это здание построено в Средние века и долго служило хранилищем зерна, почему и называется «шюттенкастен», то есть «ссыпной амбар».
Менаж здесь был гораздо хуже, чем в Эгере. Хлеб был худшего качества, и каравай разрезался не на двоих, а на четверых; суп с мясом готовился не ежедневно, как там, а только два раза в неделю, в четверг и воскресенье.
Выше я упустил сказать, что, еще находясь в эгерской тюрьме, я написал в Карлсбад моему другу Францу Лерлу о своем местонахождении и положении и вскоре получил от него объемистую посылку с грубым шерстяным одеялом, простыней и парой теплого белья. В приложенном письме он ободрял меня и передавал привет от сослуживцев. Спрашивал меня, не нужно ли мне еще чего-нибудь.
Славный, добрый Франц! Как-то сложилась его судьба?..
Смешение языков и наречий
В этом огромном душном помещении первого этажа амбара уже до нас было множество народа разных национальностей. Здесь были сербы и черногорцы, поляки и финны, татары и грузины, были албанцы и турки сербскоподданные, были англичане, французы, бельгийцы, индийцы – английские подданные и даже один средних лет японец мистер Кидо.
Недели через три после нашего прибытия сюда пригнали человек сорок английских и французских негров – матросов с торговых судов, молодых и уже довольно пожилых. Один из негров был уже порядком седой, но прямой и стройный, хорошо одетый, в шляпе-котелке, явный интеллигент. Оказалось, он работал преподавателем иностранных языков в каком-то институте в Вене. Он ежедневно тщательно брился, умывался, затем просил у меня щетку и чистил ею свой костюм и пальто. Возвращая ее, он благодарил, называя меня «герр коллега».
Однажды он не успел мне ее вернуть, и ее у него украли. Я помню, с каким отчаянием он сообщил мне об этом и с каким сожалением он извинялся передо мной. И хотя щетка была мне дорога как подарок брата и была отделана карельской березой, мне пришлось долго успокаивать этого деликатного человека.
Но я забежал немного вперед. После того как прибывших негров, которых я видел впервые в такой массе, продержали некоторое время под дождем и холодным ветром, пока пересчитывали и принимали, их впустили в помещение и они стали размещаться. Я был последним в своем ряду, а далее следовали пустые места, поэтому рядом с моим местом положил свой мешок высокий, статный, не очень молодой негр. Когда вечером, ложась спать, он разделся и растянулся рядом со мной, я подивился его черному скуластому лицу с приплюснутым носом и толстыми губами, но еще больше подивился, что его белая рубашка не пачкается об его черное, как сажа, тело, хотя понимал, что оно черное не от сажи, а от природы. Мистер Беклес – так звали моего соседа – посмотрел на меня и вдруг спросил по-русски:
– Хозяйка, сколько стоит курица? – и сам себе ответил женским голосом: – Полтинник, батюшка. Хочешь тридцать копеек? – произнес он опять своим голосом.
– Вы говорите по-русски? – обрадовался я. Но по-русски он больше ничего не говорил, а эти две фразы выучился говорить, побывав на базаре в Одессе, куда приходил на судне за грузом.
В эту ночь в связи с прибытием негров русский студент Карпов разбил мне своей миской голову.
Произошло это так. Слева рядом со мной лежал русский – вечный студент Георгий Продайко. Он начал подтрунивать надо мной, говоря о неграх, что это не люди, а черти и что ночью они устроят жуткий шабаш.
– Бросьте шутить, – смеялся я.
– А вот я тебя разбужу, когда начнется, – пообещал Продайко, и мы уснули.
Вдруг Продайко разбудил меня и зашептал:
– Закрой рот, а то мышь вбежит, они их целую стаю выпустили.
Я тихонько хихикнул. В это время человек через десять от меня один из негров загремел какой-то железной посудиной, о которую тотчас зажурчала струя.
– Слышишь, слышишь, начинается! – зашептал Продайко. Я захихикал погромче и услышал возле головы шевеление железа. Продайко продолжал меня смешить, а я хихикать. И вдруг чем-то тяжелым меня сильно ударило по голове. Я потерял сознание. Очнулся, ощупал голову, она была в крови.
– Это ты меня, Карпов? – спросил я спавшего со мной голова в голову соседа другого ряда.
– Молчи! – зашептал Продайко уже всерьез. – А то он тебя до смерти убьет.
Я снова уснул, а утром проснулся с залитой кровью головой и лицом. Кровь была на руках и на рубашке. Товарищи, узнав, что меня ударил Карпов, с возмущением объявили ему на неделю бойкот, а доктор еврей Сигалевич начал промывать и перевязывать мне рану. О случившемся узнали товарищи со второго этажа, и один из них, тоже вечный студент-агроном Сергей Иванович Крестьянинов, бросился разыскивать вышедшего уже из помещения умываться Карпова, а найдя, крикнул ему три раза: «Сволочь! Сволочь! Сволочь!» – и так расстроился, что бросился на свою солому и пролежал до обеда. Бойкот Карпову был выдержан строго. Целую неделю с ним никто не говорил.
Свой безобразный поступок со мной Карпов объяснял тем, что у него в эту ночь сильно болели зубы и он с трудом заснул. Но тут его разбудило мое хихиканье, и он в ярости ударил меня без всякого предупреждения.
– Жаль, что не попалось под руку ничего потяжелее, я бы его насмерть убил, – зло заключил он.
В то время я выглядел моложе своих девятнадцати лет и со своим нежным, как у девушки, лицом казался совсем подростком, единственным таким юным среди заключенных, поэтому все относились ко мне с большой симпатией.
Приметил меня и наш лагерный переводчик, добрейший ворчун господин Алоиз Фильгур. Это был русский подданный, еврей средних лет, высокого роста и весьма представительного вида, которому не шли его гнусавый голос и нежное овальное лицо с маленькими глазками, маленьким, с горбинкой носом и совсем маленьким круглым сочным ротиком. Он был музыкант, мог играть на скрипке, но главным его инструментом был саксофон. Он ходил в длинном пальто и в хорошо вычищенной шляпе-котелке.
– Ну, хочешь работать в ресторане здесь, в городе? Ну? – как-то обратился он ко мне. – Там тебе будет хорошо, будешь там помогать хозяину, ну?
Я ответил согласием и на другой же день, почистившись, явился в караульное помещение, где мне был выделен конвойный и было сказано, что вечером он же придет и заберет меня из ресторана.
В трактире «У Золотого Ягненка»
Конвойный привел меня на маленькую городскую площадь с кирхой и фонтаном посередине. Кругом виднелись старинные двух– и трехэтажные дома, а на них вывески магазинов и гастхаузов, то есть небольших трактиров в первом этаже и с пятью-шестью комнатками для приезжающих во втором.
В один такой маленький трактир-гостиницу, с висящим над входом вырезанным из железа и покрашенным золотистой краской барашком и вывеской со словами «Gasthaus zum Goldenen Lamm» и именем хозяина заведения «Фердинанд Файлер», и привел меня солдат.
Герр Фердинанд Файлер был средних лет, тщедушного вида, подслеповатый, в толстых очках австриец. Он был лет сорока, но за полной непригодностью к военной службе не был призван в армию и спокойно вел свой Geschaeft. Его жена фрау Файлер была полноватая подвижная женщина и отличная хозяйка. Она одна управлялась на кухне, и дело хорошо спорилось у нее в руках.
Мой конвойный, сказав, что придет за мной вечером, ушел в лагерь. Хозяйка, узнав, как меня зовут, тотчас накормила меня гуляшом из телятины и налила кружку кофе с молоком, чего я уже давно не ел и не пил. Когда я управился с едой, хозяин объяснил мне мои обязанности. До прихода посетителей, то есть до середины дня, я должен был мыть пустые винные бутылки и другую посуду и убирать помещения трактира, а после обеда до вечера прислуживать посетителям, то есть подавать им напитки и кушанья и убирать со столов посуду и мыть ее на кухне. Посетителей было немного.
Я не скажу, чтобы мне очень нравилась эта моя работа. Мне было скучно без моих товарищей по лагерю и неприятно было слушать насмешки и похвальбу австрийцев разбить Россию.
Запомнился такой случай. Один солдат из караульной команды, придя однажды в трактир, стал показывать за столом своим товарищам нанизанных на нитку с десяток вшей. Вши были крупные, живые и ползали по столу, таща нитку в разные стороны, а солдаты смеялись и говорили:
– Вот так русские вши!
Оказалось, что солдат-весельчак наловил их на одеялах, которые заключенные вывешивали во дворе, чтобы хоть как-то избавиться от этих паразитов. Замечу, что морозы в ту зиму достигали в Австрии минус пятнадцать градусов и австрийцы говорили, что это «русские морозы».