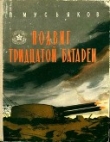Текст книги "Дорога к подполью"
Автор книги: Евгения Мельник
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 25 страниц)
Как-то я познакомилась с мужем Ольги – Сергеем, приезжавшим по субботам из Сарабуза. Высокий, худощавый, со впалыми щеками и выражением суровой непреклонности в светло-серых глазах, Сергей казался мне решительным человеком, который никогда не сойдет с однажды выбранного пути, не отступит перед любой опасностью. Вот только суровость являлась не основной, а временной чертой характера Сергея. Суровость, ненависть и жажда мести, порожденные войной, были в то время свойственны многим, даже самым добрым, мягким и незлобивым людям.
Почти все, о чем я хочу сейчас рассказать, стало мне известно от Ольги и Сергея лишь после освобождения.
До войны Сергей работал начальником учебно-спортивного отдела общества «Пищевик», а Ольга – бухгалтером на базе «Динамо». Когда началась война, Сергея призвали на бронепоезд «Смерть фашизму». Он командовал пулеметным расчетом. На Перекопе бронепоезд участвовал в боях за бромзавод, поддерживая контратаки нашей пехоты.
Ольга с девятилетней Галочкой очень хотела эвакуироваться, но в Симферополе ее удерживала работа. А потом оказалось, что дороги уже отрезаны. Тщетно металась Ольга по вокзалу в надежде на какой-нибудь поезд: эвакуироваться было уже поздно.
Направляясь в Севастополь, бронепоезд, на котором находился Сергей, попал под Альмой в засаду. Фашистский танк прямой наводкой расстрелял паровоз: котлы взорвались, команда пустила поезд под откос. Бойцов, рассыпавшихся по кустам, гитлеровские самолеты расстреливали с бреющего полета. Оставшихся в живых окружили немецкие автоматчики и пригнали в Симферополь, в гостиницу «Европейская», откуда Сергей сбежал через окно. Спустя несколько дней его забрали из дома и засадили в «Картофельный городок». Потом перевели в тюрьму, а из тюрьмы по этапу отправили в лагерь на Перекопе.
В первые же дни плена Сергей задумал побег и стал подговаривать трех товарищей, в числе которых находился и Колдун, впоследствии работавший в подпольной организации и погибший в застенках гестапо.
В конце декабря им удалось бежать. Шли полем на Симферополь. А в это время по заснеженной дороге, направляясь к Перекопу, пять женщин и старик тянули по очереди санки, груженные продуктами и одеждой, предназначенными для побега военнопленных из лагеря. Среди женщин была и Ольга. Всю дорогу прошли пешком по колено в снегу.
Узнав о том, что Сергей с товарищами бежал, Ольга бродила у ворот лагеря, пытаясь передать кому-нибудь из пленных продукты, принесенные для Сергея. В это время гитлеровцы вывели за ворота человек двести мужчин, выстроили их и приказали стоявшим впереди снять обувь и плясать, а остальным петь «Интернационал». Поднялись крики, послышалась ругань, посыпались удары прикладами. Толпа запела, но не «Интернационал», а веселую украинскую плясовую, и десять босых мужчин заплясали на снегу. Если кто-нибудь останавливался, палачи его колотили до тех пор, пока он снова не начинал плясать. Гитлеровцы гоготали. У Ольги из глаз покатились слезы. Часовой обернулся к ней и сказал:
– Чего плачешь? Это юды.
– А разве «юды» не люди? – ответила Ольга. – У нас все люди одинаковы.
Часовой зло поглядел на нее и отвернулся. Натешившись, гитлеровцы стали прикладами загонять людей в подвалы зданий, стоявших рядом с лагерем. Ольга сжала кулаки и поклялась себе бороться с проклятыми врагами всем, чем только сможет.
Вернувшись в Симферополь, она застала Сергея дома. Долго он не имел документов и жил, скрываясь от облав. Потом поступил чернорабочим на розовые плантации и получил аусвайс.
Сначала Ольга и несколько женщин, организованных ею, занимались тем, что готовили суп и носили его к территории «Картофельного городка», где находились военнопленные. Несмотря на ругань и побои, порою с опасностью для жизни, они передавали этот суп и куски хлеба умиравшим от голода людям. Не всегда это удавалось. Ольга не раз была свидетельницей дикой расправы, когда пленные обливались кровью за попытку взять у женщин еду.
Несколько слов следует сказать о так называемом «Картофельном городке», находившемся на окраине Симферополя. Раньше в подвалах, занимавших большую площадь, хранился картофель. Гитлеровцы устроили здесь лагерь военнопленных, самый большой и самый известный в Крыму своей дурной славой.
Иногда лагерные власти принимали от населения пищу для военнопленных и опять устраивали издевательское «представление». Выкатывали к воротам большие бочки и в них лили и бросали все без разбора: суп, борщ, сырые овощи, кашу, хлеб…
Жестокость гитлеровцев согнала сюда почти всех мужчин города Ялты. Как известно, Ялта находится на Южном берегу Крыма, за грядой гор, и не имеет по соседству хлебных районов. Голод в Крыму прежде всего свил себе гнездо на южном побережье. Жители с тачками ходили через перевал «на обмен» в степные районы Крыма. Зимой многие замерзали по дороге. И вот гитлеровцы объявили, что, ввиду тяжелого продовольственного положения в Ялте, они организуют массовый поход для обмена вещей на продукты. Был дан приказ о явке на сборный пункт всех мужчин. Затем их повели через перевал в Симферополь и загнали в «Картофельный городок», где большинство погибло от голода и зимней стужи, так как подвалов не хватало и люди находились под открытым небом.
Огромные ямы, куда гитлеровцы ежедневно свозили сотни трупов, не засыпались до тех пор, пока не бывали наполнены.
Как-то Сергей встретился с инженером Григоровым – своим старым знакомым, членом партии. Узнав, что Сергей бежал из лагеря, Григоров пригласил его к себе домой. Вскоре Сергей вступил в подпольную организацию Григорова, которая занималась вредительством, агитационной работой с распространением листовок, писанных от руки. Кроме Сергея, вся организация состояла из инженеров.
Ольга записывала сводки Совинформбюро. Для этой цели она постаралась завязать «добрососедские» отношения с зондерфюрером и его сожительницей. Они часто уходили из дома, а Ольга, предложив свою помощь по хозяйству, оставалась одна в квартире, надевала наушники, включала приемник и записывала сводку.
В январе 1943 года, преданные провокатором, все члены организации Григорова, кроме Сергея, были арестованы. Сразу же после ареста они из тюрьмы передали Сергею, чтобы он немедленно скрылся. Сергей уехал в Сарабуз и через знакомого устроился на зерновом складе, а затем стал весовщиком.
В мае 1943 года всех членов организации Григорова освободили «за недоказанностью преступления». Их спасли мужество, стойкость и спаянность: они говорили одно и то же, отрицая существование организации и свое участие в работе подполья. После освобождения из гестапо Григоров с женой немедленно бежали в лес, в Северное соединение партизан.
Сергей в Сарабузе встретился со знакомым – бывшим инструктором физкультуры, имевшим какую-то тайную связь с Симферополем, откуда он привозил газеты и листовки. Сергей стал вместе с ним работать. Быстро сколотилась группа патриотов, занимавшихся агитацией и распространением газет и листовок, источник появления которых оставался для Сергея неизвестным. А в это время Ольга в Симферополе завязала связь с партизанским разведчиком Германом Тайшиным, хорошо знакомым семье Шевченко еще по работе на железной дороге.
С помощью актива советских патриоток Ольга организовывала побеги военнопленных из лагерей, и переправляла бежавших с Германом в лес.
Осенью 1943 года ей удалось связаться с руководителем подпольной группы сапожником по кличке «Фунель» и через него – с Иваном Андреевичем Козловым, возглавившим с конца октября 1943 года все симферопольское подполье.
Этот период оказался особо тяжелым для Ольги: у знакомых женщин скрывались двое военнопленных. Один из них был смертник – комиссар Подскребов, умудрившийся бежать со двора гестапо. Подскребова приходилось часто переводить из одной квартиры в другую. Долгое время он скрывался у Ольги. Это было очень опасно и для него и для нее.
Ольга попробовала укрыть Подскребова в подвале дома, где жили родные Сергея. Но однажды, зайдя в этот подвал, она заметила, что Подскребов, сидя в углу, от кого-то отмахивался, и к своему ужасу увидела больших жирных крыс, наступавших на человека. Ольга немедленно забрала Подскребова снова к себе, решив не ждать прихода Германа и поискать других путей переброски в лес.
Волновались пленные, волновались и те, кто их скрывал: женщины прибегали к Ольге и умоляли поспешить. Нервничал Подскребов, измученный и затравленный бесконечным преследованием. Но (не меньше всех терзалась Ольга. Дав обещание переправить людей в лес, она теперь чувствовала себя морально ответственной за их жизни. Кроме того, Ольга привыкла держать свое слово, а теперь получалось так, будто она всех обманывает.
Расстроенная Ольга как-то шла по улице и встретила сапожника Колдуна. Иногда он к ней заходил и давал прочесть листовку или газету.
«Не поможет ли мне в этом деле Колдун?» – подумала Ольга и остановила его. Рассказав обо всем, она закончила словами:
– Я жду человека из леса, а его все нет. Колдун молча выслушал и сказал:
– Идем, я тебе помогу.
Каково же было удивление Ольги, когда в человеке, к которому привел ее Колдун, она узнала знакомого ей и Сергею сапожника Григорьева. Тут выяснилось, что и Сергей в Сарабузе получает от Григорьева литературу и Герман Тайшин связан с ним, как с руководителем подпольной группы, известным под кличкой «Фунель».
Вскоре комиссара Подскребова и других военнопленных отправили в лес. Хорошо воевал Подскребов, но погиб в бою во время большого прочеса. Ольга глубоко о нем сожалела.
Подскребов оказался хорошим знакомым Ивана Андреевича Козлова, с которым Ольга познакомилась через «Фунеля», и сделалась его связной и ближайшей помощницей.
Комсомольцы молодежной группы во главе с Анатолием Косухиным доставляли литературу и мины из леса на свои базы, а затем – меньшими партиями – на конспиративные квартиры. Ольга забирала все это с конспиративных квартир и разносила руководителям подпольных групп. Она обкладывалась литературой так, что едва могла повернуться, и шла будто в картонном корсете.
Услышав от Ольги о работе Сергея в Сарабузе, Иван Андреевич попросил пригласить Сергея к нему.
Сергей, переживший провал организации Григорова, происшедший из-за провокатора, проникшего в ряды подпольщиков, был теперь очень осторожен. Он даже возмущался обширным знакомством Ольги чуть ли не со всем советским активом Симферополя. И когда Ольга сообщила Сергею о своем новом знакомстве с руководителем подполья, Сергей отнесся к ее словам недоверчиво.
– Ты, кажется, нарвешься на провокатора, – отчитывал он жену, однако к Ивану Андреевичу пошел.
В первый момент, увидев голубые глаза и рыжеватые волосы Козлова, Сергей подумал: «Ну, конечно, переодетый немец и провокатор. Вляпалась Ольга!»
Но в ходе разговора с Иваном Андреевичем, когда Сергей старался поменьше говорить, но побольше слушать и замечать, его подозрения быстро растаяли.
Иван Андреевич поручил Сергею организовать диверсионную группу на станции Сарабуз. Люди у Сергея уже были и горели желанием настоящего серьезного дела. Сергей очень удачно построил свою организацию, гестаповцы так и не смогли найти к ней пути. Подпольщики диверсионной группы Шевченко минировали и взрывали поезда, выводили из строя паровозы и вагоны, поджигали горючее, которое немцы подвозили к сарабузскому аэродрому. Группа Сергея работала непрерывно, и все ее члены остались живы.
Люди нашей столовой и подпольная работаВначале Ольга давала мне газету «Красный Крым», печатавшуюся в лесу, листовки на русском языке, изредка центральные газеты «Известия» и «Правду», которые доставлялись в лес на самолетах. Получив драгоценную пачку и запихнув ее под ватник, я, словно на крыльях, неслась в столовую, чувствуя себя именинницей. Часть газет и листовок раздавала там – прежде всего Ивану Ивановичу и Муре Артюховой, затем буфетчице Марии Васильевне, калькулятору Нате, кассирше, официанткам и кладовщику Белкину. Им разрешалось в свою очередь дать литературу знакомым, которым они доверяли. Мура Артюхова никогда не ограничивалась одним экземпляром и выпрашивала несколько. У нее была связь с обувной фарбикой им. Ильича, где работал ее муж. Мура приводила множество аргументов: люди ждут, люди жаждут газет и листовок, любого печатного слова Родины.
Разумеется, я давала газеты и листовки только тем, кому вполне доверяла, главное, чтобы люди умели молчать. Надо было соблюдать осторожность и обходить языкастых, легкомысленных, они могли провалить все дело случайно, без злого умысла. А ведь даже за одну листовку или газету пытали и убивали в гестапо.
Изредка у Ивана Ивановича и Муры появлялись листовки, которых не было у меня. Откуда они их брали? Это меня не касалось, но я кое о чем догадывалась.
Устная агитация среди народа и распространение газет и листовок делали свое дело. Люди передавали друг другу вести, которые зажигали в исстрадавшихся душах надежду, вызывали восхищение героизмом советских воинов.
Ходили в народе слухи, которые превращались в легенды. Говорили, например, что когда немцы потопили под Керчью, в другом варианте – под Севастополем, наш военный корабль, то офицеры и матросы, выстроившись на палубе, пели «Интернационал», пока не погрузились вместе с кораблем в морскую пучину.
– В Инкермане, – рассказывала мне одна девушка, которая там жила, – по ночам выходят из глубины взорванной горы, где были каменоломни, четыре краснофлотца в черных бушлатах и бескозырках с ленточками. Они бродят везде и поют советские песни. Многие слышали пение, а некоторые даже видели темные силуэты моряков…
На мой вопрос: «Как же они остались живы и вышли оттуда?» – девушка ответила:
– В щели обвала просачивался воздух, меж камнями пробивался родничок, а продуктов оставалось много. Целый год краснофлотцы долбили скалу ножами, – говорила девушка, – пока не прорубили выход.
Они очень долго находились в темноте и теперь не могут смотреть на дневной свет…
Девушка верила в эту легенду, и мне хотелось верить: нет, не погибли, остались живы в недрах горы мужественные краснофлотцы, и по ночам над истерзанной, пропитанной кровью землей Инкермана, нарушая гнетущую тишину, разносятся песни непокоренных моряков!
Варианты этой легенды и сейчас рассказывают в Севастополе. Но, может быть, то не легенда, а быль?
О слухах плохих люди говорили возмущенно и презрительно: «Вот, мол, какую брехню распространяют проклятые фашисты!».
Мы с Иваном Ивановичем вели постоянные беседы на политические и военные темы и прежде всего о действиях Красной Армии на фронте.
Иван Иванович был человеком оригинальным. С тринадцати лет он служил во флоте (тогда еще царском) и, надо сказать, изрядно «украсился» татуировкой. Черты лица имел правильные, тонкие, рост высокий. Несмотря на то, что всю жизнь работал коком, был очень худым. Характером обладал властным, любил высказывать правду в глаза. Даже друзьям подчас говорил пренеприятные вещи, а уж врагам доставалось – не приведи бог!
Каждый день он кормил в столовой кого-то из своих многочисленных приятелей, которые систематически его посещали. Часто снимал фартук и просил меня: «Посмотри, пожалуйста, за кухней и распорядись, а я пойду посижу немного с другом».
Наблюдая за ним, я думала: нет, друзья Ивана Ивановича – не просто друзья. Сядут они за столиком у окошка и о чем-то тихо и оживленно говорят, заговорятся так, что и поесть некогда, все на тарелках застынет. А когда уйдет такой друг, Иван Иванович вернется к стойке и тихо скажет мне, перебирая чеки:
– Говорят, Киев наши уже взяли.
Иван Иванович любил выпить, но всегда знал, меру и не терял твердой памяти и здравого рассудка. Говорил удивительно красиво и увлекательно, хотя и пересыпал речь словами, которых не выдержит бумага. Собственно, слово «говорил» не совсем подходит, надо сказать «травил», что на морском жаргоне означает нечто среднее между враньем и фантазией.
А фантазией Иван Иванович обладал богатой, и, когда был в ударе, речь его лилась беспрерывным потоком. Мы все часто заслушивались его рассказами, но я одна имела счастье узнать от него совсем уж необычные истории. Бывало, все разойдутся с работы, а мы с Иваном Ивановичем пересядем к маленькому столику возле окна – и начинается: он с увлечением «травит», а я делаю вид, что верю.
– Они подняли винтовки и прицелились, – рассказывает Иван Иванович, дойдя до самого страшного места, – ждут команды офицера, а я рванул рубашку, раскрыл грудь и крикнул… – Иван Иванович вскакивает, гордо вскидывает голову. – Стреляйте, фашистские гады, если можете! И гады не могли… Эти слабонервные гады не выдерживали и опускали винтовки…
Таков был один из вариантов спасения Ивана Ивановича от неоднократных расстрелов. Я попеременно пугаюсь, восторгаюсь, поражаюсь, в зависимости от требований рассказа. Наконец, доведя себя до высшей степени восхищения собственным величием и храбростью, Иван Иванович принимает гордую позу римского патриция и говорит внушительно, медленно и раздельно: – Когда-нибудь ты узнаешь, с кем имеешь дело. Но мне не приходится долго ждать. – Я ад-ми-рал!
Минутное молчание… Нельзя же так огорошить человека. Я поражена! Затем с моей стороны следует поток восточно-льстивых слов. Иван Иванович снисходительно принимает знаки почтения. Но в это время оба замечаем: начинает темнеть и близок комендантский час. Представление окончено. «Адмирал» и его слушательница снова превращаются в повара и марочницу, берутся за судки, сумки с углем и спешат по домам.
В следующий раз Иван Иванович «травить» будет «из другой оперы» и начисто забудет о предыдущей. Но надо сказать, что в обыденной жизни Иван Иванович не лгал. Скетчи, которые мы иногда с ним разыгрывали, отвлекали нас от суровой действительности, хотя бы на пятнадцать-двадцать минут.
Я и не подозревала, что высокий, плечистый мужчина, частый посетитель нашей столовой и большой приятель официантки Муры Артюховой, – подпольщик. Мура, как никто, умела молчать и хранить свои и чужие тайны. Она обо всем мне рассказала только после его трагической гибели, и обидно, что это случилось перед самым концом гитлеровской оккупации.
Был схвачен его брат. Друг Муры пошел в гестапо и пытался спасти брата, предлагая выкуп. Там согласились и назначили большую сумму. Родственники и друзья помогли собрать много ценных вещей. Гестаповцы взяли вещи, арестовали самого друга Муры и всю его семью. Впоследствии, когда вскрывались братские могилы расстрелянных и замученных в гестапо, он был найден лежащим сверху с распростертыми руками – как бы охватывая объятием всех своих близких: брата, жену, двенадцатилетнюю девочку и старуху-мать.
У Муры были две хорошенькие дочери: одна родная, а другая приемная. Спасая от угона в Германию старшую, приемную дочь, Артюхова скрыла ее в прилесной деревне, где хозяйничали партизаны, а потом девушка ушла с ними в лес. Другая дочь, младшая, жила с матерью.
Мура была доброй, самоотверженной и храброй женщиной, готовой помочь каждому советскому человеку. Но помогать она старалась незаметно и тихо. Скромность – вот ее отличительное качество. И когда я думаю об идеальном типе русской женщины, передо мной встает образ Муры Артюховой.
– Однажды она пришла в столовую внешне спокойная, но бледная.
– Что с тобой? – спросила я.
– Расклеивала по городу листовки, – ответила она, – и не за себя боялась, а за дочь. Ты же знаешь, что с ней сделают, если меня поймают. Я уверена в дочери, она никого не выдаст, но страшно думать…
И я задумалась. Как себя должна чувствовать мать, которая приносит в жертву своего единственного ребенка!
После освобождения я узнала, что Мура была связана с группой печатников.
Мне не раз приходилось слышать впоследствии от некоторых людей такие слова: «Я не мог работать в подпольной организации, у меня семья, я слишком ее любил и не имел права приносить в жертву». Я этих малодушных людей никогда не оправдывала, потому что знала других: Муру Артюхову, Ольгу Шевченко, имевшую единственную двенадцатилетнюю, горячо любимую дочь, которая помогала ей переносить мины, Вячеслава Юрковского, Нюсю Овечкину с тремя маленькими детьми и матерью и многих других.
Ходили слухи, что в Симферополе с первого дня немецкой оккупации создавались различные подпольные группы и организации. Многие работавшие в них люди погибали в застенках гестапо, но их место занимали другие. Пытки, казни, грозные приказы, расстрелы за одну листовку или газету не тушили пожара. Советские люди продолжали борьбу…
После работы я спешила разнести литературу своим знакомым, в том числе матери Юрковского и Поморцевой.
Домой обычно шла вместе с Женей, который вторую половину дня проводил со мной в столовой. Он часто помогал нести судки с обедом, так как я нагружалась углем и перегаром. До комендантского часа оставалось мало времени, за один вечер я не могла успеть разнести литературу и большую ее часть приносила домой. Мы отгораживались от внешнего мира ставнями и замками, мама с жадностью набрасывалась на газеты и листовки Садились за стол и при свете маленькой керосиновой лампочки предавались чтению. Прежде всего сводки Совинформбюро. Первые же слова приносили радость: наши войска победоносно наступают! Газеты прочитывались, как говорится, «от корки до корки» – начиная с передовой статьи в центральных газетах и кончая театральными объявлениями.
Мама никогда не спрашивала, откуда я приношу литературу, и не задавала никаких вопросов, не выражала беспокойства, прекрасно понимая, что я имею какие-то тайные связи. При виде литературы ее глаза загорались радостью, но зачастую я ловила на себе мамин взгляд, полный тайной тревоги.
Иногда Ольга приходила ко мне в столовую. Она говорила, что ей запрещают это делать, так как столовая слишком людное место, посещаемое гитлеровцами, но все же приходила. В темном корироде происходила быстрая передача литературы из одной пазухи в другую. Затянув потуже ватник, я целый день ходила по столовой, пригревая на груди пачку новеньких листовок и газет.
Однажды Ольга и мама пришли в столовую одновременно. Я попросила маму подождать и вышла в коридор с Ольгой. Отлично зная наблюдательность мамы и ее любопытство, я ждала вопроса: «Что это за женщина и какие у тебя с ней дела?» Но мама не сказала ни слова. И только после освобождения, когда я впервые произнесла имя Ольги, мама спросила:
– Кто это Ольга? Наверное, с ней я встретилась тогда в столовой?
Калькуляторша Ната, та самая Ната, которая первой поняла, что я человек свой, отличалась добрым, хорошим характером. У нее, украинки по национальности, была прелестная пятилетняя дочка от мужа-еврея. С ним она разошлась еще до войны, а сейчас он служил в армии. Когда пришли немцы, Ната переехала в другой конец города, где ее никто не знал, но все время боялась за жизнь дочки.
Однажды в ее дверь сильно постучали. Ната открыла и обомлела: на пороге стоял высокий немец в черной одежде, а у крыльца пофыркивала такая же черная машина-душегубка. Первые двери душегубки были открыты, за ними виднелся тамбур и массивные вторые двери. На подножке машины сидел другой немец, тоже в черном. Ната думала, что приехали за ее дочкой. Она давно решила идти на смерть вместе с нею, и теперь не сразу поняла, что палач ищет кого-то другого. Фашист спрашивал соседку-еврейку..
– Ее в нашем доме нет, она давно куда-то уехала, – ответила, наконец, Ната.
Так в вечном страхе, не зная ни днем, ни ночью покоя, прожила Ната три года гитлеровской оккупации. Я часто беседовала с ней, давала читать газеты и листовки. Случайно Ната познакомилась с одним румынским солдатом из части, стоявшей по соседству. Густав – так его звали – ненавидел гитлеровцев и Антонеску со всей его сворой и с нетерпением ждал прихода Красной Армии.
– Ты знаешь, – как-то сказала мне Ната, – Густав научился говорить по-русски, а вот читать не умеет, ему очень хотелось бы почитать листовку на румынском языке.
Я попросила у Ольги такую листовку и отдала Нате. На следующий день она сказала:
– Густав был в восторге, листовку двадцать раз перечитали все его товарищи.
Я снова отправилась к Ольге, и с тех пор получала от нее листовки на румынском языке.
– Часть листовок отдавай солдату, а остальные разбрасывай возле румынских частей. Только не клей, а разбрасывай, – говорила Ольга.
Я так и делала. С Густавом непосредственно не сталкивалась, действовала через Нату, которая поклялась мне в том, что никогда и никому не скажет, от кого получает листовки.
Ольга однажды спросила:
– Ты уверена в этом румынском солдате? Он не выдаст?
– Нет, – ответила я, – не уверена. Если не попадется, то не выдаст. Но если схватят гестаповцы и будут пытать? Однако надеюсь, что он не попадется, а если попадется, то не захочет выдать Нату.
– Ну смотри, будь осторожна! – предупредила Ольга.
Но Ольга, конечно, понимала, что если стремиться к полной безопасности и уходить от риска. – то это значит не вести никакой агитации, никому не давать ни одной газеты и листовки.
Нате я передала как-то большую пачку листовок и сказала:
– Двадцать штук для Густава. Пусть раздаст своим товарищам и предупредит, чтобы соблюдали большую осторожность. Остальные положи в их уборной, в ящик для бумаги, ты ведь бываешь в части. Не побоишься?
– Положу, в этом дворе ходит разный народ, не подумают на меня, – ответила Ната.
Однажды Ната сказала, что румыны очень хотят получить листовки с пропуском для сдачи в плен Красной Армии. Через несколько дней я достала для них и такие листовки.
Ната жила в одноэтажном домике, недалеко от трамвайного кольца, напротив гестапо, находившегося в бывшем студенческом городке. Рядом стояла румынская часть, где служил Густав.
После освобождения, когда Ната уже уехала из Крыма, я проходила однажды мимо ее дома и остановилась удивленная: почти рядом с парадной дверью ее квартиры, куда вели несколько ступенек крыльца, на стене появилась мемориальная доска. Она гласила, что во дворе этого дома находилась конспиративная квартира. Оказывается, мир тесен, и даже в таком маленьком доме, кроме Наты, жили и другие люди, боровшиеся за освобождение.
После работы мне предстояло разбросать листовки возле некоторых румынских подразделений. Из столовой вышли с маленьким Женей, и я повела его с собой, рассуждая так: Галка – ровесница нашего Жени – помогает Ольге переносить мины. Значит, и я должна закалять характер мальчика, воспитывать его патриотом, достойным своего отца.
Приближался комендантский час, но только начинало смеркаться. Белые листовки резко выделялись на земле.
«Черт возьми! – подумала я. – Газеты печатают на темной бумаге, а листовки на белой, лучше бы наоборот!..»
Поставив на землю сумки, я делала вид, что копаюсь в них, и тем временем рассыпала листовки. Женя наблюдал за окружающей обстановкой и нервничал.
– Мама, часовой увидит, – шептал он, – идем скорей отсюда!
Когда я разбрасывала листовки при выходе со двора Юзефы Григорьевны, где недавно разместилось румынское подразделение, пробегавший мимо ворот маленький татарчонок что-то заметил и остановился. Я вышла на улицу, загородив ворота сумками, в которых вместе с углем еще лежали листовки, стала долго и упорно копаться в них. Татарчонок не уходит. Тогда я принялась поправлять чулки, решив во что бы то ни стало заставить его уйти. Медлить было опасно, могли поймать с поличным. Надо скрыться как можно скорей. Но проклятый татарчонок тоже выжидал. Наконец у него кончилось терпение, и он удрал.
Несколько листовок я бросила возле дома, где жило много румын, остальные – у места расположения румынской части на улице Субхи, недалеко от нашего дома.
Иногда Женя тоже носил брошюры и листовки в судках или в своих карманах и нисколько не волновался. Но я понимала, что разбрасывание листовок и газет – опасное дело, и, боясь рисковать жизнью мальчика, перестала брать его с собой.
Так проходила зима с 1943 на 1944 год. Перекоп еще с осени был закрыт нашими войсками. В Керчи удерживал плацдарм высаженный там десант. Гитлеровцев захлопнули в мышеловке. Связь они имели только по морю и воздуху с Одессой и Констанцей, но эти коммуникации находились под угрозой наших кораблей, самолетов и подводных лодок. И на территории Крыма, в своем тылу, гитлеровцам приходилось беспрерывно вести войну. Фашисты жгли все прилесные деревни, не прекращали прочесов леса, бросали на борьбу с партизанами много войск, но война шла и в лесах, и в городах, на всех дорогах.
Немцы пытались вести лживую агитацию против партизан. На Пушкинской в витрине магазина выставили грязное белье и лохмотья с объяснением, что это «одежда партизан». Тут же поместили снимок с надписью: «Жидовка партизанка Дишарова». Но люди обращали внимание не на вшивую одежду, а, вглядываясь в снимок, замечали, что Дишарова вся распухла от побоев и едва стоит на ногах, поддерживаемая двумя гестаповцами. Продавалась по дешевке грязная книжонка «Дневник партизана», якобы найденная в кармане убитого. В книжонке оккупанты врали о том, что в партизаны вербуют насильственно, что партизаны – людоеды, питаются человеческим мясом, жаря его на кострах.
Однажды Ната пришла на работу очень встревоженная и сообщила мне: Густав рассказывал, что их водили смотреть зверски изуродованные трупы румын, которых посылали в лес за дровами. У убитых отрезаны уши, носы, вырезаны куски кожи. Немцы утверждают, что это дело рук партизан. Густав и его товарищи растеряны и очень расстроены.
Я стала с жаром убеждать Нату:
– Очередная гитлеровская провокация, обман и ложь! Сами изуродовали, а теперь валят на партизан. Убеди в этом Густава, и пусть он переубедит своих товарищей. Сама посуди: ведь ты знаешь, какую политику ведут наша армия и партизаны. Никаких зверств у нас не разрешается, а хорошим отношением к военнопленным мы действуем в, свою пользу.
Рано утром на другой день я пошла к Ольге и рассказала обо всем.
– Надо принять меры, – . сказала Ольга, – большинство румын мечтает о приходе Красной Армии, верит партизанам – и вдруг такая провокация!
Подпольная организация срочно отпечатала и распространила листовки, разоблачающие гнусную провокацию гитлеровцев.
Часто у Ольги не было литературы, и мне приходилось клянчить:
– Дай хоть что-нибудь, не могу я уйти с пустыми руками: меня заедят в столовой. Товарищи и так целыми днями грызут: принеси газеты, принеси листовки.
Особенно донимает кладовщик Белкин…
Бухгалтер по профессии, Белкин в первые дни оккупации работал сторожем. Его нервнобольную жену расстреляли немцы, так как она ходила по улицам и громко их проклинала. Белкин дрожал от ярости, когда говорил о фашистах, а между тем был человеком тихим, скромным, с очень мягким характером. Его всегда защищали повара, иначе «Степка» сожрал и пропил бы всю его кладовую. Маленький, худенький, слегка прихрамывающий на одну ногу, Белкин казался совсем беспомощным, а «Степка» вечно орал на него, как гитлеровский жандарм. Белкину я доверяла и понимала, почему он может целый день ходить за мной и с назойливостью осенней мухи без конца жужжать на ухо: