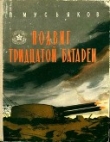Текст книги "Дорога к подполью"
Автор книги: Евгения Мельник
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 25 страниц)
Сначала очень глухо разнесся слух о Сталинградской битве. Мы ничего еще толком не знали о Сталинградском сражении, о его огромном значении для хода войны. Но немецкие солдаты и офицеры были растеряны, и одно это уже говорило о многом.
Вскоре слухи стали более определенными: немецкая армия под Сталинградом окружена и взята в плен, в Берлине объявлен трехдневный траур.
Неужели уже началось, и наша армия пойдет в наступление? Рождалась надежда: а вдруг… а вдруг не через два года, а гораздо раньше, например, этой весной? Хотелось верить своему сердцу, рвавшемуся навстречу родной Красной Армии, но разум говорил: нет, слишком большое расстояние разделяет нас, не так скоро еще придет освобождение.
Люди, которые работали в немецких частях уборщицами, кухонными рабочими, рассказывали мне, что теперь некоторые немецкие солдаты и даже офицеры начали говорить, что война ими проиграна, выражать недовольство Гитлером.
Однажды глубокой ночью, когда мы, томимые бессонницей, вздыхали и ворочались на своих постелях, за окном послышался нарастающий шум, стук подкованных немецких сапог о камни улицы. Мы с мамой вскочили с кроватей и прильнули к окну.
– Что там? – взволнованно спросил папа.
– Немцы бегут, – ответили мы.
Запрудив всю улицу, в сторону вокзала бежали немецкие солдаты. С ясного неба светила полная луна, виден был каждый камешек на мостовой. Вдруг раскрылись ворота ханского дворца, оттуда выехал экипаж с гитлеровскими офицерами, запряженный попарно четырьмя лошадьми, с факелами, горящими по бокам его, и поехал по мосту, перекинутому через Чурук-су. Вслед за ним выехал второй такой же.
«Что случилось, почему бегут фашисты? А если совсем убегают? – взметнулась снова мысль. – Под Сталинградом их побили, может быть, гонят дальше, ведь мы ничего не знаем!»
Но тут же заговорил здравый смысл: нужно иметь крылья, чтобы за такой короткий срок перелететь от Сталинграда в Крым, и немцы еще достаточно сильны. И все же хотелось верить в невозможное.
До самого рассвета мы с мамой простояли у окна, рассказывая папе обо всем происходящем на улице.
Наутро оказалось, что у гитлеровцев была тревога. Пока еще только тревога… Но и это хороший признак: до сих пор они жили здесь без всяких тревог и волнений. Значит, что-то есть, раз они заволновались!
Сколько раз, стоя у окна нашей комнаты в Бахчисарае и глядя на каменную колонну екатерининских времен, которую называют милей, стоявшую напротив двери дома, я думала: настанет день, и мы не будем больше видеть эту колонну, не будем жить в Бахчисарае. Все останется лишь в неприятных воспоминаниях.
Мысли перелетели на высокую гору под Бахчисараем, где, как рассказывали был лагерь военнопленных, пригнанных из Севастополя. Говорили, что раненые спали под холодным осенним дождем в ямках, которые рыли для себя. Каждое утро многие оказывались мертвыми: гибли от ран, от голода., и холода…
По городу ходили слухи, что партизан в лесу осталось очень мало, что они умирают от голода. Но партизаны действовали и приходили в город, об этом можно было догадываться по гитлеровским приказам, расклеенным на заборах и стенах зданий и гласившим: «Тот, кто станет принимать у себя партизан, – будет расстрелян».
Значит, есть такие люди, которые принимают у себя партизан и не боятся расстрела. И эти люди казались мне необыкновенными, прекрасными, смелыми, какими-то не такими, как все. Я мечтала о встрече с ними. Однако мне не везло.
Я все больше начала думать о том, чтобы уехать в Симферополь. Может быть, там мне удастся встретить этих настоящих, больших людей.
Но для того, чтобы переехать в Симферополь, надо достать пропуск. Так просто его не дадут, а кур, «яек» и барашков мне добыть неоткуда. Я перебирала в уме всякие возможности и остановилась на одной: по справкам о болезни и необходимости лечения в Симферополе, выданным поликлиникой, комендатура дает временные пропуска. Я подумала о докторе, к которому папа обращался, когда у него болела рука.
Доктор Гольденберг был единственным евреем, не расстрелянным немцами и продолжавшим легально жить в Бахчисарае. Он славился, как хороший врач, вдобавок был женат на татарке. Жители Бахчисарая просили немцев сохранить ему жизнь, и это пока спасло Гольденберга.
Я не была знакома с доктором, но слышала от папы, что он производит хорошее впечатление. Пришла в поликлинику. Там было пусто: никто не ходил на прием к врачам, так как лекарств в Бахчисарае все равно достать было нельзя. Я постучалась в двери кабинета Гольденберга.
Доктор сидел за письменным столом и выжидательно смотрел на меня.
Действительно, его бледное лицо, большие карие, вдумчивые глаза располагали к себе. Я подошла к столу и сказала:
– Доктор, я дочь Петра Яковлевича Клапатюка, который был у вас. Пришла к вам с просьбой.
– Садитесь, – и он указал на стул.
Я села. Наступило короткое неловкое молчание… Как и с чего начать разговор? Пускаться в объяснения или не стоит? Ведь просьба-то была незаконной.
– Дело вот в чем, – начала я, понизив голос, – мне нужен пропуск в Симферополь, я не могу получить его другим путем… Я совершенно здорова, но прошу вас дать мне справку о том, что у меня больные глаза, которые требуют лечения в симферопольской клинике. Там работает знакомый профессор, он тоже даст мне справку, что я лечусь.
Доктор Гольденберг молча слушал меня, наклонив голову. Когда я замолчала, он взял чистый листок бумаги, поставил на нем штамп поликлиники и написал текст, необходимый для справки, и, так же ни слова не говоря, протянул мне.
– Спасибо, доктор, – поблагодарила я, беря справку. Мне хотелось сказать ему что-нибудь хорошее, теплое, такие слова, которые растопили бы лед его настороженного молчания. Я чувствовала, что за печальным взглядом его вдумчивых глаз кроется трагедия жизни человека, над головой которого висит все время острый меч. Ведь каждую минуту он может ждать, что немцы раздумают и арестуют его. Но мысль о жене-татарке остановила меня. Поблагодарив еще раз, я вышла за дверь.
На другой же день случайной машиной я приехала в Симферополь к сестре и, пробыв там несколько дней, вернулась обратно. Благодаря профессору я могла получить временную прописку на один месяц, но с такой пропиской никто не соглашался взять меня на работу. Однако через неделю я решила снова ехать в Симферополь и ни за что оттуда не возвращаться. Мне пришлось опять просить справку у доктора Гольденберга, которую он так же безмолвно вручил и на этот раз.
И вот 20 февраля 1943 года я собрала в узелочек свое имущество, свернула в трубочку тоненький детский матрасик и, распрощавшись с родными, пошла на вокзал.
Крымская зима была в разгаре морозно и ветрено, местами лежал снег. На мое счастье, через несколько минут отправлялся в Симферополь товарный поезд, груженный бревнами. Я залезла на одну из платформ и уселась среди бревен. Поезд тронулся, и я поехала.
Часть третья
СИМФЕРОПОЛЬ

Неприветливо встретил меня Симферополь. Нахмуренное серое небо, на улицах снег, сыро и холодно, холоднее, чем в Бахчисарае, защищенном горами от северных ветров. Да, собственно, теперь все было неприветливо: города и улицы, и небо. Дорога от вокзала к сестре, живущей в противоположной стороне города, в конце улицы Субхи, казалась мне беоконечно длинной. Усталая и продрогшая, со своим матрацем-ковриком под мышкой, постучалась я, наконец, в дом, где жила сестра.
В маленькой печке едва теплился огонек. Сестра накормила меня супом, который скорее годился бы для лошадей, так как состоял из воды и овса, поджаренного и размолотого вместе с шелухой. Но еще хуже было то, что горсть овса была последним достоянием сестры.
В эту ночь я спала на настоящей кровати, с мягкими пружинами и травяным матрацем, но адский холод в комнате не давал согреться.
Очень тяжелым делом оказалось попасть к коменданту, чтобы получить разрешение на временную прописку. Много часов выстояла я на морозе, прежде чем попала в кабинет коменданта и получила разрешение. В эти дни я встретила на улице Бологовского – бывшего преподавателя химии, который в течение нескольких лет жил и работал в Севастополе. В разговоре выяснилось, что он сейчас занимает должность начальника отдела питания городской управы.
– Я помогу вам устроиться на работу, – сказал он, – хотя это сделать не так легко, запрещено принимать людей с временной пропиской. Но дайте свою биржевую карточку, и я попытаюсь.
Я протянула ему карточку. Мне было неприятно принимать одолжение от человека, который сотрудничает с немцами, но что же делать? Притом он так участливо расспрашивал о моей семье, об отце… Очевидно, Бологовской делает одолжение из добрых побуждений. Но я ошибалась.
В страшное время фашистского произвола все грязное, гнусное и подлое выплыло на поверхность. Нет, не добрые побуждения руководили Бологовским, этим бывшим дворянином, гвардейским офицером и контрразведчиком белых. Перед самой войной он приехал в Симферополь, отбыв десятилетнее заключение в тюрьме. Теперь подобные типы не скрывали прошлого, а хвастались им. Но при первой нашей встрече в Симферополе я еще не знала всей биографии Бологовского. Мне в голову не приходило, что человек, работавший с моим отцом, собирался воспользоваться безвыходным положением его дочери, замученной голодом и нищетой.
На другой день я уже работала в качестве чернорабочей кухни в столовой № 3 горуправы. Вокруг меня кипели котлы с супом, которому больше подходило название «баланда»: в воде без единого грамма жира варились отходы капусты с дрянной картошкой в зеленых и черных пятнах. Раз в день выдавали жителям по черпаку такой баланды и ложке каши.
Рано утром чернорабочие приносили из подвала дрова и уголь. Эта работа требовала предельного напряжения моих сил. Затем все садились чистить картошку: повара, официанты и чернорабочие. Повара были из военнопленных. Когда мы, чернорабочие, заканчивали чистку картошки, нас отпускали домой, но, прежде чем уйти, каждый подходил к повару со своей кастрюлькой и миской, в которые тот наливал суп и клал кашу.
Меня не тяготила работа, она как нельзя лучше подходила к моему душевному состоянию. Сейчас я не могла бы заниматься умственным трудом. Сидя на скамейке, я быстро работала ножом, научившись очищать тонкую шкурку с картофеля, а в это время мысли мои уносились далеко-далеко, на «Большую землю». Фантазия рисовала то дороги Украины, по которым я иду к линии фронта, то образы «больших» людей – туманные и расплывчатые. Какие из себя эти люди и как их узнать?
Занятая своими мыслями, я в первое время не замечала той настороженности, с которой меня принял штат столовой. Явно недоброжелательным было отношение ко мне шеф-повара Ивана Ивановича. Он с первых же дней, казалось, меня возненавидел и не упускал случая придраться. Его придирки как-то даже довели меня до слез, хотя теперь я почти никогда не плакала.
Раскрыла секрет калькуляторша Ната, относившаяся ко мне более доброжелательно.
– Знаешь, мы все вначале тебя боялись, ведь ты сюда прислана начальником отдела питания. Когда он посещает столовую, то всегда подходит к тебе и слишком уж любезничает. Мы все думали, что у тебя с ним какие-то близкие отношения. Я и сейчас не могу убедить Ивана Ивановича, что ты своя, он все не верит.
– Ах вот в чем дело! – удивилась я. – А мне это и в голову не приходило. Я Бологовского презираю так же, как и вы, он немецкий приспешник.
После откровенного разговора с Натой недоверие ко мне начало рассеиваться и вскоре совсем исчезло. Все же люди чувствуют и понимают, где ложь и где правда. И, несмотря на то, что начальник отдела питания в каждое свое посещение столовой неизменно продолжал выказывать мне особое внимание, это уже никого не тревожило и не вызывало сомнений. Мне поверили. И даже Иван Иванович становился все мягче и мягче в отношениях со мной.
Я поняла, что в столовой работают хорошие советские люди, ненавидящие оккупантов и их прислужников.
Я слушала их сдержанные и скупые разговоры. Можно было сказать безошибочно, что эти люди ждут еще далекого освобождения.
Часто во время чистки картофеля все хором пели советские песни. Иногда, осмелев, затягивали запрещенную, вроде «Катюши». Я выглядывала в окно и видела, как приостанавливаются и прислушиваются прохожие. Пусть это слабый, но все же протест против рабского положения!
Тот, кто не был в плену или оккупации, может быть, меня не поймет. Но песня, как сказал поэт, это бомба и знамя. И недаром перед смертью пели советские песни, бросали их слова в лицо палачам узники концлагерей и жертвы гестапо. Эти песни говорили о том, что люди не сломлены.
Однажды я шла домой с одной знакомой женщиной. Вдруг паренек лет шестнадцати, который шел впереди нас, запел вполголоса новую песню «Огонек»: «На позицию девушка провожала бойца…» Мы слышали ее впервые. Дом, где я жила, давно остался позади, а мы все шли за пареньком, пока он не допел последних слов. За такую песню немцы в лучшем случае могли избить юношу, могли иначе расправиться с ним, но он не боялся, он пел ее для прохожих. Он знал, что мы идем за ним, чтобы не упустить ни единого слова.
После бахчисарайского одиночества, попав в среду хороших людей, я особенно их оценила. За все время моей работы в столовой № 3 до самого дня освобождения я ни разу не наблюдала проявлений аполитической обывательщины. Мы все жили одними чувствами. Мысль о судьбе Родины была главной нашей мыслью. Я находилась все в той же темнице, но теперь уже не в одиночном заключении. Можно было делиться думами и отводить душу.
Мы с сестрой взяли маленького Женю к себе. Он целыми днями находился со мной в столовой, То и дело он подходил и просил:
– Мама, дай каши.
Или:
– Мама, дай супу.
Повара удивлялись его аппетиту, но хорошо понимали состояние мальчика и не отказывали ему.
Работали ежедневно, без выходных, с рассвета до сумерек, почти беспрерывно чистили картошку. Руки мои стали черными, от напряжения на правой руке растянулось сухожилие и образовалась небольшая опухоль. По окончании работы я спешила скорей домой, чтобы успеть дойти до темноты и комендантского часа, когда хождение по городу запрещается. Дома был адский холод, температура не поднималась выше одного-двух градусов тепла.
Так прошло полтора месяца. Срок моей прописки кончился. По справке о продлении лечения, которую я снова получила от доктора Гольденберга, меня еще раз прописали, но скоро и этот срок истек. Тогда комендант без дальнейших разговоров сказал мне:
– Вэг!
Я пришла в столовую, села на скамью, сгорбилась и закрыла лицо руками. Все было понятно без слов. Окружившие меня товарищи сочувствовали моему горю, а Иван Иванович со злостью ругал фашистов.
Сочувствие ободрило меня. Созрело новое решение. Я попросила шеф-повара:
– Иван Иванович, отпустите на три дня в Бахчисарай, я еще раз достану пропуск.
– Хорошо, иди. Но смотри не оставайся там, а то пропадешь от голода, возвращайся обратно.
И я отправилась в путь.
В эти годы вражеской оккупации я поняла, что если у человека есть вера в нашу победу, то все удары жизни, как бы они ни были сильны, не только не ослабляют энергии, но вырабатывают какой-то неисчерпаемый ее запас.
Тошно мне было видеть снова Бахчисарай, но сердце стремилось к встрече с родными. Опять кривые улочки, речка Чурук-су, ханский дворец, екатерининская миля у дверей дома, деревянная лестница на второй этаж и убогая комната. Бледное, измученное лицо мамы. Отец снова ходил в школу и преподавал. Но лицо у него было какое-то странное, изменившееся, бледное, с припухшими глазами. Жить моим родителям стало чуть легче: я хоть немного, но помогала, и мальчик был со мной.
Снова я обратилась к Гольденбергу, и снова мне хотелось сказать ему что-нибудь хорошее, намекнуть на то, чтобы он не доверял гитлеровцам, скрылся бы, нашел пути к «Большой земле». Но его неразговорчивость и мысль о жене-татарке опять заставили меня молчать.
Через три дня с новым пропуском в сумке я возвращалась в Симферополь. Но только успела ступить на улицы города, как мое внимание привлекла кучка людей, столпившихся возле какого-то приказа, приклеенного к стене дома. Я подошла и стала читать. Не было печали! От одной беды избавилась – другая валится на голову: объявлена новая мобилизация в Германию. До сих пор она меня не коснулась: в Бахчисарае, где почти исключительно татарское население, не было ни одного набора.
И опять заработала мысль, изобретая разнообразные выходы из положения. Придя домой, я долго не ложилась спать, мы с сестрой думали, как избавиться от угона в Германию. Через несколько дней я снова временно прописалась и опять работала в столовой. Что же касается мобилизации, то я просто решила не являться на биржу и ждать дальнейших событий. Двери биржи были открыты для тех, кто туда входил, но захлопывались, как дверцы мышеловки, за каждым переступившим порог. Кто не являлся на биржу, за тем полицаи приходили домой. Многие девушки и женщины разбежались по деревням, пытаясь скрыться от мобилизации, но полицаи, как псы, гонялись за ними, хватали и препровождали на биржу, откуда была одна дорога – на вокзал и в эшелон. Были случаи, когда девушки выбрасывались из окон биржи и разбивались о камни мостовой или бросались под колеса поезда. Наиболее смелым женщинам удавалось все же скрыться в прилесных деревнях, где хозяйничали партизаны, даже уходить к ним в лес.
За большие деньги и золото можно было, правда, купить справку о заболевании какой-нибудь страшной для немцев болезнью, вроде туберкулеза. Таких больных в Германию не брали.
Меня, очевидно, спасла временная прописка, никто за мной не пришел. Когда миновала опасность этой уже не первой, но и не последней мобилизации, я стала добиваться постоянной прописки.
Долго тянулась мучительная канитель, описание которой не представляет особого интереса. Много я истрепала нервов, но все же добилась своего.
МертворожденныеВ последнее время фашистские газеты начали без умолку кричать о предателе Власове и его армий, призывая всех вступать в нее. Какой-то капитан Ширяев без конца выступал со сцены симферопольского театра, расписывая прелести службы в пресловутой РОА. В городе появилось несколько власовских офицеров, которых можно было отличить от немецких лишь по трехцветной кокарде на фуражке.
Мы с сестрой как-то проходили мимо так называемого «пункта армии Власова» и были свидетельницами разговора группы симферопольцев с власовцами.
– Как вы попали во власовскую армию? – спросил кто-то из горожан у одного из этих изменников.
– Я служил на Кавказе в советских войсках, меня ранило в руку. Таким образом, как видите, – сказал он, заученно улыбаясь, – я пролил кровь за советскую власть. Когда отступали, спрятался у своей тетки. Пришли немцы – вступил во власовскую армию.
При этих его словах злость вспыхнула в моем сердце, но я сдержалась, боясь, чтобы какое-нибудь неосторожное слово не вылетело из моего рта.
– А скажите-ка, – послышался чей-то вопрос, – как вы мыслите себе «освобождение»? Что же после войны будет в России – немецкая или русская власть?
– Конечно, русская, – ответил офицер. – Гитлер только поможет нам освободить Россию от большевиков.
– Но ведь Гитлер даром не будет вам помогать?
– Конечно, – ответил офицер, – мы за это заплатим.
Тут уже я не выдержала:
– Чем заплатите, территорией?
Офицер повернул ко мне лицо, и глаза наши встретились. Власовец прочел в моем взгляде такое, что заставило его отвернуться. Деланно равнодушным тоном он ответил:
– Нет, зачем же территорией, мы достаточно богаты и сумеем расплатиться…
Люди, стоявшие рядом со мной, понимающе переглянулись.
Я подошла к другой кучке людей, чтобы послушать, о чем говорят там.
– Значит, вы русские и стреляете в русских? – спросил власовца высокий худой старик.
– Нет, нам не приходится стрелять: как только мы идем в атаку и сближаемся с русскими войсками, мы сейчас же останавливаемся, опускаем оружие и кричим: «Мы власовцы – ваши братья и не будем в вас стрелять, переходите к нам!» И все тотчас же бросают оружие и перебегают к нам. Таким образом, мы никогда не проливаем кровь наших братьев, – соврал в ответ власовец.
На лицах промелькнули улыбки, а кто-то даже рассмеялся. Предатель насторожился, взглядом обвел окружающих. Но у всех снова было непроницаемое, каменное выражение лиц.
Несмотря на усиленную агитацию, пункты власовской армии пустовали, так как жители отнюдь не горели желанием вступать в ее ряды. Никто и не заметил, когда они закрылись и прекратили свое существовани.