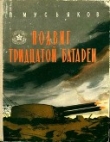Текст книги "Дорога к подполью"
Автор книги: Евгения Мельник
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 25 страниц)
Через несколько дней снова приехала мама. Ее мучила мысль об умирающем Володе и тревожила моя судьба. Прошло три дня. 10 ноября около восьми часов утра Володя умер.
Бедняга последние две недели страшно мучился. Соседка-врач каждый день делала ему уколы камфары и морфия. Он умер тихо, как будто уснул. До войны смерть его была бы потрясающим горем, а сейчас? Сейчас мы все отупели от бесконечных ударов, несчастий и не могли остро реагировать. Я запрещала себе плакать. Нужно много сил, чтобы выдержать эту жизнь.
Наше горе – общее горе, в стране гибнут миллионы.
Мы знали, что наши стоят на Перекопе, но, может быть, ждут весны? А гитлеровцы стали еще свирепей, и до последнего дня предстоит борьба, которая унесет, наверное, немало жизней.
На другой день, когда гроб с Володей стоял в комнате и мы ждали линейку, чтобы отвезти его на кладбище, открылась дверь и вошел маленький Женя. Мы были поражены: ведь он оставался с папой в Бахчисарае… Мама вскрикнула:
– Что случилось, Женечка? Почему ты приехал?
– Дедушке очень плохо, он заболел. – Женя стоял бледный и растерянный.
– Что с дедушкой?
Но Женя ничего не мог толком объяснить и только твердил: дедушке плохо. Мама растерялась, не зная, что делать. В это время Женя вышел из комнаты, а минут через пять дверь приоткрылась и сестра знаком поманила меня.
Она повела меня в сарай во дворе, где работал плотник, заканчивая крышку гроба.
– Папа не болен, а умер, – сказала она.
Ну, жизнь, если уж начала бить, то бей без передышки! Две скупые слезы выкатились из моих глаз. Но снова прошептал суровый голос: не плачь, может быть, он вовремя умер, избавился от еще более страшной жизни и смерти.
Папа умер ночью с 10 на 11 ноября от паралича сердца. Таким образом, сбылось одно его желание, которое он не раз высказывал: умереть внезапно, без мучений.
– Пока не будем говорить маме, – сказала сестра.
Но что делать! Еще не успели похоронить одного, как надо хоронить другого.
Вернувшись в комнату, застали маму в большом смятении.
– Что делать? – обратилась она к нам. – Ехать сейчас? Но как же с Володей? Он так хотел, чтобы я его похоронила. И поздно, я не успею до темноты добраться в Бахчисарай.
– Оставайся, – уговаривали ее мы с сестрой, – нет смысла сейчас идти, все равно в Альме придется ночевать. Похороним Володю, а завтра рано утром отправимся в дорогу все вместе.
Так и решили. Но мама все не могла успокоиться и допытывалась у Жени: как он сюда приехал, кто его посадил на машину, что говорил папа и где у него болело?
За гробом Володи, кроме нас и двух его знакомых, никто не шел: здесь мы были чужими и новыми людьми.
На следующее утро с рассветом мы собрались в путь. Отправляясь к нам, мама захватила разное старье, думая сшить Жене зимнее пальто, и теперь складывала, чтобы забрать обратно. Сестра стала ее уговаривать:
– Оставь здесь, ведь ты еще вернешься. Но мама не соглашалась:
– Неизвестно, когда я опять сюда приеду.
– Ты скоро приедешь, папе очень плохо, мало ли что может случиться.
Сестра всячески намекала на возможную папину смерть, а я молча стояла в стороне и видела: мама далека от этой мысли. Обычно ее трудно обмануть, но сейчас она ничего плохого не подозревала. И вот, когда мама с узелками в руках уже собралась выходить из дверей, сестра остановила ее:.
– Мама, крепись, папа умер. Тебе незачем тащить все это, вы с Женей вернетесь с нами и будете жить здесь…
Узелки выпали из маминых рук, ошеломленная и растерянная, она остановилась у дверей.
– Успокойся, все сейчас теряют близких.
Этот аргумент был силен. Мама не упала в обморок, не забилась в истерике, а как-то покорно примирилась с судьбой. Я подумала: настанет время, когда мы ясно поймем и почувствуем всю тяжесть наших потерь.
При выходе из Симферополя наткнулись на гитлеровскую заставу. Огромный, рыжий жандарм с бляхами на груди преградил дорогу.
– Вэг!
Мама стала просить, умолять его пропустить нас, говоря, что в Бахчисарае умер ее муж и мы спешим его хоронить, но жандарм оставался неумолим. Спокойно прохаживаясь взад и вперед, он резко и настойчиво повторял: «Вэг Симферополь!», протягивая руку по направлению к городу.
Мама чуть не заплакала и со слезами отчаяния в голосе обратилась к пленному, мостившему дорогу.
– Объясните ему, что мы идем хоронить, что умер муж и отец: он, наверное, не понимает.
Рыжий жандарм приостановился и захохотал.
– Я все понимаю, я прекрасно говорю по-русски, – произнес он на чистом русском языке. – Вэг Симферополь! – И снова повелительным жестом протянул руку по направлению к городу.
– Не пререкайтесь с ним, – тихо сказал пленный, а то он вас отправит в гестапо.
Делать было нечего. Противоречить гитлеровцам опасно, мы это прекрасно знали. Пришлось повернуть назад. Отошли шагов на пятьдесят и остановились, не зная, что делать. Дикая злоба душила меня, я так и вцепилась бы в горло этому рыжему!
Тот же пленный прошел мимо нас и тихо сказал:
– Перейдите через речку и обойдите заставу.
Мы последовали его совету и, благополучно миновав заставу, вышли на дорогу.
Дул резкий, холодный ветер, было сыро и пасмурно. Низкие мрачные тучи нависли над землей. Не успели пройти и трех километров, как начался проливной дождь. Потоки воды обрушились на землю. Мы продолжали идти, по щиколотку утопая в жидкой, холодной грязи, так как разбитые войной дороги не чинились. Обувь у всех была рваная, ноги моментально промокли. Дождь и ветер хлестали нас. Скоро промокла и вся одежда, по ногам скатывались струи воды. Мы закоченели. Проходя мимо деревни Чистенькой, в семи километрах от Симферополя, решили попроситься к кому-нибудь переждать дождь и постучались в ближайшую хату. На пороге появилась девчонка лет шестнадцати. Она сказала, холодно и презрительно оглядев нас:
– Здесь живут немцы, в хату нельзя, – и захлопнула дверь.
– Сволочь такая! Идем к черту отсюда, лучше будем мокнуть под дождем, – сказала я.
Мы прошли по деревне, не рискуя больше просить приюта, боясь нарваться на такую же дрянь. Но из дверей одной хаты вышла старуха и позвала нас. В хате больной старик лежал на кровати. Старуха предложила нам снять и просушить одежду. Мы расположились возле печки, с удовольствием согреваясь, но раздеваться отказались: нельзя долго задерживаться. Узнав о нашем несчастье, старики искренне посочувствовали. Я рассказала про девчонку.
– Надо же вам было туда постучать, это дом полицейского! – сказала старуха.
Дождь не уменьшался, он, видимо, зарядил на целый день. Голые, мокрые ветки стучали о стекла окон, заунывно стонал ветер. Немного обогревшись, мы поднялись и, поблагодарив стариков, снова пошли месить грязь на дороге. Тяжел был этот путь. Маленький Женя походил на несчастного намокшего воробышка, впрочем, и у всех нас вид был достаточно жалкий. Но мы боялись опоздать. Что, если отца похоронят без нас? Это будет ужасно! Мы больше не обращали внимания ни на дождь, ни на грязь.
Расставленные по всей дороге румынские часовые нас пропускали. К трем часам дня пришли в Альму и зашли к Воронцовым. Они были очень опечалены вестью о смерти отца. Жена Воронцова сейчас же принесла чашку с теплой водой, чтобы мы вымыли ноги и постирали чулки. Дмитрий Григорьевич, укоризненно качая головой, повторял:
– Верная простуда, верная простуда!
Что же делать? Ходить можно только до пяти часов, а сейчас три. До станции Бахчисарай еще двенадцать километров, а оттуда до города два. Не успеем дойти. Воронцовы уговаривали остаться ночевать. Но ведь завтра могут без нас похоронить отца!
– Я пойду к мосту, – сказала мама, – а вы смотрите в окно, может быть, кто-нибудь, проезжая, согласится нас взять, я тогда махну рукой.
Вскоре Леля крикнула:.
– Мама машет!
Я моментально выкрутила чулки и натянула их на ноги.
– Верная простуда, – простонал Дмитрий Григорьевич, но мы уже выбегали из дому.
Двое румынских солдат везли на подводе в Бахчисарай сундук с вещами своего офицера. Они согласились нас взять.
Дождь, наконец, прекратился. Мы сели на подводу, устланную сеном, и поехали. Начало темнеть.
– Партизан не бойся, – вдруг сказал румын, неизвестно к кому обращаясь, – они не страшный, они убивают только офицер.
Я усмехнулась и подумала: хорошо, если бы сейчас нас остановили партизаны, к которым я так неудачно пробиралась!
Я стала вглядываться в сумеречную даль: не видно ли где партизан. Но всюду было пустынно и тихо. Когда мы уже находились недалеко от станции, воздух прорезал знакомый свист падающих бомб, на железнодорожном пути взметнулись в небо два огненных столба.
– Русский самолет, – сказал румын.
Я смотрела в темнее небо, откуда едва доносился звук мотора, и думала: счастливый человек там в самолете с «Большой земли».
Подъехали к станции Бахчисарай, когда уже совсем стемнело. Нас остановила румынская застава. Здесь сгрудилось много автомашин и подвод. Офицер что-то кричал, никому не разрешая двигаться дальше. Наш солдат слез и пошел объясняться. Вскоре он вернулся, и мы поехали дальше.
– Нас пропустили потому, что мы едем в Бахчисарай, – сказал он, – а на Севастополь не разрешают ехать, пока не соберется побольше подвод и машин: боятся партизан.
Был уже комендантский час, когда мы ехали притихшим городом, погруженным в абсолютный мрак. По дороге встречались патрули, но румынскую подводу никто не остановил. Наконец-то добрались домой – измученные, голодные и промерзшие до костей. Под нашим домом был большой сарай, в двери которого свободно могла заехать подвода с лошадьми, и румыны решили здесь заночевать.
Я никогда не забуду этой картины: на старой поржавевшей кровати, устланной лохмотьями, лежит мой отец. Его голова с зачесанными назад густыми, седыми волосами покоится на рваной подушке. На стене тень от профиля: прямая линия лба, тонкий с горбинкой нос. В изголовье, на грязной облупленной стене нищей комнаты висит огромный, роскошный венок из пышных хризантем, принесенный учениками. Дико выглядят эти хризантемы на грязной стене, так же странно видеть такое благородное, спокойное, будто спящее лицо моего отца на рваной подушке. Веки плотно закрыты, но я вижу выражение его честных, умных глаз, часто добрых, ласкающих, а иногда огненно-гневных от возмущения…
Сейчас, когда я пишу эти строки, слезы льются из моих глаз, сейчас я имею право плакать. Сердце оттаяло, и не шепчет суровый и жесткий голос: «Не смей, ты должна собрать все силы, чтобы выдержать!»
Смерть отца не явилась для меня неожиданностью. С грустью я часто смотрела на него и чувствовала, что голод его сломил и дни его жизни сочтены. Я только молила судьбу об одном: дать ему пожить хоть один год после освобождения, чтобы он умер не в нищете и неволе. Но, увы, так не получилось.
Закончилась жизнь моего отца. В честном труде прошла она. Около сорока лет прожил он в Севастополе. Там его знали почти все. Петр Яковлевич Клапатюк пользовался в городе славой лучшего преподавателя математики, прекрасного педагога, безукоризненно честного человека, уважаемого и любимого многими. В школе он был строг, требователен, но по-товарищески добр. Во время летних каникулярных путешествий отец часто встречал в разных городах Союза своих бывших учеников. Такие встречи были всегда обоюдно радостными.
Вспомнилось, как четыре года назад отец заболел крупозным воспалением легких. Мы все буквально валились с ног, ночами не отходили от кровати. Когда же миновал кризис и отец стал поправляться, врачи сказали: «Вы спасли его своим уходом».
Тогда мы чувствовали себя счастливыми, но теперь… теперь даже об этом жалели. Зачем не дали ему умереть в своей постели, окруженным заботой и любовью?.. Зачем нужно было ему на старости лет перенести столько страданий?
Тихо вошел в комнату солдат-румын, посмотрел на отца, постоял немного у его кровати, перекрестился и так же тихо вышел..
Я подошла к отцу, погладила по волосам, поцеловала в побелевшие, холодные губы, как поцеловала – бы живого. И странно было, что он умер, казалось, просто крепко спит, так безмятежно было папино лицо. Не верилось, что это навсегда и больше никогда, никогда он не проснется.
На столе лежала записная книжка отца, его последняя книжка. В письменном столе в севастопольской квартире много сгорело таких книжек. В них отец систематически, из года в год, записывал даты и краткие заметки о всяких знаменательных событиях, государственных и семейных. Иногда в ходе разговора отец открывал ящик письменного стола и сообщал: в таком-то году зима была особенно суровая и даже такого-то числа появился лед у берегов…
Я стала перелистывать эту последнюю, неоконченную книжку. Наткнулась на перечень бомбежек с указанием чисел, часов начала и конца воздушных тревог – вплоть до последнего месяца осады, когда не было больше уже конца этим тревогам. Потом вдруг на одной страничке увидела, запись: «5 ноября 1943 года ушла Женя». И снова острая боль пронзила сердце. Всю дорогу я мысленно говорила отцу: я вернулась, я иду к тебе, я прощусь с тобой! Опоздала!.. Он не услышит и никогда не узнает. Долго сидела над раскрытой книжкой и смотрела на короткую запись, спрашивая себя: что переживал в последние дни отец? Потом взяла ножницы и отрезала маленький локон седых волос с головы отца. Пусть не все уйдет в землю, пусть останется что-нибудь мне.
Потом мы с мамой легли вместе в кровать и, сломленные нравственной и физической усталостью, заснули тяжелым и тревожным сном.
Наутро принесли гроб. Учащиеся и педагоги завалили всю комнату букетами и венками из хризантем. На кладбище отца провожала огромная толпа, преимущественно дети, которые плакали навзрыд. За гробом несли двенадцать венков. Фашисты останавливались и с удивлением спрашивали: «Кого это так торжественно хоронят?» В покойнике, лежавшем в гробу среди хризантем, они, конечно, не признали того нищего худого старика, который еще недавно ходил, спотыкаясь от слабости, по улицам Бахчисарая.
Знакомство с Ольгой Шевченко и начало подпольной работыНа этот раз, к нашему удивлению, очень легко удалось прописать маму. Или гитлеровцы изменили свои обычаи, или просто им было теперь не до того, но дело обошлось без разрешения от коменданта. Женю сейчас, же определили в школу. С особой теплотой встретили меня в столовой, когда после двойных похорон я в первый раз туда явилась.
– Судьба зверски с тобой обращается, – сказал Иван Иванович, – ну, что ж поделаешь, забудь все, плакать сейчас не время, будем жить по-старому: работать, беседовать, надеяться. На, съешь котлетку, она из хорошей жирной коняки.
– Не хочется что-то, Иван Иванович…
– Я тебе дам не хочется! Ешь, говорят!
Повара, официанты, буфетчица Мария Васильевна, кассирша Шура – все старались сделать мне приятное. Никто ни единым словом не обмолвился о моем горе и ни о чем не расспрашивал. Мура Артюхова принесла попробовать «необыкновенно вкусного» ликера. «Такого ты никогда не пила», – сказала она.
Все старались вселить в меня бодрость духа. У плиты, у кухонного окна или буфетной стойки так же шепотом сообщали новости о наших победах, обменивались мыслями. Снова работа, все шло по-старому. Только сердце стало еще тяжелее, будто прибавилось несколько гранитных камней в его кладовых, крепко запертых на большие замки.
Прошло несколько дней, и сестру вызвали на биржу.
Вернувшись, она сообщила:
– У меня отобрали все документы и сказали, что направляют на работу в Евпаторийский район. Завтра должна явиться с вещами.
5 декабря уехала сестра. Месяца через два мы получили от нее открытку с границы Германии, где она занималась расчисткой снега на железнодорожных путях. Слова ее короткого письма были проникнуты трагизмом: «Как бы я хотела снова увидеть дорогие могилки!» – писала она.
Таяла наша семья. Теперь мы остались втроем: мама, я и маленький Женя.
…После ухода Вячеслава Николай окончательно перебрался на улицу Карла Маркса. Я опять работала без выходных с утра до сумерек. Теперь нам очень трудно было с ним встречаться. Однако вскоре после всего происшедшего Николай пришел в столовую, и мы снова заговорили об Ольге.
– Познакомь меня с Ольгой, – попросила я.
Меня вдруг страстно потянуло к этой женщине, которую я никогда не видела в глаза. Мы условились с Николаем, что я пораньше отпрошусь у Ивана Ивановича, и мы тогда отправимся к Ольге.
На другой день я с нетерпением ждала условленного часа. Наконец, явился Николай. Мы пообедали и пошли. На дворе шел дождь, была слякоть. В глинистой вязкой грязи я часто теряла Володины галоши, надетые на короткие ватные сапожки, сшитые мной. «Ты смахиваешь на Чарли Чаплина», – усмехнувшись, сказал Николай.
Шевченко жила далеко, в стороне вокзала. Мы вошли в маленькую, уютную квартирку, всю украшенную вышивками. С первого взгляда Ольга произвела на меня незабываемое впечатление. Молодая красивая женщина среднего роста, украинского типа: смуглое лицо с ярким румянцем, темные густые дуги бровей. Милая, приветливая. Я никогда не встречала таких спокойных, прямых глаз, которые говорили о силе характера, выдержке и душевной чистоте. «Она не может лгать», – подумала я.
Через пять минут мы вели откровенный разговор, как старые друзья. До некоторой степени так и было. Я давно знала Ольгу по рассказам Николая, а она от него слышала обо мне. Мы говорили о своем неудавшемся походе в лес к партизанам, о зависти к счастливому Вячеславу, попавшему на советскую землю. Я попросила Ольгу:
– Переправьте меня к партизанам.
– А что вы там будете делать? – спросила она.
– Думаю, что для меня найдется винтовка.
Помолчав минуту, Ольга сказала:
– Приходите ко мне послезавтра, мы с вами поговорим.
– Приду обязательно, только очень рано, в шесть часов утра, до работы. Можно?
– Приходите в шесть утра, я рано встаю.
С этого памятного дня в жизни моей начался новый период.
В назначенный день и час я была у дома Ольги. Решила постучать в окошко – может быть, она еще спит, но Ольга сразу подошла к окну и сказала:
– Идите во двор, я сейчас открою.
Она уже растопила плиту и готовила завтрак. Я села в старое, мягкое кресло и протянула ноги к открытой духовке.
– Я говорила о вас, – сказала Ольга. – Можно переправить в лес, но я хочу вам предложить остаться здесь и работать со мной.
Я задумалась… Конечно, быть на свободной земле, среди своих людей, не видеть самодовольных, наглых лиц гитлеровцев куда приятнее…
– Я подумаю, Ольга, и завтра отвечу.
На другое утро я снова была у Ольги и дала согласие работать с ней.
Теперь я почувствовала, как окрепла под моими ногами почва. К Ольге я всегда приходила рано утром, до работы, стучала в окошко, в котором моментально появлялось ее приветливое и улыбающееся лицо. Прежде всего узнавала последние новости с фронтов, потом брала газеты, листовки, книжки. Очень огорчалась, если уходила с пустыми руками. С полчаса мы обычно разговаривали. Я кое-что рассказывала о себе, о Севастополе и батарее.
– А как вы сейчас живете? – спросила однажды Ольга. – Не голодаете, может быть, в чем-нибудь нуждаетесь?
– Нет, – ответила я, – благодаря столовой мы более или менее сыты. Конечно, никаких излишеств: масла и сахара не едим, шоколада тоже. Вот только справки о работе не имею, хитрю во время облавы и надеюсь на судьбу. От биржи скрываюсь.
И я показала свой аусвайс, испорченный надписью «уволена».
Ольга задумчиво покрутила в руках аусвайс и сказала:
– С чувством расписался, через весь документ! Можно попробовать сделать вам новый.
Я промолчала и больше никогда об этом не заводила разговора: мне казалось неудобным обременять подпольную организацию своими личными делами…
Часто в разговоре слышала от Ольги: «Была вчера в комитете, говорила в комитете…»
Я знала, что Ольгу посещают подпольщики, иногда она мне рассказывала о некоторых эпизодах их работы. Я слушала и никогда не задавала лишних вопросов, не просила познакомить с кем-нибудь из комитета даже не спрашивала, знают ли там о моем участии в работе подполья. А Ольга не называла мне ни имен, ни фамилий, ни адресов, и за все время я в этом доме не встретила никого, кроме ее мужа, Сергея. Шевченко. Я узнала имя руководителя подполья Ивана Андреевича Козлова и увидела его самого лишь после освобождения. Понятия не имела тогда, что Ольга – связная подпольного горкома.
Однажды Ольга рассказала, как переносила с одной женщиной мины. У каждой подпольщицы было по пять мин, плотно привязанных к талии. Запалы Ольга несла в кармане. Шли долго, выбирая пустынные улицы. При каждом шаге мины слегка ударялись друг о друга и тихо цокали.
– А вы не боялись, что мины взорвутся, если кто-нибудь нечаянно толкнет? – спросила я.
– Нет, они без запалов не взорвутся, этого бояться нечего. Но вот когда подошли к дому, где надо было спрятать мины, и увидели, что ворота закрыты на большой висячий замок, тут нам сразу стало жутко. Ведь заранее условились, а хозяйка ушла. Такая получилась неожиданность. Пришлось нести мины к себе домой. А у меня дверь в дверь живет гестаповский зондерфюрер. Вдруг, думаю, похлопает меня, да по минам, – знаешь манеру немцев. Мы быстро перешли через двор, напряженные были минуты, но зондерфюрера, на счастье, не оказалось.
– А куда же вы девали мины?
– Я их и запалы отнесла в сарай и зарыла в уголь, а к вечеру переправила по назначению. В нашей жизни бывают жуткие моменты и всякие неожиданные случайности, к ним надо быть всегда готовой. Самое главное – быстро соображать и уметь держать себя в руках. От этого зависят и успех дела и жизнь.
Я с завистью подумала о женщине-подпольщице, которой Ольга так доверяла, и мне захотелось сказать: «Возьми и меня переносить мины», но остановила мысль, что Ольга еще слишком мало знает меня, нельзя напрашиваться на большое доверие. Я ничего не сказала и лишь тяжело вздохнула.
Ольга расценила мой вздох, как сожаление о том, что надо покинуть старое кресло возле плиты, где я уютно пригрелась, и спросила:
– Тебе уже надо уходить?
А мне действительно не хотелось уходить: вечно спешишь, никогда не поговоришь по-человечески. Я посмотрела на часы – да, пора, – и хотела встать, но Ольга сказала:
– Это что, а вот недавно со мной был случай похуже, когда-нибудь расскажу.
Но я возразила:
– Нет уж, начала, так продолжай, один раз можно опоздать, Иван Иванович не выдаст.
Ольга не отличалась болтливостью, но сегодня, как видно, расположилась к задушевной беседе. Видимо, ей захотелось поделиться тем, что пришлось пережить.
Она рассказывала:.
– Надо было занести в один дом большую пачку газет и листовок и на этот раз объемистей обычной.
Вхожу в коридор, берусь за ручку двери, которая оказалась не запертой, открываю без стука… И что же вижу? В комнате сидят пять жандармов с бляхами на груди и все смотрят на меня. Я обомлела. Захлопнуть дверь и бежать? Невозможно, бессмысленно.
Я спокойно вошла, может быть, слишком спокойно улыбнулась и поздоровалась.
В дверях соседней комнаты, облокотившись о косяк, стояла хозяйка квартиры и тоже смотрела на меня. Глаза ее были широко открыты, и в них промелькнуло выражение ужаса. Она прекрасно знала, с чем я пришла.
Жандарм спросил:
– Кто такая? – и стал переводить взгляд с меня на нее.
Я ответила:
– Соседка, живу здесь во дворе. И обратилась к хозяйке:
– У тебя есть мясорубка?
– Есть.
– Дай, пожалуйста. Мне надо помолоть мясо, хочу сделать котлеты.
Хозяйка пошла в кухню, а я осталась наедине с жандармами. Они молча меня рассматривали, я тоже молчала и улыбалась им. Когда возвратилась хозяйка и дала мне мясорубку, руки ее дрожали, но никто этого не заметил, кроме меня.
Я вышла во двор и увидела, что у ворот тоже стоят жандармы, которых раньше не было. Что делать? Я не решалась со своим грузом идти мимо них и огляделась по сторонам: куда бы спрятать литературу? В глубине двора стояла уборная, я быстро туда зашла. Два бака для воды были пусты: водопровод ведь давно не работает. Но до них трудно дотянуться. Кое-как удалось открыть один бак, по частям побросать туда литературу и опустить крышку. Потом обошла вокруг уборной и отдала мясорубку одной соседке с просьбой передать хозяйке на другой день. Теперь со спокойной душой вышла со двора. Недели через полторы мы с Галкой – моей дочкой забрали из бака всю литературу.
А почему в квартире сидели жандармы? – спросила я.
Сторожили брата хозяина, подпольщика. Думали, что он явится сюда, и устроили засаду. Но безуспешно, не таким уж глупцом оказался брат!