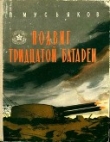Текст книги "Дорога к подполью"
Автор книги: Евгения Мельник
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 25 страниц)
Отца вызвали в городскую управу и предложили место заведующего каким-то «культотделом». Отец ответил категорическим отказом. Городской голова и его помощник «господин» Белецкий, который фактически и вершил всеми, делами, уговаривали его.
– Нам известно, что ваша семья осталась нищей и огибает от голода. Мы дадим вам квартиру, обстановку, вещи, вы будете получать паек.
Но отец упорно стоял на своем:
– Нет, я решил уехать в Ялту, там у меня дочь.
– Большевик! – закричал Белецкий.
Когда отец вернулся из управы и рассказал обо всем, мы в один голос ответили:
– Правильно поступил!
Немцы объявили всеобщую регистрацию населения и трудовую повинность: «Тот, кто отработает двадцать восемь дней и пройдет регистрацию, сможет получить пропуск из Севастополя». Голод бродил по городу, полоненный врагом Севастополь потерял теперь для жителей свою притягательную силу, все стремились его покинуть.
Трудовой повинности, по возрасту, подлежала из нашей семьи только я. В первые дни я не шла, продолжая созерцать серую пыль на камнях курятника. Надо уходить из Севастополя. Но без пропуска не выпустят, как же быть?
Однажды я увидела на улице девять пленных, запряженных вместо лошадей в телегу. Телега была нагружена толстыми и длинными бревнами, концы которых волочились по мостовой. Оборванные, худые пленные, напрягаясь изо всех сил, едва ее тащили. Пораженная, я остановилась. И вдруг услышала, как кто-то тихо окликнул меня: «Товарищ Мельник!» Я вздрогнула. Все было так неожиданно: и слово «товарищ», и чей-то знакомый голос, мгновенно вернувший меня к прошлому…
Я быстро обернулась и увидела широкоплечего, смуглого человека в поношенном штатском костюме, как говорится, собранном с бору по сосенке, в помятой кепке. В общем, вид у него был обычный для жителя Севастополя тех дней. Я его сразу узнала, несмотря на полную перемену наряда, сильную худобу и какое-то новое выражение глаз, раньше всегда веселых, слегка насмешливых, а теперь строгих. Это был один из командиров части, располагавшейся в леске возле нижней водокачки.
Несколько минут мы стояли молча и провожали взглядом телегу. Потом он слегка дотронулся до моего локтя и сказал:
– Идемте куда-нибудь, поговорим.
Я повела его в наши развалины, где он мне рассказал, что был легко ранен в плечо и потерял много крови, когда плавал, надеясь встретить в море корабль.
– Вот смотрите, – гость расстегнул рубашку, под которой я увидела почерневший от грязи бинт.
– Что ж делать, надо вас перевязать, но чем?
Я растерянно оглянулась, как будто в нашем курятнике могла обнаружить что-что похожее на перевязочный материал.
– Заживет, как на собаке, – усмехнулся командир, – рана уже затягивается. Вы не волнуйтесь, бинт не такой уж грязный, я его стирал в море и сушил на солнце.
– Вы на тридцать пятой не были?
– Нет. Когда меня выбросило на берег, я едва дотащился до воронки от бомбы, смутно помню, что покатился вниз и упал на дно. Потом был без сознания, таким меня и взяли в плен. Когда колонну военнопленных вели через город, мне удалось бежать. Какая-то женщина спрятала меня в развалинах, потом принесли эту вот штатскую одежду и переодели меня. Люди наши остались советскими и в беде всегда помогут!
Я посмотрела на его кепку и вдруг ясно представила себе кубанку, которую он всегда носил. Не о нем ли рассказывала мне Екатерина Дмитриевна?
Это был непокоренный советский человек, который жил одной мыслью: вырваться из вражьего кольца и снова начать бороться. Но меня поразило его предложение.
– Евгения Петровна, идите в горуправу и постарайтесь в порядке трудовой повинности попасть на легкую работу, – сказал мой собеседник. – Скажите, что вы истощены, больны, попросите, чтобы вас посадили переписывать и регистрировать оставшееся в Севастополе население… Между прочим, городская управа ищет женщин для такой работы…
– Не пойду! – вспыхнула я.
– Зачем горячиться? Вы поймите, что, проникнув в горуправу, сможете сласти чьи-то жизни. Может быть, жизни пленных, что везли, телегу с бревнами. Может быть, спасете меня и моих товарищей от плена, возможно, еще кому-то понадобится ваше содействие. И семье вашей будет легче.
– Но что я смогу там сделать?
– Поверьте мне, случай представится. А что делать – я тогда скажу.
Я подумала и согласилась.
Наш гость был так же голоден, как и мы. Мама угостила его обедом, если вообще можно было назвать обедом похлебку, состоявшую из воды, едва приправленной мукой.
Уходя он сказал:
– Не ищите меня, я приду сам.
Он ушел, а я еще долго сидела на камне и думала… Может быть, он действительно прав… Я окажусь полезной не только своей семье, но и другим… И я опять вспомнила картину, которую видела днем: телегу и пленных, запряженных в нее.
На другое утро мне помогли принять решение… полицейские. Собрав в ближайших развалинах человек десять жителей, еще не отработавших трудповинность, они отвели нас в городскую управу.
В управе получилось все так, как предполагал мой советчик. В конце концов я оказалась за регистрационным столиком: писала, ставила в паспортах номера несуществующих домов. А голова кружилась, и в глазах темнело от голода.
Через несколько дней меня перевели в полицейскую канцелярию – мой почерк понравился начальнику – и засадили за книгу, в которой я должна была регистрировать все паспорта, выдаваемые сроком на один месяц, без права выхода за черту города. Иногда я усмехалась при мысли о том, что сказал бы мой Борис, если бы узнал, что его жена работает… в полиции! Чего стоит одно это слово!
Мне стали выдавать 300 граммов хлеба в день и тарелку бурды в столовой. Я брала с собой котелок и в обеденный перерыв относила хлеб и суп домой. Мама делила пищу на четыре части, и это было почти все, что мы съедали за целый день.
Ломан или фон Ломан?Прошло несколько дней, и в комнату, где выдавались паспорта, вошел человек в штатском. Старенькие обтрепанные брюки, пиджачок. Фигура его была далека от изящества. На белокурых волосах нелепо сидела помятая кепка. Это был капитан Ломан. Он сразу узнал меня, я поняла это по беглому взгляду, который он бросил в мою сторону. Однако он почему-то решил не признаваться и повернулся ко мне спиной.
Ломан жив, как я рада! Я была уверена в том, что он погибнет, и еще в лагере говорила Лиде:
– Кого мне особенно жаль, это Ломана. Он живым оттуда не выйдет, а если и выйдет, то немцы сразу же его расстреляют за активную деятельность в штабе обороны батареи…
Очевидно, решила я, Ломану удалось бежать из лагеря, он, наверное, скрывается. Сделаю вид, что его не знаю…
Ломан получал паспорт, следователь задавал ему какие-то незначительные вопросы, я исподтишка наблюдала. Через десять минут ко мне для регистрации поступил новый паспорт Ломана с приложенной к нему автобиографией. Мне сразу бросилась в глаза фамилия – фон Ломан. Что такое? Я пробежала глазами автобиографию: остзейский немец, сын урядника, биолог по профессии, до войны научный работник какого-то ленинградского института, имеет свои научные труды, мобилизован в армию в начале войны.
Значит, Ломан – это фон Ломан, немец? Значит, ему нечего скрываться, нечего бояться? Но что же он делал в Севастополе во время осады – тот Ломан, без приставки «фон»? Был ли он шпионом, предателем или просто выжидал, кто окажется сильней? Напрасно я о нем сожалела и беспокоилась за его жизнь!
– Здравствуйте, вот и пришлось опять встретиться.
Я подняла глаза – передо мной стоял и любезно улыбался Ломан.
– Здравствуйте, вот ваш паспорт.
Я не задавала вопросов, но Ломан почему-то решил объясниться:
– Я вышел первого числа. Я очень хорошо говорю по-немецки, и немцы меня великолепно приняли: они отвели мне отдельную палатку, прекрасно кормили…
Я молчала.
Получив паспорт, Ломан вышел.
Я вспомнила свою первую встречу с ним в пещере возле 18-й батареи, вспомнила, как он проверял наши паспорта, как объяснял своим спутникам геологическое происхождение горной породы; вспомнила его щегольски пригнанную морскую форму, сияние пуговиц и нашивок. Изменник! Одно только приводило в недоумение: почему в первый момент при виде меня он смущенно отвернулся и не хотел признаться? И зачем врет? Первого числа он сдаться не мог, еще второго он был на батарее, это я знаю наверное, могла бы даже присягнуть… Если он фон Ломан, то почему боится того, что я знаю о нем?
Я думала – и молчала. Настало время, когда можно только думать, слушать, видеть и молчать… Молчать до поры, до времени.
Однако встреча с Ломаном в полиции не давала мне покоя, я старалась проследить за судьбой этого человека.
Мне говорили позже, будто немцы назначили Ломана начальником Севастопольской бактериологической станции. Это была серьезная должность, если принять во внимание севастопольскую обстановку тех дней, высокую зараженность земли и воды, которая вызывала эпидемию желудочных заболеваний. Конечно, гитлеровцы беспокоились не о населении города, а о своей армии.
Потом говорили, что в том же 1942 году Ломана увезли в Германию. Но я не ручаюсь за достоверность этих сведений.
После войны орудийный мастер старшина Евгений Красников рассказывал мне, что его друг краснофлотец Иванов, попавший в плен в Севастополе, тоже долгое время задавал себе вопрос: «Кто же такой Ломан?» И вот почему.
Иванов служил во время обороны под начальством Ломана. Был взят в плен, но бежал из лагеря. Довольно долго Иванов никуда не являлся. Наконец, рискнул пойти на биржу труда и выдать себя за рабочего. Каков же был его ужас, когда, переступив порог комнаты, он увидел перед собой Ломана в форме немецкого офицера, сидевшего за столом и вершившего делами. Иванов попятился к дверям, но убежать было невозможно: Ломан смотрел на него, и Ломан прекрасно знал Иванова.
«Ну, влип», – решил Иванов, и капельки холодного пота выступили у него на лбу.
– Что вы хотите? – спросил Ломан. – Подойдите к столу.
Он смотрел на Иванова так, как будто видел впервые.
– Я хотел получить справку, – сказал Иванов растерянно, приближаясь к столу, – справку о работе.
Такая справка спасала Иванова от плена, спасала его при облавах и в других случаях жизни.
Ломан ничему не удивился, ни о чем не стал расспрашивать, продолжал делать вид, что не знает Иванова, и выдал ему справку. Иванов поспешно вышел из помещения биржи, задавая себе вопрос: «Кто же Ломан?»
А в 1944 году, сразу же после освобождения Севастополя, Иванов, который уже был в рядах наших войск, прибежал к Красникову в сильном возбуждении и сказал:
– Я сейчас видел Ломана! Он шел по городу с группой командиров. На нем щегольская офицерская форма, только снова советская.
МарионеткиКо мне в полицию пришел папа, его темные глаза метали молнии. Он только что был у помощника городского головы Белецкого, от которого надо было получить разрешение на пропуск из Севастополя. Белецкий принял папу издевательски: он его не видел и не слышал, хотя папа долго стоял перед его столом. Когда в кабинет заходили другие, Белецкий приобретал сразу и слух и зрение, когда же начинал говорить папа – он снова лишался этих чувств. Не добившись какого-либо ответа, папа, дрожа от бешенства, вышел из его кабинета и пришел ко мне.
– Я сейчас сама к нему отправлюсь, а ты успокойся и подожди меня здесь.
Я вошла в кабинет Белецкого. Узнав о том, что я дочь Клапатюка, господин Белецкий снова потерял слух и зрение. Он разлегся в мягком кресле, закинул ногу за ногу, поправил на носу пенсне и устремил невидящий взор поверх моей головы. Я говорила – он не отвечал, поворачивался к старику, сидевшему на диване, и задавал ему какой-нибудь пустой вопрос. Старика этого я знала: солидный, полный человек, кажется кассир, до войны я не раз встречала его в банке, когда он там получал деньги. Теперь бывший кассир исполняет у господина Белецкого должность сторожевого пса. Он всегда сидел на диване: одних принимал, а других, по знаку своего патрона, выставлял из кабинета. В данный момент господин Белецкий развлекался: он мстил человеку, отвергнувшему «благодеяния» городской управы. Почему не поиграть ему с нами, как кошке с мышью, почему не насладиться своей властью? Не представить себе хоть на некоторое время, что возвратились времена «благородных сословий», презирающих и третирующих чернь? «Нет, господин Белецкий, – думала я, – все это временное. Никогда не сбудется то, о чем вы мечтали, сидя в советской тюрьме, когда вас осудили на десять лет за контрреволюционную деятельность!»
Господин Белецкий играл, а сам был игрушкой в руках гитлеровских властей, ничтожной куклой, которую дергают за ниточку, пока она еще нужна.
Пронафталиненные старики заполнили все должности городской управы. У меня было такое впечатление, как будто они долгих двадцать пять лет пролежали в душном сундуке, засунутые туда уже далеко не в молодом возрасте. Нафталин сохранил их от моли, но время их поело, истлели они по складкам и швам от долгого лежания. Теперь их вытряхнули, проветрили, починили, подлатали, пришили ниточки, чтобы управлять ими, и выпустили на сцену гнусного кукольного театра.
Правда, Белецкий не старик, он был моложе своих «коллег» и особенно зол, потому и руководил фактически всей городской управой.
Итак, этот гитлеровский холуй тонко и «интеллигентно» издевался надо мной. Я поняла, почувствовала каждым своим нервом, как он издевался над моим отцом, почувствовала полное бесправие, на которое обречена.
В кабинет входили другие посетители, с которыми Белецкий небрежно разговаривал, как высший с низшими, щурясь и поправляя пенсне на носу, обходя меня невидящим взглядом. Я замолчала, но стояла перед его столом. Если бы взгляд мог сжигать – Белецкий в одно мгновение превратился бы в кучку пепла. Мне хотелось броситься на него, вцепиться ему в горло и задушить. Я не хотела уходить, пока Белецкий не посмотрит мне в глаза.
Очевидно, взгляд имеет гипнотическую силу. Белецкий повернул голову и несколько мгновений с наигранным равнодушием смотрел в мои глаза. Конечно, то, что он в них прочел, сейчас его нисколько не испугало. Но придет такое время, когда его испугают взгляды советских людей!..
Как в тумане я вышла из кабинета. Право, я и не подозревала в себе такой непримиримой ненависти и жажды мести!
У руин своего домаЗакончился рабочий день. Мы с папой, задыхаясь, с трудом передвигая ослабевшие от голода ноги, поднялись по лестнице на гору возле развалин Петропавловского собора и пошли дальше. Теперь я все время ждала встречи с командиром, который посоветовал пойти в горуправу. Неужели он так и не придет? Быть может, он уже схвачен и его мучают где-то в застенках гестапо, а я все хожу и жду его?
Садилось солнце. Мы шли по улице, усыпанной камнями и щебнем, покрытой густым слоем белой пыли, среди развалин. На пути не встречалось ничего живого.
Мертвый, до основания разрушенный, обугленный город простирался перед нашими глазами. Дул сильный ветер, гремел листами железа – остатками крыш. По всему городу разносились завывание ветра и скрежет железа – других звуков не было слышно. Казалось, мертвый город, залитый багровым пламенем заходящего солнца, в бессильной ярости скрежещет железными зубами.
На худой фигуре отца свободно болталась старая помятая одежда. В его скорбных глазах светилось горе. Он шел, как пьяный, поминутно спотыкаясь о камни.
– Папа, – сказала я, – посидим немножко, отдохнем, ведь ты совсем выбился из сил. Я помоложе тебя, но и мне тяжело…
– Спустимся к нашему дому и там отдохнем.
Мы стали спускаться по обвалившимся ступеням лестницы к тому месту, где еще недавно на крутом склоне горы возвышался большой трехэтажный дом. А теперь лишь уцелевшая часть стены с пустыми глазницами окон поднималась к небу.
Солнце опустилось за горизонт, приближались сумерки. Отец подошел к обрыву и долго стоял там, опустив голову, глядя на беспорядочное нагромождение камней.
Чтобы не мешать ему, я присела в сторонке и с грустью смотрела на отца. О чем он думал? Вспоминал ли он о своей жизни в этом доме, или мысли его улетели еще дальше, к началу того трудового пути, которым он шел с самого детства?
Сын мелкого железнодорожного служащего, он с четвертого класса гимназии отказался от помощи отца и содержал себя сам. Его отец и мать жили на маленькой станции, а сына отдали учиться в город в гимназию. Он обладал блестящими способностями к наукам, огромным трудолюбием и жаждой знаний и в двенадцать лет был уже репетитором: за стол и квартиру «тянул» из класса в класс ленивого балбеса из зажиточной семьи.
Может быть, отец вспоминал о том, как сорок лет назад, молодым, только что окончившим Одесский университет учителем, он приехал в Севастополь и начал здесь свою преподавательскую деятельность? В министерстве о нем не очень хорошо отзывались, считали вольнодумцем. Живой ум, многогранность интересов, кипучая энергия, жизнерадостность зато помогли ему завоевать глубокую любовь учеников, их родителей, товарищей по службе, многочисленных знакомых.
Еще в царское время летом, во время каникул, отец устраивал длительные экскурсии для учеников старших классов, прихватывая и нескольких малышей. Возил он их в Москву, катал по Волге и Дону, исколесил на подводах весь горный Крым и Южный берег. Для неимущих отец организовывал сбор денег. В советское время отец постоянно вел большую общественную работу.
В Севастополе его знали как лучшего преподавателя математики, друга и ценителя природы, интересного собеседника, обладавшего великолепной памятью. Сорок лет преподавательской деятельности, сорок лет жизни в Севастополе в одной и той же квартире! Он участвовал в создании первой коммуны, организованной в одном из национализированных имений. Годы труда, горести и радости – далеко не бесцельно проходила его жизнь. Наступила старость. И вот началась война, пришли враги. Нет больше дома у старого труженика. Расщепленное, поваленное дерево… Воронка от бомбы… Груда камней… Нищий, голодный, бездомный старик…
Будь я художником, написала бы такую картину: высокий, смуглый старик с лицом, истерзанным страданием и голодом, ссутулившийся от невероятной худобы, одетый в старые потрепанные диагоналевые, брюки и синюю морскую душегрейку, стоит и смотрит на развалины своего дома. Рядом с ним большая воронка от бомбы, поперек улицы лежит сломанное молодое деревцо акации. Вокруг старика и в перспективе – все те же покрытые слоем сажи и пыли развалины мертвого города. Багровые лучи заходящего солнца освещают эту печальную картину. И под нею я подписала бы: «Война».
Придя в свои развалины, мы застали у нас повариху с авиабазы и узнали одновременно две новости: в толпе военнопленных (их гнали сегодня через город в Бахчисарай) она увидела Наташу, которая крикнула ей:
– Женя Мельник погибла!
– Нет, она жива! – ответила повариха.
Кто-то крикнул, что старшина Поморцев, раненный в ногу, находится здесь, в лагере военнопленных. Я сейчас же послала Женю к его жене, которая жила недалеко от нас.
Ольга Петровна нашла своего мужа в одном из лагерей, но увы, ненадолго: на другой день после этого он исчез бесследно, увезенный куда-то из Севастополя. Ольга Петровна вместе со своим десятилетним сыном Борисом дошла пешком до Джанкоя, не пропуская по дороге ни одного лагеря в городах и деревнях, но узнать ничего не смогла. Гитлеровцы не вели списков военнопленных.
Ольга Петровна панически боялась немцев. Как-то в развалинах нашего курятника, шепотом, взяв с меня клятву молчания, она рассказала о том, что ей пришлось пережить в лагере, куда их пригнали из городка 35-й батареи.
«Пригнали нас к городу, когда уже темнело, – говорила Ольга Петровна, – остановили недалеко от кладбища, возле виноградника, и сказали, чтобы женщины все отошли в одну сторону, а мужчины в другую. Я решила, что сейчас нас будут расстреливать. Я бросила свои вещи, схватила Бориса за руку, шмыгнула в виноградник и упала там среди кустов. Недалеко от нас в кустах спрятался какой-то мужщина. Я закрыла мальчика своим телом. Не знаю, сколько часов мы так пролежали. Мимо по винограднику прошел немец, но не увидел нас в темноте. Наступила ночь. Совсем близко возле нас, в подвале небольшого уединенно стоящего дома, видно, пытали каких-то женщин. Они так стонали, что волосы становились дыбом от ужаса. А кто-то протяжно, на нескольких нотках играл на гармошке. Когда стоны усиливались, звук гармошки тоже усиливался и ослабевал, когда ослабевали стоны. Долго пытали людей, я в ужасе боялась пошевелиться. Потом я слышала, как их выводили за высокую стену кладбища и там поодиночке расстреливали. Слышно было, как их закапывали, я могла бы показать это место, где их закопали. Когда все стихло, я схватила Бориса за руку, выбралась из виноградника и, обезумев от ужаса, бросилась бежать. Где я бегала всю ночь – не помню, была, как сумасшедшая, и только когда рассвело, поняла, что нахожусь недалеко от Балаклавы. С наступлением дня я пришла в себя и окольными путями, минуя дороги и заставу, пробралась в город. Я не могу смотреть на немцев, – закончила Ольга Петровна – я немею и холодею от ужаса при взгляде на них»…
Через несколько дней она пришла ко мне и сообщила, что, разыскивая мужа, увидела в списках раненых, лежащих в больнице, фамилию Мельника.
– Пойдите на всякий случай посмотрите, вдруг это ваш Борис.
Мама также советовала пойти.
Я отвечала, что смотреть не пойду: ведь Борис сел на катер и уплыл, я в этом убеждена. Не может он попасть в плен, не может! Я не хотела этому верить.
Я уже легла спать, но беспокойство все же не проходило. Едва наступило утро, как я решила пойти и проверить.
В окошко в больнице мне протянули книгу. Я села на камни и стала перелистывать ее. В книге нашла шесть Мельников, из них фамилии двоих были зачеркнуты и против них написано «умер». К счастью для меня, среди этих шести не было ни одного Бориса, но мне стало невыносимо больно за этих несчастных погибших людей, брошенных в безвестную братскую могилу. Сейчас я не думала и не хотела верить тому, что Борис мог не доплыть до Кавказа, погибнуть где-то в пути. Он сел на корабль, значит, спасся.