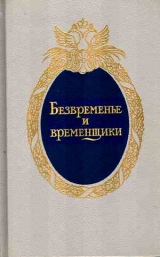
Текст книги "Безвременье и временщики. Воспоминания об «эпохе дворцовых переворотов» (1720-е — 1760-е годы)"
Автор книги: Евгений Анисимов
Соавторы: Михаил Данилов,Наталья Долгорукая,Эрнст Миних,Бурхард Миних
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 25 страниц)
Потом оный огонь часто представлял перешедший из Кадетского корпуса в артиллерию майор Мелисино, на больших фейерверках, только не так, как наш, а из большого пламени. Признаться надо, что Сарти-итальянец разрушил нашу старинную фейерверочную затверделую систему и открыл нам вольность к разному изобретению: мы с того времени представляли фейерверки против прежних своих гораздо уже лучше, а некоторые фигуры выходили действительно превосходнее Сартиевых. Итальянец доброхотством придворных господ, которые более заражены были в иностранцах, хотя уже и видели, что национальные совсем не хуже его представляли, принят был на жалование. и определили ему тысячу рублей. Наконец представляли фейерверки, по отбитии меня от сей должности, Мартынов, Сарти и Мелисино, от коих Сарти ничем лучше не отличался, понеже мы не так к вымыслу, как перенять уподобиться и провзойти удобы.
В бытность мою тогда в Москве представлен был ко мне служитель, лет шестнадцати, чесать волосы, который объявил мне о себе, что он в своем доме обыкновенно ходит в природном его платье, а когда служит у молодых господ, то надевает мужское на себя платье, и тем отвожу (говорит) своего рода подозрение. Я похвалил парикмахера за его бережливость и проворство. Жил я тогда против головинского дома, на иллюминационном дворе, в построенных светлицах. В один день школьник мой Марка (так называли оную персону), играя на улице со школьниками пушкарскими детьми, которые у нас были на работе, пущал змей бумажный; а как змей оторвался от нитки, то Марка побежал за ним и влез на дворцовую кухню доставать змея, там упалый. Мункох Любимов мне был приятель, велел моего Марку поймать и сам привел ко мне на квартиру, жаловался мне шутя, что «школьник твой Марка все трубы на кухне поломал». Из сего довольно можно познать, каков был характер школьника Марка.
Будучи в Москве, занемог я лихорадкой, которая продолжалась с лишком два месяца и довела мое здоровье до великой слабости. В 1754 году, в июле месяце, отправились мы из Москвы в Петербург, с обер-фейерверкером Мартыновым, по Тифинской дороге, и так болезнь конечно из меня истребилась; а в Петербург приехавши, я через малое время увидел себя в хорошем здоровье, какого прежде у меня не бывало. Но недолго я моим лестным здоровьем пользовался. Того ж 1754 года, с ноября месяца, начали мы к Новому году приготовлять фейерверк и иллюминацию на Неве-реке; я при обеих этих работах находился по большей части на дворе, а не в покоях, и незнаемо каким-то случаем простудил у ног коленки, отчего после Нового года сделался у меня в коленках великий лом. Лечил меня штаб-лекарь артиллерийский Урлик; сей врач все свое искусство оказывал надо мною только в том, дабы я как можно мало ел, а велел он мне только по одной половине пшеничной сушеной булки с чаем в день употреблять. Оный его штаб-лекарь узаконенный диет, по желанию его, скоро во мне подействовал очевидно: привел он меня своим искусством до такой слабости и бессилия, что я с боку на бок уже не мог сам поворотиться; не забыл он также выполаскивать часто клистирами и мой желудок. Наконец оставалось мне уже думать о вечном сне: я увидел себя во сне приготовленного к отшествию для пребывания с прародителями моими и родственниками в месте злачном и покойном; а сей путь мне неизвестен, потому-то и привыкнуть к тому не можно, что отправляемые туда не возвращаются назад, так как я прежде через год возвратился из Риги. Пора мне было вывести себя из сей отчаянной болезни. Я, через совет моих приятелей, переменил своего врача, штаб-лекаря Урлика, который только оставил мою душу, гнездящуюся в костях и обтянутую одной кожей, в самом слабом состоянии, другому врачу на созидание прежнего здоровья моего храмины; второй врач учинил сие своим искусством удачно, откормил он меня, голодного, и пустил жива в свет на покаяние дел моих, по молодости учиненных.
Того ж 1754 года, сентября двадцатого числа, родился великий князь Павел Петрович. Помянутый генерал Апраксин получил приказание от государыни, дабы для рождения цесаревича как можно через неделю был приготовлен фейерверк в Летнем дворце. Апраксин призвал Мартынова, обер-фейерверкера, объявил ему волю государыни с таковым притом обнадеживанием: ежели на показанный срок изготовлен будет фейерверк, то как он, Мартынов, так и будущие при нем офицеры будут награждены чинами. Мы, оный получа приказ, не теряя времени, а паче слыша обещание чинов, кои лестно получать всем, которые любят честь, начали работу производить, взяв к себе на помочь одного офицера; не было у нас ни в чем недостатка, ибо для доставления нам потребных материалов на такое время трудилась неусыпно канцелярия артиллерийская. Людей нам на работу, по нашему требованию, было отпущено довольное число, которых мы на три партии разделили, для отдохновения: первая партия работала с утра до обеда, вторая с обеда до вечера, а третья во всю ночь; не жалели мы всякий день раздавать всем работникам вина, для куражу и ободрения, которых было до тысячи человек. Признаться надо, что оная урочная неделя великого труда стоила троим нам, указывальщикам, так что почти не находили мы времени к отдохновению своему. Наконец к срочному числу мы все изготовили, что было нам положено сделать к фейерверку; а как нам еще отсрочили на неделю, дабы мы приумножили фейерверк, то наполовину уже против прежде сделанного заготовить не могли, от понесенного первого труда, при котором мы чрезмерно прилежно трудились. При сжении сего фейерверка Мартынов пожалован за сей фейерверк именным приказанием майором; а об нас двоих, видно, Апраксин запамятовал.
В 1756 году граф Шувалов пожалован в артиллерию фельдцейхмейстером. Граф был человек замыслов великих и предприимчивый, который еще до сего чина выдумал одну гоубицу, желая быть фельдцейхмейстером, в которой было дуло не круглое, а продолговатое, подобно сжатому до половины круглому кольцу; а как оное орудие стреляло широко одной дробою, то гоубицу назвали секретною и дула никому не давали смотреть, заслоняли его медными закрышками и замыкали замком; а которые были к таковому орудию приставлены служители для стреляния, офицеры и рядовые, оным учинена была особливая присяга, чтоб никому не показывали секретной гоубицы дула, хотя уже многие его знали. По вступлении графа в артиллерию появились многие прожекты, дельные и негодные, а паче для того, что граф был охотник и сего требовал от всех офицеров, кто может что показать. Я помышлял также, как и прочие, оказать что-нибудь новое. Однажды усмотрел я в «Записках артиллерийских» Сен-Реми (в первом томе) на чертеже сплошь четыре мортирки напечатаны, каморы у них были конусом, а запор сделан на середине один, и названы оные мортиры батарейками Я предложил мортирки Мартынову, он одобрил мое мнение, сделали мортиркам чертеж, калибром на трехфунтовое ядро, по чему были вылиты; а как стали пробовать, то от выстрела лафет, который был на колесах, под мортирками весь раздробился в мелкие штуки. Наконец, по многим пробам, вылито было только две оных сплошь и названы были «близнята»; на Выборгской стороне, на пробе, они оказались годными, почему и наделали их и с лафетами премножество и отправили в армию, в тогдашнюю войну против короля прусского; оные «близнятки» в армии брошены или найдены бесполезными. Наконец вылита была такого ж калибра и названа «одиночка», которая стреляла картечью, гранатой и ядром попеременно; оная «одиночка» имела в себе камору конусом, отчего стреляла далеко, потому графу Шувалову показалась. Он приказал вылить калибром на шестифунтовую гранату, потом и до пятипудовой бомбы дошло, и названы оные были от того времени «единорогами». Увенчал граф своей графской короной оные «единороги», произшедшие от выдумки случайной моей с Мартыновым; по всей справедливости гораздо полезнее секретной гоубицы и ныне в армии и во флоте весьма способны оказались; а в Выборгской стороне, на пробу «единорогов» и секретных гоубиц, пороху и прочих припасов великое множество было расстреляно.
В 1756 году пожалован я в обер-фейерверкеры, на место Мартынова, с рангом поручика. Бороздин, подполковник, ласковый мой благодетель, взят был из Риги в Петербург. Граф принимал Бороздина на первый случай отменно против прочих штаб-офицеров, или Бороздин своим проворством сам того сыскал у графа: для того приказал граф ему сделать в артиллерии находящихся орудий со уменьшением калибра для поднесения цесаревичу Павлу Петровичу. Бороздин поручил оную мне комиссию исполнить. Я забрал всякого рода мастеров в артиллерии, учредил оную комиссию в школе, где я жил, и через некоторое время сделал всех находившихся в артиллерии пушек, мортир и гоубиц и к ним всякую принадлежность против натуральной величины в двенадцатую долю калибром, самой хорошей работы с позолотой и чеканками, серебряными клеймами, с вензелем его высочества; под все оные орудия состроили мы батарею столярную, по пропорции, обили зеленым бархатом, обложили гасом золотым в пристойных местах, и принесли к графу в его дом. Он, увидя батарейку с принадлежностями работы самой чистой и в аккуратной пропорции сделанную, оказал свое удовольствие и похвалу справедливую. Я был графу рекомендован от Бороздина, что все оное сделано под моим смотрением. С того самого времени начал граф отменно меня принимать, так – что, когда за столом при обеде случалось ему, графу, разговаривать и советовать об артиллерии, то, оставя всех с ним сидящих, требовать от меня своему разговору одобрения и изъяснения. Я ему отвечал на все его слова по приличности и, видя хорошее о себе мнение, утешался тем немало.
В один день случилось мне быть в своей квартире, сидел над окошком и увидел, что из двора, против моего окошка через улицу, сошла одна молодая и хорошего лица женщина, голова убрана волосами и напудрена, а одета в амазонское платье: села в подвезенную для нее одноколку, уехала от своей квартиры. На тогдашний случай был у меня наш офицер Полуехтов, с которым мы, разговаривая, дивились тому, что прежде никогда нам не случалось видеть в нашей улице такой редкости и, пошутя между собою, сделали из бумаги знаки, уподобясь полицейским служителям, накололи булавками на свое платье вырезанные литеры, один сотского, другой десятского, пошли прямо на тот двор, откуда сошла незнакомая нам амазонка; мы шутя спрашивали у хозяйки того дома, кто у ней стоит постоем и имеет ли пашпорт? Как хозяйка была нам знакома, то она нас уведомила обстоятельно, что нанимает у ней: чадам, которая-де учит детей у Александра Воейкова; легко мы поняли сказанную от хозяйки нам повесть, а паче знавши Воейкова, нетрудно было заключить и о мадам. Тот же день мадам к вечеру возвратилась на свою квартиру и вышла уже не из одноколки, а из кареты, в которой она приехала. Подошед к карете, обо двор живущие наши офицеры, с гостями своими, стали спрашивать у кучера, чья эта карета? Кучер отвечал им, что карета Жеребцова. Офицеры уличали кучера, что они знают, что карета Воейкова, а не Жеребцова; с таковым спором кучер, заворотя с каретою, поскакал домой. На тот час случился быть в гостях у офицеров наших лейб-кампанец, который взялся добровольно гнаться за кучером, не имев никакой к тому причины: сел верхом на свою лошадь, поскакал во весь скок, догнал кучера с каретой у всех пред глазами зачал плетью стегать кучера, а кучер ответствовал лейб-кампанцу бичом по чем ни попало, с тем они и скрылись. Офицеры, по таковом зрелище, подошли к квартире под окошки, где амазонка квартировала, начали вычитать хозяйке свои затейные претензии, будто они от кучера приехавшей к ней в дом персоны обижены; я, подняв свое окошо, сказал им, чтоб они не делали непристойности, что в сем доме хозяина дома нет, а одни только женщины, и что хозяин, отъезжая в Ораниенбаум, просил меня, чтобы я его дом присмотром не оставил. Офицеры, послушав моего увещания и думая, что в сем доме я интересован, что вступаюсь защищать женщин, отошли от квартиры амазонкиной. Поутру хозяйка с амазонкой, увидя меня под окошком, в моей квартире сидящего, растворили свои окончины и обе благодарили меня за прошлодневное мое защищение, что я их вывел из большого страха, в котором они находились от своих соседей-офицеров; потом просили меня с учтивостью, чтобы я пришел к ним пить кофий. Я их просьбы не преслушал, а по приходе моем не мог узнать, кто ко мне более учтивства и благодарности оказывал, хозяйка или амазонка: они обе одна перед другой спешили изъявлять мне свою ласку. Я сею заплатою на тот день был доволен, что познакомился с амазонкой, которая с первого моего взгляда сделала не малое о себе внимание: она была природная немка, приятного лица, лет двадцати от роду, бела, волосы светло-русые, глаза большие, разумна, остра, учтива, веселого нрава, а ласковость на лице ее как написана была; словом заключить, всякому может понравиться, кому случай подаст ее видеть. Я опишу ее характер и житье несколько поизвестнее ниже сего, а теперь продолжать буду мое с ней знакомство. Ее непрерывная ласковость ко мне принудила меня часто у нее на квартире бывать; между тем и прочие офицеры не теряли времени искать у амазонки своего знакомства. Наконец начали мы с амазонкой сообщать свои мысли письменно, а после первого письменного уверения был у нас, в приятельском доме, очевидный переговор о наступающем мире. В оном разговоре амазонка прожектировала мне, что сватается за нее жених, офицер молодой, хорошего состояния и притом наследник великому богатству, одному купцу в Германии, который еще не умер. Я, узнав ее намерение, которое состояло в том, не обещаюсь я ей себя рекомендовать женихом, с сожалением сказал ей, что благополучию ее не противлюсь, только счастью жениха вашего завидую, которого мне никак получить не можно. Она поняла тот момент из моего ответа, что я ей не жених, переменила свою речь и сказала, поусмехнувшись, что она уже привыкла терпеливо сносить от таких женихов сватовство, за которых она замуж идти совсем не помышляет. По сем нашем свидании переехала амазонка вскоре на другую квартиру, мне знакомую; оставалось ей выдумать, как бы отделить от себя Воейкова, который к ней хаживал кофий пить, чтоб он не посещал уже ее квартиру никогда. На таковую комедию были у нее в резерве называемые братья, с которыми она должна играть свою роль. В один день уговорилась она с одним своим братом, дабы он лег на ее постель, а сама амазонка спряталась в другую комнату; когда Воейков пришел, по обыкновению своему, к ней в спальню пить кофий, напившись дома шоколаду, тогда с постели встал амазонкин мнимый брат, мужик превысокий, в шпаге, спрашивает у Воейкова, кого ему надобно в сем доме; говорит, что квартира оная сестры его родной, так он хочет знать, не должна ли ему сестра его чем-нибудь: он берется за свою сестру всех должников удовольствовать. Воейков, видя что эта комедия для него только была изготовлена, пошел домой и перестал ходить к амазонке в квартиру. Амазонка торжествовала о своей выдумке с братьями своими троими, из которых одному, оказавшемуся неспособным в ее нуждах помогать и за нерасторопность, отказала от своего знакомства и выключила из братьев; последние два ее брата великое мне затруднение делали, покуда я также не присоветовал ей исключить их из братства. Она сама мне признавалась, что никак ей не можно быть и обойтиться без помощи таковых братьев, а паче в перемене ее места; однако наконец по моему желанию исполнилось, и последние два ее брата получили от нее вольный абшит. Знакомство наше продолжалось с амазонкой больше года. Никогда она не могла терпеть постоянных компаний и не старалась оные находить; женщины ей всегда были в компании скучны, она не находила с ними что говорить, напротив того, как бы велико собрание из одних мужчин ни было, амазонка большое себе находила утешение и удовольствие: с одним шутит, с другим смеется, иного ругает, с иным песни поет, и в таком случае увидишь ее подобно пьяной нимфе Бахусовой: так ей мужское собрание было приятно. Она очень хорошо разумела, что принадлежит до кухни, и с хорошим вкусом готовила кушать; посему дознаться можно, что она была прежде где-нибудь не в худом, а в хорошем трактире, в котором и кухарки ласково принимаются от гостей, от которых чаятельно она привыкла к таким резвым поступкам. Сие во удивление ставить не должно, что из хорошей кухарки превратилась в прекрасную амазонку. Не любила она никакого напитка, от коего может последовать пьянство, кроме кофе, который даже со излишеством употребляла. Я видал ее в публичных маскарадах проворство, как она умела находить своих и узнавать знакомых, хотя б и в масках были, не была она лакома к интересу, кроме нужного для нее к нарядам, на которые она не сомневалась получить всегда. Наконец, просила она у меня позволения на перемену своего места, по своему обыкновению, с таковым изъяснением, что покуда она еще молода, то надлежит ей стараться искать своего счастья далее; в сем я ей отказать не мог. Она переменила свою квартиру, не играя таковой со мной комедии, как над Воейковым; жила по разным домам, по своей резвости, но не в лучшем состоянии. Она своим усердием посещала монастыри, приняла греческого исповедания веру; восприемник был граф, бывший канцлер, Воронцов, и мать крестная Елена Александровна Нарышкина. Наконец, живши у своих прежних знакомцев, она с помощью их вышла замуж за офицера Старицына, с которым не долго жила и овдовела; а в 1772 году, престарев летами, не способна была резвиться и, в бедности находясь в Москве, имея у дьячка убогую квартиру, окончила амазонскую жизнь.
В 1756 апреля тридцатого числа, ударил один раз сильный гром, и от молнии загорелся в Петербурге Петра и Павла у соборной церкви над колокольней шпиц, который от земли состроен был до половины каменный, а верх деревянный наподобие ныне стоящей Адмиралтейской островерховной башни. Строена была та колокольня при Петре Первом, шпиц раззолочен был притирным золотом по медным листам, в солнечный день великий от себя блеск испускал. К великому всех зрителей сожалению, не могла загасить сего прекрасного здания по причине, что в самом верху того шпица зажгла молния, куда человеку дойти никак было не можно: сгорел и своим падением великий сделал по всему городу звук и потрясение.
В исходе сего 1756 года заготовляли мы к 1757 году фейерверк в лаборатории, в коей была планная большая светлица квадратом, мерою один бок состоял из тридцати аршин. Народа великое было в ней множество, всякого сорта мастеровые, иные обивали план, другие набивали фонтаны, привязывали приводы; также от бомбардирской роты Преображенского полка несколько человек для обучения работали, столяры, токари, слесари, по углам в оной же светлице были помещены, а все при огне работали. Я говорил Мартынову, чтоб в таком случае употребить осторожность, указывая, что все люди без малой опасности везде с огнем бродят. Мартынов на мое предложение отвечал мне шутя, что я очень аккуратен, до излишества. Как только я из светлицы вышел, то сделался в ней от неосторожности пожар: захватило всю оную огромную светлицу пламенем, пороховым и меркуриальным дымом, отчего в людях сделалось вдруг великое замешательство; всякий в робости и отчаянии, зажавши рот, спасался опрометным бегством в одни только двери, один другого давил, всяки старался скорее выскочить; оным дымом у многих захватило и остановило дыхание, не могли более бежать и попадали на землю без памяти. В таковой кутерьме и тревоге Мартынова и прочих подмяли под себя на пол, которых бежавшие и спасавшие свою жизнь топтали ногами, по чем ни попало. Вбежали потом в оный дым свежие и небывалые еще в дыму люди, насилу оных обессилевших и почти без дыхания лежащих вытащили на воздух, а прочие несколько человек мастеровых задохнулись и найдены мертвые. На оную тревогу вскоре великое число людей набежало, тот пожар загасили и не дали сгореть светлице; заготовленный же и разостланный на полу план некоторой частью совсем сгорел, иное попорченное осталось, а времени осталось только три дня до Нового года, в который день должно было жечь фейерверк. Я остался только один некопченый в дыму. Мартынов сделался болен, по причине той, что несколько времени находился в дыму, который состоял из серы, селитры и мышьяка; оного дыма наглотал он в себя, отчего и поднесь не пришел в прежнее своего здоровья состояние. Стоило мне великого труда все испорченное поправить и изготовить к сжению фейерверка исправным. Наконец к срочному числу, Новому году, исправил я, расписал офицеров и людей, кому что жечь и которую вещь после другой зажигать, и развел, где кому быть по местам, сам дожидался приказания; сигнал получил из Дворца, чтоб зажигать фейерверк. Наперед всего должно было зажечь сделанный кругом всего фейерверка из шлагов белый огонь (называемый марсов), подобие белого оружейного огня. Я, взяв свечку палительную, зажег оный огонь и не успел отнять руки со свечею, как в тот же момент один шлаг оторвался от доски, к которой он был привязан, ударил меня сильно в левую бровь и в висок, отчего я упал на землю без памяти; а как скоро я опамятовался, то висок мой был уже в крови, а глаз затянуло весь опухолью и сравнялся со лбом ровно. Я, призвав лабораторного сержанта Глазунова, сказал ему, чтоб он смотрел, дабы данная от меня диспозиция была исполнена, а я смотреть, за болезнию, не в силах: через великую мочь сидел, покуда сожгли фейерверк. Случился на тот час от меня недалеко полицейский лекарь, который перевязал мне с теплым вином рану, от которой я через месяц глазом едва мог проглянуть и рад был тогда, что обрел его в целости.
Того ж 1757 года, в апреле месяце, сделалось в лаборатории не менее прежнего приключение. В самое то время, когда была война с Пруссией, к таковому случаю в лабораторной кухне великое было приготовление всяких военных снарядов; одна светлица длинная, в которой прежде, к прошедшему фейерверку, набивали ракеты, именовалась «набойня»; от сей работы ракетного и прочего состава немалое количество в ней на столах и на полу оставалось.
Выметая светлицу, остатки ракетного состава не вынесли вон, а всыпали от лености в подпол, никто не мог усмотреть сего бездельства, и стали после работать. Демидов, подполковник, делал, под своим смотрением, зажигательные книпели за особливым столом, а под моим смотрением гранатные и бомбовые трубки набивали; в сенях были принесены для переправки старые зажигательные каркасы [123]123
Каркасы – артиллерийские снаряды, начиненные порохом. – Коммент. сост.
[Закрыть]; при всей оной работе нигде огня не было, водой светлица улита была, и чаны налитые стояли, дабы в случае нечаянного отпрыска огня бросить загоревшуюся вещь в воду. Я был при сей работе неотлучно. Полковник Бороздин возомнил идти в тот день пешком на Выборгскую сторону, для некоторых проб из пушек, почему зашел за мной в лабораторию, чтоб я с ним шел вместе; а как мы к Неве-реке приближаться зачали, дабы сесть на суда и переехать на Выборгскую сторону, тогда услышали необычайную за собой пальбу и колокольный в лаборатории набат. Мы с Бороздиным поспешно возвратились и увидели в лаборатории страшный пожар, черный дым и гром беспрерывный продолжался. Он опрашивает меня, отчего бы такая была пальба? Я сказал, что у нас более ничего нет, как старые в сенях каркасы счетом двадцать или тридцать, а в каждом каркасе по шестифунтовой наряженой гранате есть, то думаю, что от них такие выстрелы слышны. Однако напоследок нашлось, что оная пальба происходила не от одних каркасов, но были соблюдены в тех же сенях в чулане Сартия, итальянца, фейерверочные вещи: оные, загорясь, делали такой великий звук и стрельбу. Мы подошли ближе к пожару, нашли вышедших из той светлицы людей, в которых загорелось, и услышали причину, отчего оный несчастный пожар приключился. Бомбардиры, которые снаряжали у Демидова книпели за особливым столом, прикрепляя скорострельный фитиль, приколачивали сильными ударами, железным молотком по железному набойнику; оттого произошли искры и зажгли фитиль у книпеля в руках держащего бомбардира; а как по всем тогда столам множество скорострельного фитиля и мякоти пороховой лежало, то в один миг, как молния, обняло всю светлицу пламенем, отчего люди только те успели выскочить, хотя опалены уже были, покуда огонь не прошел в подпол; а как скоро дошел огонь, то загорелись в подполе помянутые фейерверочные сметенные остатки, коих, по-видимому, гам было немало, отчего подняло силой половые доски со столами и скамейками к потолку, смяло и перебило всех. Из оных битых и горелых сильных людей человека с три хотя вышли из сего пламени, но от изнеможения пали, к великому всех зрителей сожалению, на землю и через малое время жизнь свою прекратили; а оставшиеся человек с восемь, будучи смяты и завалены досками, погорели все со светлицей вместе. Оного пожара хотя вперва и прилагали приключение от моего небрежения как неотлучного смотрителя, но живые оставшиеся люди, кои работали у Демидова, оправдали меня от сей напраслины; а Бороздина, полковника, неумышленное ко мне на тогдашний час благодеяние оставило меня на свете жива и спасло от сей халдейской печи. Правду сказать, что весьма нужно было в лаборатории быть хорошему и доброму порядку, великому смотрению, которого в тогдашнее время нам никак сделать было не можно от прочих, кои нам не подчинены были: Сартий, итальянец, секретные офицеры, Демидов, подполковник, Бишев, капитан, – у каждого из них особливая работа происходила в лаборатории. Капитан Бишев делал разные инвенции, желая что-нибудь получить себе награждения от Кронштадтского гарнизона, в котором он служил; и таковых было работ под разными званиями премножество, отчего по всей лаборатории происходило, как на площади, собрание разных людей, кроме нашей команды, без всякой осторожности и порядка.
Недели через две после сего приключения, между прочими, при перемене досталось и мне в капитаны и обер-фейерверкеры. В один день случилось мне быть у офицера Худова. Жена его, называя меня именем, спросила, не хочу ль я жениться? Я на то ей отвечал, что до сего времени я о женитьбе никогда не помышлял, а ныне никакого препятствия к сему не вижу, для того что чин мой обер-фейерверкера в поход не ходит. Жена Худова представила мне старушку, торговку Ивановну, которая мне подала записку, в которой написано: в разных уездах состоит мужского пола за невестой девятьсот душ и близ Петербурга небольшая мыза. Я, прочтя оную записку, сказал ей: невеста твоя, голубушка Ивановна, понравилась мне и заочно, потому что она богата. С невестиной стороны не упущено было обо мне изыскать, о моем состоянии сведений; потом назначен был день свидания нашего, смотра, по обыкновению древнему, в церкви. Я в тот день, снарядясь совсем просто, забыл о невестином смотре, велел коляску подать, хотел ехать прямо на работу в лабораторию; слуга мне сказывает: «Не забыли ль вы, что дали слово смотреть вашу невесту?» Я вспомнил и велел ехать к той церкви, в которой назначено было наше свидание. Я вошел в церковь, в которой полковник наш Бороздин, отъезжая в поход, с женой служил молебны; потом увидел я знакомого человека, Измайловского полка адъютанта Петра Топильского, который Воейкову, моему бывшему капитану, был родной племянник; он приехал с моей невестой. По нем я увидел и мою невесту. Угадать было мне ее не трудно: она была, по лишении своего второго мужа, Нечаева, в трауре, только не в глубоком, а шелковом. По прошествии обедни я подошел к Топильскому поздороваться, как со знакомым человеком; невеста моя подошла к нему же; мы при сем свидании, поглядя один на другого, выговорили по нескольку слов между собой; оное все происходило с некоим родом стыдливости, а паче мне, потому что я в первый раз на своей жизни смотрел невесту и товарища, с которым определял себя на весь мой век жить. Разъехались мы из церкви. Невесте моей я тогда (сказывают) не показался своим прибором, что одет был очень не по-женихову, а по-лабораторному, что и правда.
Когда Топильский, ехав со своей женой и моей невестой в одной карете из церкви, дорогой спросил у моей невесты обо мне, что каков тебе жених, на глаза показался? Невеста моя, не знав более за мной никаких пороков, кроме как одной видимой ею на смотре в церкви неопрятности в наряде, отвечала им, что ее глазам я не противен показался. Торговка Ивановна не забыла и меня также, после нашего смотра, спросить: «Что показалась ли тебе невеста, кормилец, которую я тебе сватаю, и ты уже ее видел?» Я сказал ей: «Ивановна, голубка, ведь красавиц выбирают только в полюбовницы, а жена должна быть более добродетельна, нежели красавица». Ивановна, торговка, не забыла также уверить в сем случае свою должность и доказывать экспериментально, что счастье мое ведь зависит от собственных ее трудов и прилежности. Я принял Ивановну в свое объятие, тот момент ухватил ее своими руками за шею, благодаря томно и притворно, не мог Ивановну поцеловать: так она уже была, бедняжка, стара. Невеста моя с Топильским положили между собой условие и назначили время позвать меня к Топилискому в дом обедать. Я приехал в положенный мне день к Топильскому в городовой коляске, а не в карете (которой у меня тогда не было, а чужой взять не хотел), переменя свой лабораторный кафтан и причесав голову получше, нежели как на первом смотре было в церкви. После обеденного нашего кушанья, по приличным на тогдашний случай с обеих сторон разговорам и уверениям, дали мы слово друг другу о взаимной верности в положенном нашем намерении до будущего совершенства браком.
После сего условия нашего отъехал я из Петербурга в Ораниенбаум к великому князю, что был после Петр Третий, для сжения фейерверка и строения малой крепостцы, называемой Петерштадт. Пробыв там более недели, возвратился в Петербург и услышал, что Топильский представлял уже моей невесте жениха другого, Михаила Васильевича (именем и отечеством подобрал точь-в-точь) только не Данилова, а Приклонского, который был тогда при Герольдии в должности герольдмейстера; но судьба, доброходствуя моей определенной участи, невеста на то, дабы избрать ей вместо меня Приклонского, не согласилась, а содержала данное мне слово верно. Я зачал ездить к моей невесте всякий день как жених. Она была в замужестве за первым своим мужем за Кашинцовым, за вторым Нечаевым, который был двоюродный брат графа Шувалова, моего фельдцейхмейстера, в тогдашнее время человека весьма случайного и славного; по той причине Шуваловой фамилии офицеры езжали к моей невесте и, сведав, что она помолвила за меня замуж, угрожали ей моим несчастьем, что-де тот, который на вас женится, не найдет после места и в дальних городах в Сибири. Невеста моя рассказала мне, что слышала предложенные несчастья и угрозы; я оное пренебрег все, помышляя сам собою, что граф не архиерей и что спрашивать его о женитьбе моей совсем лишнее будет дело; притом у невесты моей после Нечаева было тогда два сына, одному четвертый год, а другому меньше года; потому и Шуваловы старались только, чтобы моя невеста для своих детей замуж не ходила, дабы имение ее собственное не раздробилось от ее детей, у которых отцовского не было ни одной души. Не помышляли они тогда о ее молодости, что ей от роду было только двадцать четвертый год.








