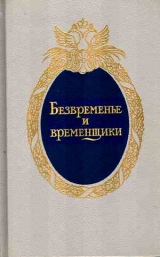
Текст книги "Безвременье и временщики. Воспоминания об «эпохе дворцовых переворотов» (1720-е — 1760-е годы)"
Автор книги: Евгений Анисимов
Соавторы: Михаил Данилов,Наталья Долгорукая,Эрнст Миних,Бурхард Миних
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 25 страниц)
Даже ничто не помрачало бы сияния сей императрицы, кроме (что из многих над знаменитыми и великими особами смертных приговоров оказывалось) что она больше собственному прогневлению, нежели законам и справедливости последовала.
В приватном обхождении была она ласкова, весела, говорлива и шутлива. Сердце ее наполнено было великодушием, щедротою и соболезнованием, но ее воля почти всегда зависела больше от других, нежели от ее самой. Верховную власть над оною сохранял герцог Курляндский даже до кончины ее неослабно, и в угождение ему сильнейшая монархиня в христианских землях лишила себя вольности своей до того, что не токмо все поступки свои по его мыслям наиточнейше распоряжала, но также ни единого мгновения без него обойтись не могла и редко другого кого к себе принимала, когда его не было. Хотя недоверчивое свойство герцога Курляндского немалой требовало привязанности, однако наконец принуждение, в котором он сам чрез то находился, сделалось ему почти несносно. Весьма часто многие слыхали, как он жаловался, что для своего увеселения ни одной четверти часа определить не может. Я сам чрез целые восемь лет не могу припамятовать, чтоб видел его где-либо в городе, в беседах или на пиршествах, но дабы и других людей пример не возбудил в нем к тому охоты, императрица не токмо худо принимала, если у кого из приватных особ веселости происходили, но, называя оные распутством, выговаривала весьма колкими речами. Герцог, с своей стороны, всеми мерами отвращал и не допускал других вольно с императрицею обходиться и буде не сам, то чрез жену и детей своих всегда окружал ее так, что она ни слова сказать, ниже шага ступить не могла, чтобы он тем же часом не был о том уведомлен.
Сей неограниченный и единообразный род жизни естественно долженствовал рождать иногда сытость и сухость в обращении между обеих сторон. Дабы сие отвратить и не явить недовольного лица вне комнаты пред чужими очами, не ведали лучшего изобресть средства, как содержать множество шутов и дураков мужеска и женска пола. Должность большей части сих людей состояла более ругаться и драться между собою, нежели какие-либо смешные шутки делать и говорить. Они набраны были из разных наций и чинов. Российские князья из знатнейших фамилий должны были в сии роли записываться. Чудный и странный внешний вид, глупость или токмо косноязычество составляли достаточные качества, чтобы приняту быть в дурацкий орден. По дарованиям каждого давали соразмерное награждение, однако разум предпочитался обыкновенно телесным способностям. Одному итальянцу по прозванию Пьетро Мира, или сокращенно Петрисло (Педрилло) наименованному, посчастливилось тут столько, что он не токмо богатое имел содержание, но еще и в родину свою повез с лишком двадцать тысяч рублей.
Когда быть страшему и ненавидиму случается всегда вместе, а притом небесполезно во всякое время стараться сколько можно изведывать о предприятиях своих врагов, то герцог Курляндский не токмо в рассуждении первого достаточно был уверен, но также избыточно снабжен был повсеместными лазутчиками. Ни при едином дворе, статься может, не находилось больше шпионов и наговорщиков, как в то время при российском. Обо всем, что в знатных беседах и домах говорили, получал он обстоятельнейшие известия, и поелику ремесло сие отверзало путь как к милости, так и к богатым наградам, то многие знатные и высоких чинов особы не стыдились служить к тому орудием.
Подозрение и легковерие всегда сопряжены бывают неразрывно, почему злобным сердцам нетрудно было и безвиннейших людей замарать и оговорить. Иной, будучи накануне наиблагосклоннейше от императрицы принят, дивился, когда на другой день с величайшею холодностью с ним обращались, не ведая и не домысливаясь, отчего таковая перемена последовала.
Никогда в свете, чаю, не бывало дружественнейшей четы, приемлющей взаимно в увеселении или скорби совершенное участие, как императрица с герцогом Курляндским.
Оба почти никогда не могли во внешнем виде своем притворствовать. Если герцог явился с пасмурным лицом, то императрица в то же мгновение встревоженный принимала вид. Буде тот весел, то на лице монархини явное напечатлевалось удовольствие. Если кто герцогу не угодил, тот из глаз и встречи монархини тотчас мог приметить чувствительную перемену.
В знании и цене людей герцог подвержен был предускорительности и великим погрешностям. Пришлецами обольщался он скоро, но скоро опять ими скучал. Любимцам его и всем вообще курляндцам нередко императрица оказывала сверх меры и благопристойности отличную почесть.
Всех милостей надлежало испрашивать от герцога и чрез его одного императрица на оные решалась. Даже сердечно любимая императрицею племянница, принцесса Анна, принуждена была из опытов научиться, что без сего ходатая долги ее не будут заплачены, равно как и не могла надеяться получить прибавку на содержание свое. Ибо щедрая по природе монархиня не даривала без ведома герцога ни малейшей суммы ни своим домашним служителям, ниже иному, коего услугами она была довольна.
Род жизни ее расположен был весьма умеренно и препорядочно. Она кушала немного и самую простую пищу; обыкновенной ее напиток был не другое что, как пиво, ибо за столом пила она токмо одну или много что две рюмки старого венгерского вина. За стол садилась не позже как в двенадцать часов пополудни и в девять часов ввечеру. Часы, в которые она из комнат своих в публику выходила, во весь круглый год регулярно определены были Если дела не удерживали, то выходила она обыкновенно пред полуднем от одиннадцати до двенадцати часов, а после полудня от четырех до половины девятого часа. В десять часов вечера ложилась она опочивать, а утром вставала около шести или семи часов.
В досужное время не имела она ни к чему определенной склонности. В первые годы своего правления играла она почти каждый день в карты. Потом провожала целые полдни, не вставая со стула, в разговорах или слушая крик шутов и дураков. Когда все сии каждодневно встречающиеся упражнения ей наскучили, то возымела она охоту стрелять, в чем приобрела такое Искусство, что без ошибки попадала в цель и на лету птицу убивала. Сею охотою занималась она дольше других, так что в ее комнатах стояли всегда заряженные ружья, которыми, когда заблагорассудится, стреляла из окна в мимо пролетающих ласточек, ворон, сорок и тому подобных. В Петергофе заложен был зверинец, в котором впущены привезенные из Немецкой земли и Сибири зайцы и олени. Тут нередко, сидя у окна, смотрела на охоту, и когда заяц или олень мимо пробежит, то сама стреляла в него из ружья. Зимою во дворце в конце галереи вставлена была черная доска с целью, в которую при свечах упражнялась она попадать из винтовки.
Герцог Курляндский имел чрезвычайную охоту к лошадям и потому почти целое утро проводил либо в своей конюшне, либо в манеже. Когда же императрица никогда с терпением не могла сносить его отсутствие, то не токмо часто к нему туда приходила, но также возымела желание обучаться верховой езде, в чем, наконец, и успела столько, что могла по-дамски с одной стороны на лошади сидеть и летом по саду в Петергофе проезжаться.
В торжественные и праздничные дни одевалась она весьма великолепно, а впрочем ходила просто, но всегда чисто и опрятно. Придворные чины и служители не могли лучшего сделать ей уважения, как если в дни ее рождения, тезоименитства и коронования, которые каждогодно с великим торжеством празднованы, приедут в новых и богатых платьях во дворец.
Темных цветов как она, так и герцог Курляндский нарочитое время терпеть не могли. Последнего видел я, что он пять или шесть лет сряду ходил в испещренных женских штофах. Даже седые старики, приноравливаясь к сему вкусу, не стыдились наряжаться в розовые, желтые и попугайные зеленые цвета.
Домашние услуги не от каждого без различия она принимала, но токмо от немногих, к которым привыкла.
Я был один из тех, кои пользовались честию ей прислуживать, и никогда не имел сверх одного или двух товарищей. Как однажды отец мой просил герцога о назначении меня министром к датскому двору, то он получил в ответ, что императрица такую сделала ко мне привычку, что трудно будет склонить, дабы она отпустила меня от себя.
Она была богомольна и притом несколько суеверна, однако духовенству никаких вольностей не позволяла, но по сей части держалась точных правил Петра Великого.
Станом была она велика и взрачна. Недостаток в красоте награждаем был благородным и величественным лицерасположением. Она имела большие карие и острые глаза, нос немного продолговатый, приятные уста и хорошие зубы. Волосы на голове были темные, лицо рябоватое и голос сильной и проницательной.
Сложением тела была она крепка и могла сносить многие удручения. Судя по умеренному образу жития ее, могла бы она долговременного и здоровою наслаждаться жизнию, если б токмо каменная болезнь, подагра и хирагра, наследованные скорби, не прекратили дней ее.
Октябрь – ноябрь 1740 года
Как скоро императрица скончалась, то, по обыкновению, открыли двери у той комнаты, где она лежала, и все, сколько ни находилось при дворе, в оную впущены. Тут виден и слышен был токмо вопль и стенание. Принцесса Анна сидела в углу и обливалась слезами. Герцог Курляндский громко рыдал и метался по горнице без памяти. Но спустя минут пять, собравшись с силами, приказал он внесть декларацию касательно его регентства и прочитать пред всеми вслух. Почему когда генерал-прокурор князь Трубецкой с означенною декларациею подступил к ближайшей на столе стоявшей свече и все присутствующие за ним туда обратились, то герцог, увидя, что принц Брауншвейгский за стулом супруги своей стоял, там и остался, спросил его неукоснительно: не желает ли и он послушать последней воли императрицы? Принц, ни слова не вещав, пошел, где куча бояр стояла, и с спокойным духом слушал собственный свой, или паче супруги своей, – приговор. После сего герцог пошел в свои покои, а принцесса купно с принцем опочивали в сию ночь у колыбели молодого императора.
На другое утро на рассвете стояли уже лейб-гвардии полки в строю пред Летним дворцем, и когда около девяти часов съехались ко дворцу все воинские и гражданские знатные особы, то граф Остерман возвестил им о преставлении императрицы и прочитал декларацию о регентстве.
Потом в придворной церкви как молодому императору, так и регенту учинена присяга в верности. За сим обратились все к герцогу и приносили ему поздравление.
Герцог говорил к стоящим подле его сенаторам следующее: что он ненужным считает рекомендовать им о продолжении того усердия, с каковым поднесь подвизались ко благу империи, будучи уверен, что единое уважение нежного возраста молодого императора сильнейшим к тому побуждением служить будет; что он, с своей стороны, каждодневно и каждочасно посвящать себя будет на службу империи, почему не могут они яснейшего довода своей доверенности предъявлять, как если со всеми полезными проектами и нужными резолюциями прямо к нему относиться станут; что он наперсников у себя иметь не будет, и его двери всегда для всех честных людей отверсты быть имеют.
Возвратись в свои покои, повел он с собою отца моего, графа Остермана, князя Черкасского и тайного советника Бестужева, благодарил их за оказанную ими ревность, уверял, что он не оставит на деле доказать свою признательность, и просил о вспомоществовании ему впредь добрыми советами своими.
Того же самого утра приказал он малолетнего императора переселить а Зимний дворец, куда также и принцесса Анна купно с принцем переехали. Напротив того он сам остался в Летнем дворце и не прежде намерен был оттуда выехать, пока тело покойной императрицы не будет предано погребению.
По полудни поехал он на посещение молодого императора и его родителей и, изъявя свое соболезнование принцессе Анне, уверял, что он незамедлительно определит на содержание ее соразмерное жалованье, дабы она по приличию своей породы и звания штат иметь могла.
Отсюда поехал он к ее высочеству великой княжне Елисавете Петровне, которой присудил ежегодной пенсии по пятьдесят тысяч рублей.
В первые дни регентства своего занимался он подробнейшее снискать сведение о состоянии армии и государственных доходов.
Також старался он обласкать Сенат, лишенный в начале правления императрицы Анны Иоанновны прерогативы верховного места по учреждении Кабинета тем, что неоднократно в собраниях оного присутствовал.
Сенат, напротив того, в знак своей признательности, определил герцогу на собственные расходы по пятьсот тысяч рублей ежегодного доходу. А как и титул светлости казался низок для регента, то Сенат приложил ему величание императорскаго высочества, чего однакож герцог дотоле не принимал, пока принцесса Брауншвейгская подобней титул не получила.
Принцесса Анна по сие время имела содержание общее с императорским двором. И дабы она в состоянии была собственное хозяйство вести, то герцог обещал ей двести тысяч рублей годового жалованья.
Сия перемена доставила мне случай удостоверить принцессу на деле о всегдашней моей к ней привязанности. Ибо когда она просила регента назначить к ее двору гофмейстера, к чему мало охотников тогда отыскалось, по причине опасения, что согласие между герцогом и принцессою недолговременным полагали, то я отважился один означенного места от регента просить, которое и получил с удержанием камергерской моей должности при малолетнем императоре.
Не прошло еще и одной недели правления герцога в тишине, как начал он для подкрепления своей власти наистрожайшие употреблять пособия. Два лейб-гвардии офицеры, один капитан и другой поручик, не могли скрыть между разговоров неудовольствия своего на его регентство, причем первого видали также, что он входил и выходил от великой княжны Елисаветы Петровны.
Он приказал обоих их арестовать и под мучительнейшею пыткою допрашивать, не имели ли они какого злоумышленного на него намерения и кто тут сообщниками находятся, но они ни в чем другом не признались, как токмо что все дело в одних разговорах состояло.
Так же поступлено с одним кабинетским секретарем. Сей при сочинении декларации о регентстве показывал копию с оной у великой княжны Елисаветы Петровны и принцессы Анны и роптал, как то он сам после под пыткою признался, на нововводимую форму правления.
Но таковые насильственные поступки, вместо чтоб других устрашить, как то герцог надеялся, служили единственно к превращению ненависти в огорчение и мщение.
Между сим временем пришло известие, что римской император Карл VI, 11/21 числа октября (и, следовательно, за неделю прежде кончины императрицы Анны Иоанновны) умер. Сколько участия принимал бы герцог в распрях австрийского дома, если б он далее в регентстве пребыл, об оном мало тогда заключать было можно. Но что он намеревался гарантированную императрицею Анною Иоанновною прагматическую санкцию подкреплять, оное доказывал после падения его гласным учинившийся трактат с саксонским двором. По силе сего трактата польскому королю обещано не делать со стороны России никакого помешательства в требованиях его на австрийское наследство по праву его супруги и детей. Король, напротив того, гарантировал герцога и его наследников в спокойном владении герцогствами Курляндским и Семигальским.
Сей союз есть единый, который дозволило ему время с иностранными державами постановить.
Что касается до внутренних государственных дел, примечательного другого ничего не было, кроме что он освободил народ от четырехмесячного подушного оклада, дабы вступление в правление молодого императора или паче свое регентство ознаменовать публичным благодеянием.
По арестовании вышеупомянутых офицеров не проходило ни единого почти дня, чтобы герцогу не доносили на разного звания людей, кои по его повелению были истязуемы. Вина сих состояла токмо в некоторых соблазнительных речах.
Но вдруг открыт формальный заговор, при котором следующие были обстоятельства.
Сенатор и тайный действительный советник Михайло (Гаврилович) Головкин, по своей супруге, урожденной княгине (княжне Екатерине Ивановне) Ромодановской, и с матерней стороны двоюродной сестре императрицы Анны Иоанновны, мог похвалиться честию, что он весьма тесными сопряжен узами родства с императорским домом. Невзирая на сие, в последние годы императрица принимала его с нарочитым пренебрежением, так что уважение его при дворе чувствительно ослабилось, причиною чего, сказывают, были некоторые вольныя его речи о поступках герцога. И как он посему мало добра от нынешнего регента ожидать мог, то все его помышления стремились к тому единственно, чтобы его низринуть. Но средство, изобретенное им на то, едва его самого в величайшее не ввергнуло несчастие.
Когда он о возвышении герцога и несправедливости, учиненной чрез то принцессе Анне, многократно в разговорах изъявлял свое неудовольствие довереннейшим своим клиентам, некоторым отставным лейб-гвардии офицерам, и сии дали от себя уверение как в добром расположении своем к упомянутой принцессе, так и что большая часть офицеров из лейб-гвардии полков готовы за нее на все отважиться, то заключение сделано такое, чтобы в сем деле поступить таким же образом, как в 1730 году при восстановлении самодержавия в Москве происходило. На каковый конец и положено, чтобы в назначенный день все без изъятия к заговору приступившие пошли к принцессе Анне и у ног ее просили, дабы она избавила их от ненавистного регента и приняла на себя правление во время малолетства сына ее императора.
Предводителем в сем деле не хотел быть сам граф Головкин, но предложил на то тогдашнего кабинетского министра князя Черкасского, рассудив неосновательно, что сей столь же охотно согласится на сие, как и прежде того сделал, а именно, когда он покойной императрице подносил прошение от дворян об уничтожении аристократической формы правления. Сделав такое положение, назначен был и день, чтобы об оном предложить князю Черкасскому.
Когда означенный день наступил, то упомянутые отставные лейб-гвардии офицеры, явясь к князю Черкасскому, представили о причине своего прихода, напоминали ему о прежнем для блага отечества предпринятом подвиге и усильнейше просили, дабы он, обще с ними, пошел к принцессе и за них предстательствовал. Князь Черкасский, выслушав их весьма терпеливо, похвалил намерение их и под предлогом отправления необходимо нужных дел просил их, дабы они на другой день опять к нему пришли. Но сам, отпустя их, поехал прямо к герцогу и уведомил его обо всем, что происходило.
Чрез два часа все вышеобъявленные к князю Черкасскому приезжавшие офицеры арестованы и того же дня начали о других сообщниках их под пыткою допрашивать.
Они указали на некоторых, но ни один не объявил о графе Головкине, хотя весьма строго о том разведывали, поелику каждому известно было, что они графские клиенты. Один из уличенных был секретарь из россиян принца Брауншвейгского. Когда сего пытать стали, то он признался не токмо, что об оном деле ведал, но открыл также совсем новый заговор, к которому употреблен он с ведома и с согласия принца. По его извету намерение было такое, чтобы уговорить офицеров из того лейб-гвардии полка, в котором принц Брауншвейгский был подполковником, и как весь полк согласен будет, то приступить ко двору и взять регента со всеми его участниками. Между тем секретарь открылся дотоле одному токмо офицеру, а именно – капитану князю Путятину, и возложил на него старание склонять прочих. Путятин тож под пыткою во всем признался и показал поименно тех, которых подговаривал. Сих было числом два капитана и один поручик из означенного лейб-гвардии полка.
Теперь герцог довольные имел опыты, что его правлением публика была недовольна. Несмотря на то, отваживался он подкреплять себя строгостию, полагаясь особенно на верность двух лейб-гвардии полков, как-то Измайловского и Конного, из которых первым командовал его брат Густав Бирон, а другим – старший его сын принц Петр.
Итак, желая принцу Брауншвейгскому показать, сколь мало он его страшится, приказал он его к себе попросить, выговаривал ему в присутствии многих особ за покушение по извету секретаря, называл его неблагодарным, кровожаждущим и что он, если б имел в руках своих правление, сделал бы несчастным и сына своего, и всю империю. Даже когда принц без намерения положил левую руку на эфес своей шпаги, то герцог, приняв сие за угрозу и ударяя по своей, говорил, что он готов и сим путем, буде принц желает с ним разделаться. По долгом словопрении, на котором принц во всем запирался и уверял, что он никакого зла на него не мыслит, разошлись они друг с другом без всяких дальнейших следствий.
Но на другой день герцог препоручил дяде моему действительному тайному советнику Миниху съездить к принцу и изъясниться, что буде он желает, дабы впредь ему верили, то обязан дать за себя залог, состоящий в том, чтобы он неукоснительно отказался от своего звания генерал-поручика от армии и особливо от должности лейб-гвардии подполковника. Принц согласился на сие и послал того же дня герцогу объявить, что он должности свои низлагает, о чем тотчас при армии и лейб-гвардии полках публиковано было.
Герцог не удовольствовался таковым оскорблением, принцу нанесенным, но отправил к нему еще странное посольство с извещением, что благо и полезно для него остаться на несколько дней в своем доме, ибо опасаться надлежит, чтобы народ, огорченный за множество ради его истязанных людей, не отважился, статься может, предпринять что-либо непристойное против его особы.
В сем положении находились дела, и ежедневно ожидали, что как принц, так и принцесса или выедут из государства, или должны будут в отдаленном месте милостивым довольствоваться подаянием, как вдруг отец мой предприял все дальнейшие насильствия прекратить, и сие произвел он в действо следующим образом.
Восьмого числа ноября (1740 года) пред полуднем поехал он к принцессе, представил ей, какой опасности не токмо все верные служители императорских родителей, но также и сама она подвержены в случае, когда герцог Курляндский далее в регентстве останется, и вызвался, буде ей токмо угодно, предать герцога арестантом в ее руки, но дабы офицерам и солдатам, которых он к тому употребить намерен, придать больше бодрости, просил он благоволения присутствовать ей при том персонально. Чем меньше принцесса такового предложения ожидала, тем приятнее оно ей было, но только не могла решиться, чтобы самой туда поехать. Между тем договорено, чтобы отец мой в наступающую ночь приехал опять к принцессе, взял от нее с караула потребную команду и с оною регента арестовал. После чего отец мой, присоветовав ей никому и даже ее супругу ни слова о том не сказывать, откланялся и поехал прямо к герцогу почтение свое отдать, и что того страннее – в тот же самый день у него обедал.
После стола отец мой, возвратись в свой дом, ожидал ночи с великою нетерпеливостью. Между тем жена моя, которая столь же мало, как и я, о том ведала, обще с бароншею Менгден, своячиною моею, поехала к герцогине, ужинала у нее вместе с регентом и почти до полуночи с ними просидела. При сем случае герцог приказал чрез жену мою сказать ее свекру, а моему отцу, что как скоро погребение императрицы отправлено будет, то он повелит выдать ему нарочитую сумму денег на уплату его долгов. Когда же жена моя поздно домой приехала и считала, что отец мой уже спит, то исполнение своего препоручения отложила до другого утра.
Около двух часов пополуночи отец мой с одним токмо тогдашним генерал-адъютантом своим подполковником Манштейном, после бывшим генерал-майором в прусской службе, поехал во дворец, вошел в задние ворота, которые нарочно на то отверсты стояли, и прямо в покои принцессы. Принцесса легла уже опочивать с своим супругом, но наперед наказала жены моей сестре фрейлине Юлиане Менгден, как скоро отец мой придет, войти к ней и ее разбудить. Сия, сколько ни старалась, не могла исполнить оное так скромно, чтобы и принц от того не пробудился, но как сей вопросил у принцессы, что ей сделалось и зачем она встает, то в ответ сказала она, что ей занемоглось и чтоб он остался в постели, а она тотчас назад будет.
Вышед к отцу моему, говорил он ей, что теперь настоящая пора дело свершить, и вторично просил, дабы она вместе с ним поехала.
Она ни под каким видом на то не соглашалась, почему отец мой советовал, чтоб она по крайней мере приказала позвать вверх караульных офицеров и объявила им о сем предприятии, сделав увещевание, дабы они верно во всем поступили и за ним следовали.
Сей совет принят, и когда офицеры вошли, то она вещала, что она надеется на них как на честных людей, что не отрекутся малолетнему императору и его родителям важнейшую оказать услугу, состоящую в том, чтобы арестовать герцога, Которого насильствия сколько им ненавистны, столько и известны. Почему и просит она все, что от фельдмаршала приказано будет, доброхотно исполнять и уверену быть, что их верность без награждения оставлена не будет. Наконец обняла она отца моего, допустила офицеров к руке и желала им благополучного успеха.
После сего пошел он с ними в кордегардию, взял тридцать человек с караула с тремя офицерами и направил стопы свои прямо к Летнему дворцу, в котором регент тогда находился.
В сие самое время лежал я, не ведая ничего, в передней комнате у малолетнего императора, будучи тогда дежурным камергером, в приятнейшем сне, почему немало ужаснулся, как вдруг, пробудясь, увидел принцессу, на моей постели сидящую. Я вопросил о причине, она с трепещущим голосом отвечала:
«Мой любезный Миних, знаешь ли, что твой отец предприял? Он пошел арестовать регента. – К чему присовокупила еще: – Дай Боже, чтобы сие благополучно удалось!»
И я того же желаю, сказал я, и просил, чтобы она не пугалась, представляя, что отец мой не преминул надежные на то принять меры.
Потом принцесса обще с фрейлиною Менгден, которая одна при ней находилась, пошла в спальню малолетнего императора, а я скорее выскочил из постели и оделся. Немного спустя пришел и принц, которому принцесса тут во всем открылась.
С какою теперь нетерпеливостью ожидали мы известия об успехе означенного предприятия, оное всяк легко себе вообразить может.
Регент, как упомянуто, обретался в Летнем дворце, где лежало еще тело покойной императрицы. Здесь находился караул с лишком из трехсот человек, которые, буде бы на герцогской стороне были, арестованию его легко воспрепятствовать могли, но отец мой, из предосторожности к предприятию сему, избрал такой день, в которой все караулы из Преображенскаго полку наряжены, где он был подполковником. Приблизясь на несколько шагов к Летнему дворцу, выслал он вперед офицера сказать караульному капитану, дабы он никакого шуму не подымал, а пришел бы к нему с двумя другими офицерами. Сии явились без замедления, и когда он о причине своего прихода им объявил, то они уверяли, что у них ни один караульный не пошевелится. После чего отец мой продолжал шествие свое до самого въезда во дворец. Отсюда отрядил он своего генерал-адъютанта Манштейна с двенадцатью гренадерами в герцогские комнаты.
Все мимо встречающиеся часовые, по данному им приказу, пропускали его без задержания, так что Манштейн дошел благополучно до дверей спальни и приказал их ломать потому, что они изнутри заперты были. Герцог пробудился на сей шум, вскочил и, думая, что его убить хотят, намерен был под кровать спрятаться, но Манштейн наступил на него, и пока герцог руками и ногами оборонялся, подбежали гренадеры и его схватили. Накинув на него шубу, посадили его в подвезенную отца моего карету. Супруга его и дети оставлены в их покоях за караулом. С сею добычею отец мой отправился опять к принцессе и принесенною им самим первою вестию неизреченную произвел радость.
На сем возвращении арестован также и брат герцога Густав Бирон, имевший жительство в одной мимо лежащей улице, и то же самое в ту же ночь сделано над тайным советником и кабинетским министром Бестужевым, которого винили, что он отменно предан был регенту.
Засим герцога, равно как и брата его, посадили до дальнейшего распоряжения в особых покоях дворца за крепким караулом.
Ноябрь 1740 года
Еще пред рассветом обнародовано о сем происшествии в целом городе, и все чиновники вообще по учиненным повесткам съехались ко двору. По принесенном поздравлении родителям императора было чрезвычайное собрание совета, в котором положено просьбою утруждать принцессу с титулом императорского высочества великой княгини российской принять правление во время малолетства ее сына.
Принцесса, приняв оное ко благоугодности своей, и по отпетии литургии и благодарственного молебна при пушечной пальбе учинена ей в верности присяга, и в тот же самый день, как во все провинции империи, так и к иностранным дворам, отправлены курьеры с известием о сей воспоследовавшей перемене.
Ввечеру прежде бывший регент купно со своею фамилиею под сильным прикрытием отправлен в Шлиссельбургскую крепость в шестидесяти верстах от Санкт-Петербурга. Принцесса, при вывозе его из дворца, стояла у окна и смотрела, но, не могши удержать своих слез, вещала, что она совсем иное ему готовила, если б он сам не понудил ее иначе с собою поступить, присовокупя к тому, что если б он прежде предложил ей добровольно правление, то бы она с честию и со всеми сокровищами отпустила его в Курляндию.
Следующий день назначен был для раздачи разных милостей и чинов, и всем, кои вход ко двору имеют, повещено пред полуднем собраться в комнатах принцессы.
Дабы не показалось кому-либо странным, что в сие производство граф Остерман великим адмиралом и князь Черкасской великим канцлером пожалованы, нужным считаю вкратце упомянуть, какие причины служили к тому поводом.
Утром весьма рано приказал отец мой позвать к себе меня купно с президентом бароном Менгденом и предложил, чтобы мы, кого считаем достойным к пожалованию или к награждению, представили ему и притом с показанием нашего мнения, чем и как кто наилучше награжден быть может. Мы исполнили сие тут же, после чего приказал он мне взять перо и писать, что он мне говорить станет. Первое было, чтобы ее высочество великая княгиня и регентша благоволила возложить на себя орден Св. Андрея, и второе – генерал-фельдмаршала графа Миниха за оказанную им услугу пожаловать в генералиссимусы.
Окончав сие, представил я ему, что хотя он по всем правам и заслугам сего достоинства требовать может, однако я думаю, что, статься может, принц Брауншвейгский для себя оное готовит, почему и нужно бы было пристойным образом о сем у него разведать, в каковом случае советовал я отцу моему испросить себе титул первого министра. На сие он согласился и, оставя прежде упомянутое достоинство, избрал для себя последнее.








