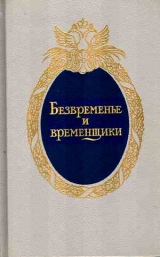
Текст книги "Безвременье и временщики. Воспоминания об «эпохе дворцовых переворотов» (1720-е — 1760-е годы)"
Автор книги: Евгений Анисимов
Соавторы: Михаил Данилов,Наталья Долгорукая,Эрнст Миних,Бурхард Миних
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 25 страниц)
Письмо XXVII
Петербург, 1735.
Мадам,
Вы слишком любознательны и слишком любите необычное, чтобы я могла надеяться на Ваше снисхождение, если не расскажу о новом развлечении, которое было у нас при дворе этой зимой. Из досок соорудили приспособление, которое спускается с верхнего этажа во двор. Ширина ската достаточна для экипажа, а с каждой стороны маленький бортик. Скат залили водой, которая вскоре замерзла, затем его поливали еще, пока он не покрылся довольно толстым льдом. Придворные дамы и кавалеры садятся в сани, которые подталкивают сверху, и они летят вниз. Движение такое быстрое, что его не определишь никаким иным словом, кроме как полет. Порой, если на пути санок встречается какое-нибудь препятствие, седок вылетает из них кувырком; я полагаю, это делается ради шутки. Каждому смертному, появляющемуся при дворе, приходилось съехать с этой ледяной горы, как ее называют, но пока никто не сломал себе шеи. Я до потери сознания страшилась, что мне тоже придется съезжать по этому ужасному спуску, – не только из боязни сломать себе шею, но и просто очутиться в неприличном положении, о котором без ужаса и подумать-то нельзя, и я какое-то время не бывала при дворе, почти надеясь, что кто-нибудь, сломав себе руку или ногу, положит тем самым забаве конец; но все-таки я была вынуждена появиться там. Кто-то воскликнул: «Вы никогда не катались», ибо каждый был рад, если с его ближним обходились так же, как с ним самим. Услышав это, я готова была умереть, но ее величество сказала, что мое теперешнее положение не позволяет кататься, и, таким образом, меня простили. Если Вам придет в голову приехать сюда, пока это гора существует, Вам непременно надо иметь такой же предлог не кататься, иначе поедете вниз.
Теперь о Ваших семейных делах. Услышав, как Вы сетуете, что Вам не удалось убедить ни одну из этих дам пойти на малейшие уступки, и впрямь можно подумать, будто Вы очень плохо знаете род человеческий или не изучали людских страстей (хотя относительно и того и другого я уверена в обратном). Я уже говорила Вам, что это невозможно, поскольку обе дамы тешат свою гордыню. Предположи я, что это доставит Вам столько хлопот, я бы не втягивала Вас в это дело, но мне сдается, мадам, что при всем Вашем благоразумии, за устройством этого дела в Вас чуточку заговорило нечто, именуемое гордостью, и Вы уязвлены тем, что, несмотря на такое превосходство Вашего ума, не можете убедить их. Так ведь именно по этой причине и не можете: Ваши слова выше их понимания, поскольку мысли ни одной из них никогда не шли дальше болтовни за карточным столом или в обществе. Поскольку же мои умственные способности ближе к их способностям, чем Ваши, то, мне представляется, я могу Вам присоветовать путь более успешный, нежели убеждение. Когда которая-нибудь из них пожалуется Вам на другую, поддержите ее, побранив отсутствующую, н, смею сказать, обе рассердятся на Вас и объединятся. Это навело меня на мысль посоветовать м-ру Б, привлечь кого-нибудь для исполнения такой проделки, но, подозреваю, он слишком прямодушен и отнесется с презрением к победе, достигнутой посредством подобной хитрости, а потому не последует совету Вашей, и проч.
Письмо XXVIII
Петербург, 1737.
Мадам,
Вы нашли способ жестоко отомстить мне за план, который я лишь думала внушить м-ру Б. Вы требуете, чтобы я описывала характеры людей в столь не свойственной мне манере или же впредь не писала бы Вам вовсе, хотя в конечном счете наказаны-то за это распоряжение будете Вы.
Герцог и герцогиня Курляндские (которые прежде, как Вам известно, были графом и графиней Бирон) по-прежнему пребывают в таком фаворе, что от их насупленных бровей или улыбки зависит счастье или несчастье всей империи, то есть настолько, насколько благосклонность может способствовать первому или немилость дает повод ко второму. Людей, которых бы один из них или оба вместе не подчинили себе, так мало, что весь народ находится в их власти. Герцог очень тщеславен, крайне вспыльчив и, когда выходит из себя, несдержан в выражениях. Будучи к кому-то расположен, он чрезвычайно щедр на проявления своей благосклонности и на похвалы, однако непостоянен; скоро без всякой причины он меняется и часто питает к тому же самому человеку столь же сильную неприязнь, как прежде любил. В подобных случаях он этого не может скрыть, но выказывает самым оскорбительным образом. Герцог от природы очень сдержан, но, пока благосклонен, ведет себя с любимцем весьма непринужденно. Он прям – если не считает нужным или не желает дать правдивый ответ, то не отвечает вовсе. Он презирает русских и столь явно выказывает свое презрение во всех случаях перед самыми знатными из них, что, я думаю, однажды это приведет к его падению; однако я действительно считаю, что его преданность ее величеству нерушима и благо своей страны он принимает близко к сердцу.
Его герцогиня надменна и угрюма, с неприятными обликом и манерами, что делает невозможным уважение, которое она хотела бы приобрести таким способом, то есть уважение искреннее, а не показное. Сказать по правде, хотя меня и называют ее фавориткой и она благосклонна ко мне более, чем к другим, в сердце моем нет чувства, которое называю уважением; ибо соблюдение этикета соответственно ее положению я бы не назвала уважением, хотя это и именуют так. И сама она заблуждается на сей счет, поскольку, внезапно так сильно возвысившись, она вышла из своего круга и полагает, будто надменностью можно вызвать уважение. Будь она частным лицом, она была бы тем, что д-р П. называет «аристократкой», и я предоставляю ему самому разъяснить Вам, кого он так величает. Герцогиня не вмешивается в дела или служебные назначения, но делает вид, что все время, свободное от присутствия при ее величестве, отдает воспитанию своих детей и рукоделию. Со светом она знакома мало, не отличается большим умом, хотя и не глупа; любит наряды. Вы восклицаете: «Она ведь женщина, так что это неудивительно!» Может быть, и так, но делать подобные замечания предоставьте мужчинам.
Итак, я, послушавшись Вас, расправилась с двумя аристократами нашей северной стороны и надеюсь (хотя и очень старалась), это послание заставит Вас запретить подобные описания той, которая, и прочие.
Письмо XXIX
Петербург, 1737.
Мадам,
вместо того чтобы избавить меня от заданий, порученных мне. Вы требуете выполнения еще больших. Я полагала, что исчерпывающе описала герцога и герцогиню в последнем письме, но Вы задаете о них много вопросов, на кои отвечу по порядку. Он сохраняет пост обер-камергера ее величества, хотя сам является сувереном, а она по-прежнему первая фрейлина, с той лишь разницей, что теперь, при ее новом титуле, садится в присутствии ее величества, когда садятся принцессы, и на всех общественных собраниях ей целуют руку. Бироны живут во дворце, но имеют все те же придворные чины из числа своих подданных, как и ее величество, и желания герцога и герцогини, когда они при дворе, выполняются этим штатом. То есть у него есть собственный камергер, а у нее – фрейлины; герцогская чета имеет собственные, и очень пышные, выезды с ливрейными слугами.
Граф Остерман – вице-канцлер империи, и устройство всех дел возложено на него, хотя всем руководит герцог. Остермана считают величайшим из нынешних министров в Европе, по поскольку искренность – качество, которое обычно не считается обязательным в этой профессии, граф не допускает, чтобы она мешала исполнению задуманных им планов. Он любезен и обладает интересной внешностью, а когда выходит из своей роли министра, то оказывается очень занимательным собеседником. Родом он из Вестфалии и приехал сюда в качестве личного секретаря одного голландского адмирала, состоявшего тогда на русской службе. Увидев одну бумагу, переведенную Остерманом на русский язык, Петр Первый послал за ним и, по свойственной этому монарху гениальной проницательности, в разговоре скоро открыв в нем глубокий ум, взял его к себе, постепенно возвысил до занимаемого им теперь поста и женил на русской даме очень красивой, знатной и богатой, хотя сам граф продолжает оставаться лютеранином. Он не алчен, поскольку остается бедным при всех предоставлявшихся ему возможностях. Он был наставником Петра Второго и главной силой, приведшей князя Меншикова к падению, но вскоре был заменен князем Долгоруким, большим фаворитом сего юного монарха, и кое-кто полагает, что только смерть последнего уберегла графа от падения, поскольку фаворит боялся его коварства и осведомленности, подтверждение которым видел в падении Меншикова. Граф был очень галантен, но никогда не стремился обольстить светскую даму, поэтому его любовные похождения не делали много шума, а сейчас он, кажется, считает женщин более просто веселыми и хорошенькими игрушками (чтобы, расслабившись в свободный час, отвлечься на пустяки и болтовню), чем мужчин, которые непременно поведут разумные беседы, тогда как ему хотелось бы услышать лишь вздор. Я знаю, Вы полагаете большинство представительниц нашего пола как нельзя лучше подходящими для этого и убеждены, что так обстоит по крайней мере с Вашей, и прочие.
Письмо XXX
Петербург, 1737.
Мадам,
я вижу, вы нетерпеливы, а потому берегитесь! К графу Остерману добавлены еще двое, составляющие кабинет министров Один из них – князь Черкасский, русский, персона замечательная во многих отношениях. Прежде всего (и, по мнению многих, самое важное), он очень богат: владеет тридцатью тысячами глав семейств, как рабами, и наследница – его единственная дочь. Затем – фигура князя, которая в ширину несколько больше, чем в высоту; его голова, очень большая, склоняется к левому плечу, а живот, тоже большой, – направо. Его ноги, очень короткие, всегда обуты в сапоги, даже на придворных приемах по случаю больших Праздников. Ну и, наконец, он знаменит своей молчаливостью; он, мне кажется, никогда не говорит более, чем некий член другого знаменитого собрания, который, как мы с Вами знаем, сделал это в опубликованной речи. Но владения и знатность князя потребовали для него почетной должности, и он наверняка не станет ни утруждать себя делами, ни мешать кабинету своим красноречием.
Другой кабинет-министр – граф Ягужинский. Его наружность прекрасна, черты лица неправильны, но очень величественны, живы и выразительны. Он высок и хорошо сложен. Манеры его небрежны и непринужденны, что в другом человеке воспринималось бы как недостаток воспитания, а в нем столь естественно, что всякому видно: иное ему не пошло бы, ибо при такой непринужденности, когда каждое его движение кажется случайным, он преисполнен достоинства, привлекающего к себе все взоры даже в очень большом собрании, словно является в нем центральной фигурой. У него тонкий ум и тонкие суждения, а живость, так ясно читаемая на лице, присуща всему его характеру, поэтому за день он успевает сделать больше, чем большинство других – за неделю. Если кто-нибудь просит его покровительства и он имеет основательную причину для отказа, то прямо говорит, что не станет этого делать потому-то и потому-то. Если же сомневается, то назначает время для ответа, а тогда говорит «помогу» или «не могу помочь» и по какой причине. Пообещав выполнить просьбу, он скорее умрет, чем нарушит данное слово. Он всегда без лести высказывает высокопоставленным особам свое мнение, и если бы даже первейшее в империи лицо поступило неверно, он сказал бы это так же откровенно, как и о самых низших. Подобное в этой стране столь опасно, что заставляет его друзей постоянно дрожать за него. Но покуда все облеченные самой большой властью боятся его, ибо его суждения столь справедливы, но и столь суровы, что все трепещут перед ним. Он дружен лишь с очень немногими, хотя многим оказывает услуги; но в дружбе он очень постоянен: ничто не может поколебать его дружеского расположения, разве только когда сам убедится в очень дурном поведении человека. Граф предпочитает уклоняться от обременительных церемоний, сопряженных с его положением, и любит обедать по-семейному с другом, и тогда он – один из самых очаровательных собеседников, какие только бывают. Я должна привести один пример его человечности, который позволит Вам судить о графе лучше любых моих слов. Однажды он обедал у нас по-дружески, как он любит, и я говорила об этом выше (честь, которую он часто оказывает нам, поскольку питает дружеские чувства к м-ру Р. и всегда выказывал их также и мне), и я с состраданием и озабоченностью упомянула об одном бедняге, навлекшем на себя недовольство ее величества и долго томившемся в заключении. Несмотря на то, что граф, пришедший к нам отдохнуть, мог обидеться на разговор о делах, он тотчас сказал: «Матушка, – он всегда зовет меня так, – я позабочусь о нем, но пока не могу этого сделать». Прошло три месяца, и я уже искала возможности напомнить ему об обещании, о котором, как я думала, он забыл, но (в день рождения ее величества) он пришел ко мне и сказал, что тот человек освобожден и восстановлен во всех своих должностях. При этом граф добавил: «Я люблю Ваше сострадательное сердце и, знаю, облегчил его тем, что помог человеку в беде; всегда смело обращайтесь ко мне, причем без всяких сомнений, как в этот раз». Он был большим любимцем Петра Первого, который всегда называл его «своим оком», ибо говорил: «Если Павел увидит что-то, я узнаю истину с той же точностью, как если бы видел это сам». Но моя бумага советует сказать Вам, что остаюсь, и прочие.
Письмо XXXI
Петербург, 1737.
Мадам,
велик соблазн обмануть Вас, сообщив, что господин, которым Вы так очарованы, холост. Ведь мне сдается, если бы это было так, Вы бы приехали сюда и постарались покорить его. Но увы! К несчастью – и его, и Вашему, – у него такая жена, что он сам не знает, как с нею быть, и я советовала бы Вам не вставать у него на дороге. Потому, знаете ли, что он считается с моим мнением и я заставила бы его показать Вам, сколь неразумно и жестоко Вы обходитесь с м-ром Б., и я уверена: Вы не смогли бы устоять против его доводов. Следовательно, если Вы склонны завоевать славное звание старой девы, не попадайтесь ему на пути, ибо он с его проницательностью быстро поймет, что Ваш деспотизм – результат покорности м-ра Б., и, стало быть, так укротит Вас, что Вы тут же сделаетесь всего лишь женой того, кого давным-давно покорили.
Должна рассказать Вам историю одной дамы, мужеству которой дивлюсь, но не имею ни малейшего желания последовать ее примеру. Польский посол и его супруга были приглашены на обед к графу Ягужинскому, где должно было собраться большое общество. Граф живет на одной стороне реки, а они – на другой. Когда они по льду переезжали реку, лед треснул, ее сани провалились в воду, и она с большим трудом выбралась, вымокнув с головы до ног Она отправилась домой, а ее муж поехал дальше, извинился за опоздание и очень спокойно поведал о приключившемся с его женой. Предоставляю Вам судить относительно причины спокойствия: было ли это большое sang froid [79]79
Хладнокровие (фр.).(Примеч. пер.)
[Закрыть]или радость, что она спаслась. Но вот что меня поразило. Когда подали десерт, появилась сама эта дама. Она переоделась, снова решилась переехать через реку и ничуть не выглядела расстроенной; она танцевала с нами всю ночь, а затем снова по льду поехала домой. Все общество выражало ей свое восхищение такой отвагой. Я же, должна признаться, посмотрела на это дело с другой точки зрения и увидела в нем явное свидетельство легкомыслия, в котором обвиняют наш пол (подвергаться большому риску ради бала); жаль, что так поступила женщина.
Коль скоро я заговорила об этой даме, должна добавить еще кое-что о ней и ее соотечественницах. Здесь вместе с нею присутствовали еще две знатные польские дамы. Все они внешне очень эффектны, хотя и не красавицы, грациозны, очень веселы, но несколько чопорны. Все они любят танцевать и петь и всякого рода развлечения; их тело и дух, кажется, никогда не ведают усталости. Они очень приятные собеседницы – на один час, но слишком утомительны для меня при более долгом общении, ведь я, как Вам известно, способна утратить интерес, особенно к людям, обладающим высокомерием духа, если можно так выразиться, У них великолепные слуги, одежда, но в них столько национальной гордости и воинственности, что теряется мягкость, присущая нашему полу. Однако последнее наблюдение заставляет меня задуматься над тем, насколько несвойственна мне манера, в которой Вы вынуждаете меня действовать. Коротко говоря, если бы мои письма к Вам кто-то увидел, какой смешной я бы выглядела! Впрочем, Ваши желания для меня обязательны, и мои действия – более сильное доказательство моей дружбы, нежели уверения в ней в каждом письме.
Я действительно ощущаю недостаток таланта для удовлетворения Ваших требований ко мне, но никому не уступлю чести быть преданной Вам и любящей Вас, и проч.
Письмо XXXII
Петербург, 1737.
Мадам,
Вы очень добры, упрекая меня в том, что я отважилась ехать через реку после того случая, описанного мною Вам в последнем письме. Но м-р X., рассказывая Вам об опасности, которой я себя подвергала, должен был указать и причину; я поехала навестить больную, даже умирающую даму. Она чужая в этой стране, и если бы я не решилась ехать, то она в таком состоянии осталась бы на попечении слуг. Теперь, смею сказать. Вы согласитесь со мной, что человеколюбие – более сильный побудительный мотив, нежели храбрость, и, следовательно, сей геройский поступок (как и многие другие) сам по себе весьма незначителен, если известны все обстоятельства.
Скажите, пожалуйста: гуляя среди толпы в парке, можете ли Вы назвать имя каждого, кто там есть? Если нет, то как же Вы можете спрашивать меня, кто еще составляет двор? Я рассказала Вам о тех, кто ведает внутренними и внешними делами. Остальные только заполняют круг, это, как и при большинстве других дворов, военные и придворные, хотя здесь между этими двумя категориями большее различие, чем при некоторых иных дворах. Первые, как правило, – грубые варвары; их вышагивание, свирепость облика и манеры заставляют вспоминать об ужасной стороне их ремесла и задуматься, уместны ли они вообще на дворцовых приемах. Правда, надо отдать им справедливость: это не проявляется в их разговоре.
Другие – такие же, что и везде, просто милые молодые люди, то есть пустое место в изящных одеждах. В одном из писем я описывала Вам развлечение, называемое катанием, которое, полагаю, заставило Вас вообразить, будто бы мы все здесь обратились в канатных плясунов и акробатов. Теперь, пожалуй, мы все станем для Вас драгунами: нынешнее развлечение двора – стрельба по неподвижной и летящей цели. Этого, в отличие от первого, мне избежать не удалось; однажды я выстрелила из ружья и, как мне сказали, попала в цель. Впрочем, я так испугалась, что и не видела ее, однако могу Вас уверить, хоть я и ужасная трусиха, некоторые из упомянутых выше веселых красавчиков казались еще более испуганными. И осмелюсь заметить, если бы юбки были освобождены от этого развлечения, такие мужчины охотно отдали бы свои штаны первой же женщине, которая захотела бы их взять. В этом я совершенно согласна с ними: все женщины, склонные к подобным забавам, должны носить штаны. Однако какой бы вид – щеголя, повесы или какой-либо еще – мне ни пришлось принять, неизменно останусь Вашей, и проч.
Письмо XXXIII
Петербург, 1737.
Мадам,
Вы, конечно, полагаете, что я и впрямь стала ханжой, если думаете, мне должно доставить удовольствие описывать представительниц нашего пола, или хотите заставить меня поверить (а я все еще не могу этого сделать), будто сие доставляет удовольствие Вам. Ведь если одна из нас или мы обе не принадлежим к разряду людей надменных, то нам следует удовлетвориться наблюдением за своим собственным поведением (чтобы быть настолько безупречными, насколько возможно женщинам), а не разбирать поведение других. Но поскольку я не могу отказать Вам ни в одной Вашей просьбе, хотя и удивляюсь им, то, пожалуй, представлю, что мы болтаем за чашкой чаю и обмениваемся мнениями о нарядах ко дню рождения и брюссельских кружевах, и расскажу Вам, что и кто мне нравится, придавая этому столь же мало значения, как если бы говорила о платье, а не о женщине. Я сделаю это тем откровеннее, что – хулю я или хвалю – это не может иметь дурных последствий, ибо все люди, о которых я должна говорить, Вам незнакомы, иначе даже Вы не убедили бы меня высказать свое мнение, хотя оно и слишком мало значит, чтобы кого-то потревожить или кому-то повредить.
Я уже, как могла, описала Вам ее величество, принцесс и герцогиню Курляндскую. Мадам Адеркас – воспитательница принцессы Анны. Она родилась в Пруссии и является вдовой генерала – кажется, француза. С ним она побывала во Франции, Германии и Испании. Она чрезвычайно привлекательна, хотя и немолода; ее ум, живой от природы, развит чтением. Она повидала столь многие различные дворы, при большинстве которых ей какое-то время доводилось жить, что это побуждало людей всех званий искать ее знакомства, а ее способности помогли ей развить ум в беседах с интересовавшимися ею людьми. Поэтому она может быть подходящим обществом и для принцессы, и для жены торговца и подобающе поведет себя с той и с другой. В частном обществе она никогда не оставляет придворной учтивости, а при дворе не утрачивает свободы частной беседы. При разговоре она ведет себя так. словно старается научиться чему-то у собеседников, хотя я считаю, что отыщется весьма мало таких, кому не следовало бы поучиться у нее. После того как я покинула Вас, самые приятные мои часы (в отсутствие м-ра Р.) были проведены с нею, хотя ее положение позволяет мне встречаться с нею реже, чем хотелось бы, но когда это удается, я не упускаю случая узнать что-либо полезное и насладиться ее обществом.
У нее есть единственная дочь, которая находится при ней и которая унаследовала ее здравый смысл и благородство ума, но не внешность. В последнем природа оказалась ей мачехой, поэтому дочь не произносит и половины тех очень умных речей, которые бы высказала, будь она красива. И если представители одного пола по этой, быть может, причине, не усматривают в речах дочери большого интереса, то представительницы другого по той же причине находят, что она высказывает массу умных мыслей. Но в эту самую минуту входит она сама, поэтому sans ceremonie [80]80
Без церемоний (фр.). (Примеч. пер.)
[Закрыть], и проч.
Письмо XXXIV
Петербург, 1738.
Мадам,
не думаете, что могли бы заставить одну женщину говорить о другой или о многих других и не услышать ничего скандального. По крайней мере, пока я выполню задачу, поставленную Вами передо мной, Вы поймете, что в этом я не отличаюсь от большинства представительниц моего пола. Только что у меня была с визитом одна из наших красавиц, жена русского господина, которого Вы знавали в Англии, – м-ра Лопухина. Это одна из фрейлин и племянница той дамы, о которой я Вам рассказывала, что она была любовницей Метра Первого. Но скандальная хроника гласит, что добродетель племянницы победить было не столь трудно. Она и ее любовник, если он действительно таковым является, очень постоянны в своем сильном и взаимном чувстве на протяжении многих лет. Она приезжала отдать мне визит после ее родов. Когда она родила, я при первой же встрече поздравила ее мужа с рождением сына и спросила, каково самочувствие супруги. Он ответил по-английски: «Почему Вы спрашиваете меня? Спросите графа Левенвольде, он знает лучше». Увидев, что я совершенно озадачена его словами, добавил: «Да весь свет знает, что это правда, и это меня ничуть не волнует. Мы были вынуждены пожениться по желанию Петра Великого. В то время я знал, что она ненавидит меня, а сам я был к ней совершенно равнодушен, хотя она красива. Я не могу ни любить ее, ни ненавидеть и теперь по-прежнему равнодушен к ней. Так почему же я должен расстраиваться из-за ее связи с человеком, который ей нравится, тем более что, надо отдать ей должное, она ведет себя настолько благопристойно, насколько позволяет положение». Судите сами о моем смущении или подумайте о том, как бы Вы поступили в таком случае. Скажу Вам, что сделала я: внезапно оставила его, заговорив с первым подвернувшимся человеком. Эта дама говорит только по-русски и по-немецки, так что мы можем обсуждать лишь простые вещи, ведь я плохо говорю и на том, и на другом. Посему могу сообщить разве только о ее наружности, которая действительно хороша. Кажется, я уже сказала достаточно, но не могла обойти молчанием эту историю, показавшуюся мне очень необыкновенной, хотя и презираю себя за злоязычие, в котором повинна и которое Вы едва ли простите своей, и проч.
Письмо XXXV
Петербург, мая 10, 1739.
Мадам,
теперь я собираюсь рассказать Вам о даме, которая, мне кажется, очарует Вас. По происхождению она – знатная венецианка, вышла замуж за старика, который уже много лет живет в этой стране, хотя родился в Рагузе. В Венецию его послал Петр Великий по какому-то важному делу, и там он женился на этой даме, или скорее купил ее, поскольку он сказочно богат. Сейчас ей двадцать пять лет, она высокая, хорошо сложена, мила и грациозна. Черты лица ее довольно резкие, но у нее необыкновенно красивые большие черные глаза, и вся она похожа на слышанные мною описания римских красавиц. Старый муж держит ее при себе и почти никогда не отпускает никуда, кроме двора, где она постоянно появляется во всем блеске, какой только могут придать великолепные платья и драгоценности очень элегантной особе. У нее огромное количество очень крупного прекрасного жемчуга; столько, что некоторые дамы начали подозревать, что он фальшивый, и, следовательно, возымели сильное желание убедиться в правильности своего подозрения, что доставило бы им большое удовольствие. Здесь в моде держать шутов обоего пола, которым позволено говорить и делать тысячу глупостей. Одна из таких шутих взялась открыть этот занимавший всех секрет. Соответственно, как только она в следующий раз увидела даму при дворе, то стала с воодушевлением говорить ей о ее наружности и наконец сделала вид, что целует ее в шею, а делая это, укусила одну из жемчужин. Почувствовав это, дама ударила ее по уху и сказала, что удар этот поможет той помнить, что знатные венецианки не носят поддельных драгоценностей. Шутиха, удивленная ударом, вскрикнула и заявила, что пожалуется ее величеству, которая находилась в другой комнате. Дама весьма сдержанно ответила: «Если вы поступили так по приказу ее величества, то должны были сказать мне об этом. Если же нет, то, полагаю, она будет довольна, что я наказала вас за дерзость по отношению к человеку моего положения, не обременяя ее формальной жалобой». Шутиха какое-то время не показывалась [при дворе], и дело было замято.
Теперь, полагаю, Вы воскликнете: «Ах, как мне нравится ее присутствие духа!» и жаждете задать о ней тысячу вопросов. Но, как я уже говорила, она нигде, кроме двора, не бывает, а там разговаривают только на общие и бытовые темы. Поэтому я ничего о ней не знаю и могу судить о ней только на основании этого случая, который, признаться, как-то не согласуется с низостью души, нужной женщине, чтобы за деньги продаться немощному старику. Я ведь почти согласна с шотландским священником, который сказал девушке, за небольшую сумму продавшей свою благосклонность: «Лучше бы ты сделала это во имя Господа». Не сомневаюсь, что они обе равно продались, и должна признаться: я прониклась к этой даме таким презрением, что едва с нею разговаривала, хотя после описанного случая и испытывала сильное желание познакомиться, поскольку полагала, что вижу Вас воодушевленной таким поступком. Но, учтя многократно сказанные Вами мне слова о том, что только лишь Ваша пристрастная дружба может простить мне мою беспринципность (lameness), как Вы ее называете, сочла за лучшее воздержаться от этого. Не стремясь к новым знакомствам, с удовлетворением остаюсь Вашей, и проч.
Письмо XXXVI
Петербург, 20 июня 1739.
Мадам,
я очень рада, что Вы одобряете меня за нежелание познакомиться с венецианской дамой, однако несколько обижена Вашим заявлением, что она Вам нравится, но я не подхожу для бесед с нею. Правда, меня отчасти утешает Ваше мнение о недостаточной тонкости чувств, проявленной ею при выборе [супруга], поскольку нахожу, что она нравится Вам лишь способностью тотчас и сурово возмутиться. Думаю, она не расплачется от резкого слова подруги – эту слабость, как мне известно, Вы презираете.
Мы все очень заняты приготовлениями к свадьбе принцессы Анны с принцем Брауншвейгским. Кажется, я никогда не рассказывала Вам, что его привезли сюда шесть лет тому назад с целью женить на принцессе. Ему тогда было около четырнадцати лет, и их воспитывали вместе, с тем чтобы вызвать [взаимную] привязанность. Но это, мне думается, привело к противоположному результату, поскольку она выказывает ему презрение – нечто худшее, чем ненависть. Наружность принца вполне хороша, он очень белокур, но выглядит изнеженным и держится довольно-таки скованно, что может быть следствием того страха, в котором его держали с тех пор, как привезли сюда: так как этот брак чрезвычайно выгоден для принца, ему постоянно указывали на его место. Это да еще его заикание затрудняют возможность судить о его способностях. Он вел себя храбро в двух кампаниях под началом фельдмаршала Миниха. Утверждают, что причиной отправки принца [в армию] было намерение герцога Курляндского женить на принцессе [Анне] своего сына. Во всяком случае, когда она выказала столь сильное презрение к принцу Брауншвейгскому, герцог решил, что в отсутствие принца дело будет истолковано в более благоприятном свете и он сможет наверняка склонить ее к другому выбору. В соответствии с этим на прошлой неделе он отправился к ней с визитом и сказал, что приехал сообщить ей от имени ее величества, что она должна выйти замуж с правом выбора между принцем Брауншвейгским и принцем Курляндским. Она сказала, что всегда должна повиноваться приказам ее величества, но в настоящем случае, призналась она, сделает это неохотно, ибо предпочла бы умереть, чем выйти за любого из них. Однако если уж ей надо вступить в брак, то она выбирает принца Брауншвейгского. Вы догадываетесь, что герцог был оскорблен, а принц и его сторонники возликовали. Теперь последние говорят, будто ее отношение к принцу было уловкой, чтобы ввести в заблуждение герцога, но мне кажется, она убедит их в том, что не помышляла ни о чем, кроме того, чтобы, коли ее принуждают, таким способом нанести удар по ненавистному ей герцогу. Она действительно никого не любит, но поскольку не выносит покорности, то более всех ненавидит герцога, так как в его руках самая большая власть, и при этом принцесса обязана быть с ним любезной.








