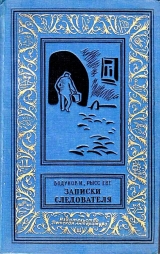
Текст книги "Записки следователя (илл. В.Кулькова)"
Автор книги: Евгений Рысс
Соавторы: Иван Бодунов
Жанр:
Криминальные детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 30 страниц)
В общем, если бы часовой посмотрел в глазок камеры, он бы увидал очень веселого заключенного. Яшкин ходил из угла в угол, насвистывал разные мотивы, и вообще видно было, что настроен он добродушно и весело. Это бы, конечно, и было так, если бы только не одно обстоятельство. Дело в том, что была одна-единственная история… Впрочем, о ней, конечно, узнать ничего не могли.
Яшкин гнал от себя даже мысль об этой истории. Довольно уж в свое время стоила она ему нервов. В неустроенной, бедной жизни Яшкина, в которой, по совести говоря, что ни день, то обязательно нарушался закон, в общем, все-таки все было скорее веселое, чем мрачное. Кроме только одной страницы… Но ведь ясно, что о ней никак не могли узнать… Знал только Яшкин и еще один человек. Уж тот-то выдать не мог. Во-первых, он сам виноват больше, чем Яшкин, а во-вторых, кремень человек.
И снова Яшкин ходил, и насвистывал. Когда принесли обед, трепался, шутил. Странными все-таки были два обстоятельства. Первое: почему его посадили в одиночку? В одиночку сажают важных преступников. А он что такое? Ну дал взятку управдому, ну торговал контрабандой. И второе: почему его держат без допроса целый день?
Темнело. Принесли ужин, под потолком зажглась тусклая лампочка. Все чаще и чаще ужас сжимал сердце Яшкина. Он и богу помолился, хоть никогда в бога не верил, только б не выплыла эта история. Ведь он и не виноват в ней. Тот, другой, все придумал и организовал.
Нет. Яшкин без конца продумывал все обстоятельства и твердо решил, что эта история вскрыться никак не могла. Во-первых, она была давно. Если и были какие следы, так они уже давно потеряны. Вещи не продаются. Лежат себе тихонько далеко-далеко от Петрограда. Совершенно ясно, что Яшкина взяли за что-то другое. Но только почему так долго не допрашивают? Лег Яшкин, когда полагалось, и сразу заснул. Проснувшись, не мог сначала понять, что случилось: почему-то горел свет, в камере стоял надзиратель. Какой-то страшный сон снился Яшкину, перед тем как его разбудили. Он даже не хотел его вспоминать. По чувству ужаса и тоски, которые остались от этого сна, он догадывался, о чем был сон. Молчаливые конвойные вели его по бесконечным коридорам, и Яшкин шел чуть живой от страха, потому что вопреки всякой логике, вопреки всем его рассуждениям было ясно, что вскрылось именно то дело, о котором он даже наедине с собой боялся вспоминать.
В клубе Яшкин Васильева не видел. Он не отрывал глаз от зеленого сукна, да и Васильев старался особенно на глаза ему не попадаться. Арестовывали Яшкина другие работники угрозыска, поэтому, войдя в кабинет следователя, Яшкин увидал незнакомого совсем молодого человека, и, наверно, если бы мысль об этом «единственном деле» не сверлила ему мозг, он, увидев, что у следователя молоко на губах не обсохло, осмелел бы и немного помучил его, прежде чем признаться в мелких своих грехах.
Волновался перед встречей и Васильев. Можно было по-разному вести допрос. Можно было начать разговор издалека и постепенно навести на Розенбергов, можно было сразу ошарашить резким вопросом. Иван продумывал и тот вариант и другой и решил, что, пока не увидит Яшкина и не поймет, в каком тот состоянии, бессмысленно предрешать систему допроса.
Итак, Васильев сидел за столом и ждал. Он хорошо представлял себе, что такое Яшкин. Мелкий жулик, пустой, легкомысленный человек. За ним наверняка есть мелкие кражи, какие-нибудь мошенничества, за которые по совокупности может он получить года три. Уголовник он настоящий, и годом-другим тюрьмы его, конечно, не испугаешь. Будет болтать, шутить, а потом признается. Вот если убийство…
Когда Яшкин вошел, Васильев мельком взглянул на него и сразу отвел глаза. Сомнений не было: Яшкин боялся, страшно боялся, чуть не до потери сознания.
– Садитесь.
Яшкин сел. У Ивана было суровое, хмурое лицо. Он чувствовал внутреннее состояние Яшкина и точно знал теперь, как с ним разговаривать.
– Фамилия, имя, отчество, год рождения?..
Васильев положил ручку и долго молча смотрел на Яшкина. Кто его знает, были у него судимости или нет. Архивы уничтожены, восстановить ничего нельзя, но то, что у следователя он не в первый раз, это наверное. То, что арест для него не событие, это видно. Такие жулики на допросах смеются и шутят. А у Яшкина не было даже сил шутить, жалкая, несчастная улыбка была у него на лице. Васильев слова еще не сказал, а Яшкин съежился под его взглядом. Пытался как будто сказать что-то, наверно пошутить собирался, но только глотнул слюну и вздохнул. Чувствуя, что Яшкин потерял способность сопротивляться, Васильев сказал ему уверенно и твердо:
– Расскажите, гражданин Яшкин, подробно, ничего не упуская, как вы вместе с гражданином Кивриным убили семью Розенбергов.
…Было уже светло, когда Яшкин дрожащей рукой подписал под протоколом свою фамилию. Он не запирался ни в чем. Не следовало ему идти на убийство, неподходящие были у него для убийства нервы.
Да, Васильев ему верил, когда он проклинал Киврина и день и час, когда с Кивриным познакомился. Мелкий жулик, игрок, слабый человек, он переживал в то время трудный период. Правда, самое страшное было позади – гражданская война, военный коммунизм. Тогда он жил совсем плохо, но и к нэпу приспосабливался с трудом, потерял связи и не очень понимал новые условия-что можно, чего нельзя. Познакомился он с Кивриным на Охтинском рынке. Киврин недели две к нему присматривался и потом поручил продавать контрабанду: кокаин, дамские чулки, французскую пудру. Он продавал и зарабатывал прилично. Костюмчик справил, во Владимирский клуб зачастил. Игроком он всегда был, еще до революции. Во Владимирском он снова встретил Киврина. Тот крупно играл…
Словом, насколько понял Васильев, волевой, энергичный Киврин совсем подчинил себе легкомысленного, слабохарактерного Яшкина. Деньги на игру Станислав Адамович действительно иногда давал, но не просто, а в долг, и запутал Яшкина в долгах совершенно. Дальше шла длинная история о том, как Киврин познакомился на рынке с Розенбергом, как разузнал, где он живет, какая у него семья. Как постепенно наводил Киврин Яшкина на мысль, что если бы они Розенбергов очистили, так Яшкин и Киврину бы отдал долг, и еще ему бы и на игру осталось. А об убийстве и речи не было. Получалось, по словам Киврина, так, что у Розенберга днем никого дома не бывает. Приходи и бери ценности. Больше месяца они дело готовили. Киврин комнату нашел в соседнем с Розенбергом доме. Чердачное окно в доме, где жил Розенберг, выходило во двор маленького домика, жила там одинокая старушка и очень нуждалась. Дворик выходил уже на другую улицу. Там Киврин и поселился и несколько раз старушку посылал е поручениями, так чтоб ее несколько часов не было, и платил ей за это хорошо. В общем, дело было разработано до малейших подробностей. Одного только Яшкин не знал: что убивать придется.
Дальше будто бы дело закрутилось вокруг манто. Мол, Киврин хочет супруге купить манто, котиковое или каракулевое, и заплатит золотыми десятками. Показал десятки Розенбергу. Денег у Киврина было много, и советских, и царских, и всяких. Ездил Киврин к Розенбергу домой смотреть манто, сказал, что одно возьмет обязательно, но не знает, каракулевое или котиковое. Был у него вечером, видел детей, жену, тещу.
Настал намеченный день. Яшкин думал, что они из пустой квартиры будут вещи брать, и то волновался, а Киврин, железный человек, только посмеивался. Старуху с утра услал Станислав Адамович на станцию Сивер-скую письмо отвезти. Туда поезд два с половиной часа идет, так что раньше вечера она не могла вернуться. Заранее привез Киврин к ней пустые чемоданы. Яшкин еще до рассвета залез на чердак к Розенбергам и там сидел ни жив ни мертв. Ребята приходили из школы в три. В два часа Киврин заглянул на чердак и сказал: «Через полчаса ровно спускайся, постучишь четыре раза». Яшкин дождался до половины третьего, спустился, четыре раза постучал, вошел, а. там двое убитых, жена и теща, и Киврин стоит улыбается. «Неудачно, говорит, получилось, дома оказалась старуха, потом жена пришла, пришлось пришить». Теперь Яшкин думает, что у Кив-рина с самого начала так и было задумано. Он только врал, что пустую квартиру брать будут, а сам шел на убийство. Яшкин растерялся, Киврин стал ему говорить, что теперь, мол, спасаться нужно и придется, мол, всех перебить. Яшкин стал было отказываться, а Киврин сказал, что ему все равно погибать, так он и Яшкина пришьет. Ну, а потом…
Яшкина до сих пор трясло, когда он вспоминал об этом: и как они девочку убили, и как мальчиков, и как потом собрали вещи, но ждали Розенберга. Киврин говорил, что, пока его не убьют, выносить вещи опасно: а ну как раз он и придет. Потом Розенберга убили, и они уже сложенные в два мешка вещи быстро понесли на чердак и выбросили в окно к старухе во двор. Потом выглянули на улицу, подождали, пока поблизости никого не будет, прошли до угла. Яшкин торопился, а Киврин ему говорил: «Не торопись, экая ты баба, право! Знал бы, не взял тебя в компаньоны».
Еще Киврин говорил, что они хорошо управились, быстро. И верно, только успели вещи в чемоданы положить, как извозчик приехал,– наверно, тоже кивринский дружок, потому что ничего не спросил, чемоданы вынес, поставил в пролетку и повез их. До угла Невского и Литейного доехали, Киврин и говорит: «Ты, говорит, слезай, я вещи сейчас увезу и спрячу. На тебе сто рублей, ты пока живи, а я вещи продам, тебе еще причитается. Через две недели, двадцатого числа, будь во Владимирском клубе». Яшкин пошел к знакомому, купил самогону, выпил, не захмелел, пошел в клуб и свою сотню проиграл. До двадцатого кое-как прокрутился, а двадцатого Киврин пришел в клуб, такой жизнерадостный, веселый. «Ты, говорит, об этом деле забудь, никто, говорит, нас уже не поймает. Денег у меня, говорит, сейчас мало, но понемногу тебе буду давать, а когда вещи продадим, тогда и кутнем как следует, и на жизнь останется»…
Трясущегося, плачущего Яшкина увели. Васильев остался один. Он долго стоял у окна. Он не видел ни решетки в окне, ни улицы за тюремной стеной. Все время были у него в глазах дети и взрослые, которых одинаково неумолимо била гиря по голове, дрожащий, испуганный Яшкин с большим рябым носом и спокойный, барственный, благостный Киврин.
Долго уже стучали в дверь, когда Васильев наконец услышал и крикнул:
– Войдите!
Принесли телеграмму. Петя, бравый милиционер со станции Тешимля, телеграфировал: «Буду утром, встречайте извозчике». Это означало, что кивринские вещи задержаны и что Петя их сам везет в Петроград.
«Ну, Станислав Адамович,– подумал Иван,– будет у вас завтра день, полный неожиданностей».
Неожиданный ход
Петя приехал из Тешимли, сияя, как медный грош. Все вышло как по-писаному. Петя считал себя отныне настоящим сыщиком, участвовавшим в раскрытии крупного преступления. Он привез три чемодана с вещами, очевидно, те самые три чемодана, которые Киврин с Яшкиным везли на извозчике. Дело, оказывается, было не простое, но Петя все провел на высшем уровне. Сначала он пустил слух, что Киврин арестован за спекуляцию, дело несерьезное, но все-таки Петроград решил проверить и прислал паренька сделать обыск. Паренек, собственно, еще и в милиции не работает, так, вроде ученика. Послали, чтоб приучался к делу, а то в Петрограде все равно баклуши бьет. Тут Петя вдруг покраснел и испуганно посмотрел на Васильева: не обидел ли он его. Но Иван улыбнулся, и Петя продолжал.
Теперь надо было организовать засаду. Тоже задачка! В Тешимле, если коза отошла от забора, уже разговоров на целый день, а тут спрячь-ка двух человек. Одному не справиться, два нужно самое малое. Словом, они с милиционером целый день ломали голову, но все-таки придумали. Как стемнело, они забрались в сарайчик в доме дежурного по станции. Дежурный на ночь ушел на работу. С ним только мать живет, глухая старуха. Она дверь заперла-и на боковую, а они в сарайчик. И представьте, даже не особенно долго ждать пришлось. В половине первого ночи Клавдия Андреевна открыла дверь, огляделась, видит – на улице ни души, в Тешимле рано ложатся спать, она вышла, дверь притворила и бегом к тетке своей, та живет от нее через два дома. Тетка, видно, поджидала. Через минуту смотрит Петя – бегут две женщины, несут три чемодана: Клавдия Андреевна-два да тетка– один. Тут они из сарая выскочили, привели женщин в милицию, вещи все описали, акт составили, ну и вот, пожалуйста.
Наум Иосифович сразу же опознал вещи и разволновался страшно. Он, видно, действительно любил семью покойного брата. Он даже заплакал, разбирая пахнущие нафталином манто.
– Человек имеет семью,– горестно причитал он,– детишки такие славные, и тоже трое, так надо идти убивать чужих детей!
Еле-еле его успокоили. Он подписал акт опознания и отправился домой. Петя ушел поспать. Он в поезде глаз не сомкнул: а ну как сопрут чемоданы.
Васильев развесил манто по стенам, открытую шкатулку с драгоценностями поставил на скамейку и вызвал Киврина. Теперь он чувствовал себя совеем иначе? признается Киврин или не признается – он все равно уличен.
Киврина три дня не вызывали на допрос. Не мог он не понимать, что за это время собирают какие-то данные. Тоже, наверно, думал и передумывал, как и Яшкин. Но не те у него были нервы и не тот характер. Он вошел, как всегда спокойный, благостный, барственный. Поздоровался и спокойно сел на стул перед столом следователя. Не мог он не видеть развешанные манто и шкатулку с золотыми вещами. Васильев следил за ним очень внимательно, но он не вздрогнул, не покраснел, даже не скосил глаза.
– Ну, гражданин Киврин,– сказал Васильев,– сегодня вам придется признаться.
– В чем?:-спросил удивленно Киврин.
– В убийстве семьи Розенбергов. Знакомы вам эти вещи?
– Нет,– сказал Киврин, посмотрев на вещи,– первый раз в жизни вижу,
– Странно. А ваша жена показывает, что все эти вещи вы привезли ей из Петрограда, велели беречь и никому о них не говорить. Вот протокол ее допроса, вот ее подпись.
Киврин взял протокол допроса, внимательно прочел, пожал плечами и сказал:
– Ничего не понимаю.
– Жаль, что не понимаете,– сказал Васильев,– придется понять. Вот двоюродный брат убитого Розенберга опознал эти вещи. Пожалуйста, можете посмотреть протокол опознания.
– Не знаю,– сказал Киврин,– подпись как будто и верно жены, но зачем она на меня валит, понять не могу.
– Хорошо,– сказал Васильев.– А Яшкина вы знаете?
– Яшкина? – Киврин задумался.– Как будто во Владимирском клубе играл иногда такой босяк Яшкин. Кажется, он у меня как-то выпрашивал деньги на ставку, но, может быть, я и путаю. В клубе ведь этой шантрапы полно, с выигрыша обязательно просят. И даешь. Там это принято. Тоже скупей других оказаться не хочется.
Смотрел Васильев на Киврина и думал. Удивительный человек! Убив шестерых, он не чувствует ни угрызений совести, ни просто физического ужаса перед тем, что сделал, и школьные ранцы ему не вспоминаются, такие же точно, как у его детей, ни грязь, ни кровь – ничего. Машинный ум. Рассчитаю так, как мне выгодно, и так сделаю. Что ему сказать? Что чистосердечное признание облегчит участь? Но ведь он понимает, что за такое убийство все равно расстреляют, хоть признавайся, хоть нет. Взывать к его совести? Но если его соучастник и тот удивлялся, как деловито и весело Киврин убивал, так какая же тут может быть совесть? Иван смотрел на Киврина и молчал. Киврин повернул голову, посмотрел на манто, висевшее на стене, и пожал плечами.
Понятия не имею, говорил весь его вид, чего от меня хотят. И в глазах его, когда он смотрел на Васильева, было даже сочувствие к бедному следователю, который старается, трудится, и неизвестно зачем, потому что Киврин ни в чем не виноват и обвинить его все равно ни в чем не удастся.
Раньше это выражение снисходительного сочувствия в глазах Киврина бесило Васильева, но сейчас все было по-другому. Киврин может признаваться или не признаваться, суд его все равно осудит.
– Прочтите показания вашего соучастника Яшкина,– устало сказал Иван и протянул Киврину протокол допроса Яшкина.
Киврин взял протокол, долго, внимательно его читал, иногда даже шевеля губами, чтобы ничего не пропустить и все понять, прочел, подумал, аккуратно сложил протокол, пожал плечами и сказал:
– Оговор. Я, впрочем, неоднократно еще в клубе замечал в этом Яшкине что-то дьявольское, но не придавал значения. Вы знаете, во Владимирском клубе дьяволов бывает довольно много. Если играешь в рулетку и не перекрестишься, когда ставишь, то обязательно проиграешь. У них есть невидимые руки: они остановят шарик на своем номере, и всё. А если перекрестишься, хоть маленьким крестиком, под пиджаком, то он тянет лапку, чтоб остановить шарик, а бог ему глаза закроет, он и попадет не туда, продуется, ставить нечего, вот дьявольские козни и разрушены. Я сейчас вспоминаю, что Яшкин вел себя подозрительно, несколько раз тянул лапку на шарик, но я перекрещусь, и ему не видно. Вот поэтому, наверно, он и решил меня оговорить, придумал каких-то Розенбергов, да их ведь и не было никогда.
Все это было наивно и обречено на неуспех. Видно было, что в психиатрии Киврин разбирался плохо.
– Эх, Станислав Адамович,– сказал Васильев,– что это вы, право, затеяли канитель! Думаете, врачи поверят, что вы сумасшедший? Бросьте! Не так-то просто их обмануть. Еще если бы вы подчитали чего-нибудь до ареста, ну тогда могли бы надеяться, а в тюрьме и в сумасшедшем доме вам про душевные болезни книг не дадут, н посоветоваться вам не с кем. Сходить с ума не простое дело. Оно образования требует.– Васильев протянул Киврину ручку.-Вы протокол подпишете? Или совсем уж с ума сошли, так что и подписать не можете?
– Я, гражданин следователь, с ума не сходил,– сказал обиженно Киврин,– и если в протоколе правда написана, то я с удовольствием подпишу.
Он внимательно перечел протокол и, ничего не сказав, подписал.
Когда его вели обратно в камеру, он напевал не то молитву, не то псалом, что-то «божественное», как рассказывали конвойные. В камере он разделся догола, аккуратно сложил костюм и белье, некоторое время танцевал совершенно голый, потом опять пел; в общем, вел себя так, как ведут себя сумасшедшие в представлении людей, совершенно не знакомых с психиатрией. Васильеву доложили и о том, как он танцует, и как он поет, и как он разделся. Васильев, по совести говоря, в психиатрии понимал, пожалуй, не больше Киврина, зато Киврина он теперь понимал очень хорошо. Конечно, эксперты разоблачат симуляцию, улик совершенно достаточно и надежды выкрутиться у Киврина нет, но тут все-таки отсрочка, да из сумасшедшего дома и бежать легче, чем из тюрьмы. Холодный, расчетливый ум и железная воля Киврина сопротивлялись до конца и использовали все шансы.
Васильев мог сделать только одно: сократить до минимума время экспертизы, уличить Киврина в симуляции, представить суду убедительные доказательства, что убийца психически нормален.
В ту самую минуту, как Киврин начал молоть чепуху о дьяволах во Владимирском клубе, Ивану пришла в голову мысль, как быстрее разоблачить Киврина. Сразу же, во время допроса, он начал приводить ее в исполнение. В том, что он говорил Киврину о сумасшествии, был расчет. Киврин должен был сам себя уличить, Васильев уже навел его на эту мысль. И, что самое важное, Киврин этого не заметил.
Суд пришел
Иван ехал вечером домой по Ириновской ветке в маленьком, раздрызганном старом вагончике. Первое дело, самостоятельно проведенное с самого начала, большое уголовное дело, шло к концу. В этом же вагончике железной дороги оно и началось. Так же тускло горела свеча в фонаре, так же разговаривали пригородные жители о маленьких своих новостях: о человеке, зарезавшем свинью или купившем корову. Васильев вспоминал, как он услышал про гирю на ремешке, как соскочил с поезда на ходу и зашагал по пустынной припетроградской равнине, как, волнуясь, объяснялся с дежурным по Полюстровскому отделению милиции. Ведь мог он и не выскочить из вагона, мало ли о чем болтают пассажиры пригородного поезда. Что ж такого, что гиря на ремешке.
Но он все-таки выскочил и пошел вдоль железной дороги пешком. И начала перед ним разворачиваться удивительная кинолента, и начали проходить перед его глазами разные люди: спокойный, расчетливый Киврин, настоящий злодей – умный, лживый, хладнокровный, безжалостный, и Яшкин, мелкий жулик, фигура скорее комическая, слабохарактерный, легкомысленный человек, который так бы и прожил свою бестолковую жизнь, то сидя в тюрьмах, то освобождаясь, попадаясь на мелких жульничествах и спекуляциях, проигрывая в рулетку и еновь добывая немного денег или попадая опять в тюрьму. И никогда в жизни не пришла б ему в голову мысль об убийстве, но не повезло Яшкину: попал он в жесткие, твердые руки Киврина и по. слабости характера, по легкомыслию стал преступником, убийцей, подлежащим расстрелу. Страшное и смешное перемешивалось, чередовалось в этой истории, как почти в каждой жизненной настоящей истории. Страшная комната Розенбергов, и рядом – смешная старуха, кормящая свинок бардой с пивного завода, болтливая, глупая стяжательница, Наполеон, а не баба, и неудачливый торговец Наум Иосифович, мечтающий о богатстве и уважении, не понимающий, что прошло время уважаемого богатства, мечтательный рыцарь ушедшего в прошлое мира. Шумные залы Владимирского клуба прошли перед глазами Ивана Васильевича: и лопатка крупье, передвигающая деньги по зеленому сукну, и бесконечный калейдоскоп игроков, выигравших и проигравших, игроков с опасным блеском в глазах, симптомом заразительной лихорадки азарта; и глухая станция Тешимля, постоялый двор и его хозяйка, Кабаниха, которая теперь никому не страшна, кроме разве сонного холуя Васи. Да, смешные и страшные люди прошли точно в хороводе. Смешное становилось страшным, и страшное становилось смешным. Страшно и кончится эта история. Встанет публика в зале и в молчании выслушает приговор: «К высшей мере социальной защиты Киврина Станислава Адамовича и Яшкина Алексея Алексеевича». И хоть страшно знать, что эти люди, стоящие перед скамьей подсудимых, будут расстреляны, все будут согласны с приговором. И Васильев с ним согласен. За страшные свои преступления, за холодную свою натуру, за зверства, за кровожадность должен быть уничтожен Киврин. Киврина не жалко. А Яшкина Васильеву немного жалко – бестолковый, слабохарактерный человек, не злой по натуре, а просто слабый. Но убийство есть убийство и закон есть закон.
А сейчас перед этим страшным концом, чтобы довести до конца свою трудную и справедливую работу, придется сыграть комический эпизод, чтобы суду была ясна до конца картина. Заставить Киврина самого себя разоблачить, выбить у него из-под ног последнюю спасительную доску.
Киврина отправили в психиатрическую больницу. Экспертиза должна установить, действительно он сумасшедший или просто симулянт.
Еще на допросе Васильев внушил Киврину, что есть твердые правила поведения сумасшедших, которых Киврин не знает и не может знать, и поэтому будет разоблачен. Логично предположить, что Киврин попытается узнать, как ведут себя настоящие сумасшедшие, что нужно делать, чтобы экспертная комиссия признала подлинное безумие.
На следующий день Васильев вызвал к себе санитара из больницы для душевнобольных, Быкова. Санитар этот не в первый раз имел дело с уголовным розыском. Он работал в отделении, в котором находились преступники, направленные на экспертизу. Естественно, что следователям важно было знать, как ведут себя подследственные. Быков был санитар старый, опытный, сумасшедших перевидел на своем веку тысячи и, пожалуй, не хуже врача мог отличить симулянта от настоящего безумного. На этот раз Васильев предложил ему не просто наблюдать за Кивриным, а заставить Киврина самого себя выдать, чтобы у экспертов не осталось никаких сомнений. Васильев составил небольшой список поступков, которым Быков должен был научить Киврина.
– Ты сам не навязывайся,– сказал Иван Васильевич,– ты только, как к слову придется, расскажи, что сумасшедшим быть не такое простое дело. Что сходят с ума люди по правилам и если человек правил не знает, то обязательно попадется. Он тебе денег предложит, чтоб ты его научил, а ты откажись, поломайся. Когда он тебе цену до тысячи рублей набьет, тогда согласись и по этому списку подскажи. И вели, чтоб он точно все исполнял, ничего не пропуская: если, мол, он пропустит что-нибудь, это уж науку введет в сомнение.
На копии списка Быков расписался, что список получен от следователя для того, чтобы вышеперечисленному научить находящегося на экспертизе Киврина. Через неделю он позвонил и сказал, что список действует.
– Неделю меня уговаривал,– сказал Быков,– за тысячу рублей уломал.
Когда Киврина вызвали на комиссию, список лежал перед врачами. Киврин все исполнял, как хороший актер по пьесе. Он попросил у доктора папиросу и спокойно съел ее, объяснив, что табак очень питателен, потом замяукал и сказал, что он не простая кошка, а кошачий Наполеон,– словом, весь вздор, который придумал для него Васильев, был выполнен в точности. Комиссия признала его нормальным.
Формально следователь не обязан присутствовать на суде, но Васильев не пропустил ни одного судебного заседания. Адвокат у Киврина был старый знаменитый криминалист, и Васильеву было очень важно знать, достаточно ли крепка цепь доказательств, которые он представил суду. Речь адвоката была превосходна, но опровергать доказательства он и не пытался. Он страстно убеждал суд, что Киврин-жертва проклятого царизма и уродливого классового неравенства. И судья и заседатели, бывшие рабочие, сами страдали от классового неравенства и понимали, что нужда и хладнокровное убийство шести человек ничего общего между собой не имеют. Среди свидетелей была и Клавдия Андреевна. Надо сказать, что и она не пыталась защищать Киврина. Она происходила из кулацкой семьи и не считала грехом спекуляцию, но быть женой убийцы не хотела.
Судьи совещались недолго: видимо, споров не возникло. Подсудимых приговорили к расстрелу.
Из суда Васильев поехал в угрозыск. По чести говоря, гордился он этим делом и, встретив в коридоре научного эксперта угрозыска Салькова, не удержался и сказал, что он из суда и что по его делу все доказательства оказались неопровержимыми.
Перед Сальковым приятно было похвастать: это был очень уважаемый в угрозыске человек. Для него криминалистика была любимой наукой. Каждый день до позднего вечера сидел он в своей лаборатории, и не одному преступнику стоили жизни его химические анализы и дактилоскопические экспертизы.
– Знаю, знаю,– сказал Сальков,– смотрел ваше дело, неумело проведено.
– Но приговор…– начал было Васильев.
– Что приговор! Повезло вам, вот и все. Надо же отличать удачу от умения. А если бы Киврин спрятал вещи поумней? А если б Яшкин не ходил в клуб или не признался? Ведь отпустили б вы Киврина. Ничего бы не смогли сделать. А извозчик! Об извозчике почему вы не подумали? Много ли извозчиков в Петрограде? Яшкин ведь видел его в лицо. А извозчик участвовал в деле. Что же, у Киврина один Яшкин знакомый? Ведь, наверно, связан он с каким-то притоном, может быть, извозчик был соучастником и по другим делам. Упустили, молодой человек.
Видно, очень уж расстроенное лицо было у Васильева.
– Ну-ну-ну,– сказал, смягчаясь, Сальков,– не огорчайтесь, молодой человек. Вам сколько лет? Двадцать два? В этом возрасте кто не делал ошибок. А сыщик из вас будет. Это вы здорово связали разговор в поезде про гирю с убийством Розенбергов. Так прямо и спрыгнули с поезда? Упали?.. Нет? Правильно. Надо было прыгать. В таких случаях терять нельзя ни минуты. Покушение на старуху ведь не доказано. Дежурный утром бы и отпустил Киврина. Все дело закрылось бы. Нет, будет из вас сыщик, если вы только поймете, что розыск – это наука. Вы еще ученик в этой науке, и нос вам задирать рано. А вообще не огорчайтесь: хоть ошибки и были, но дело проведено хорошо.
Сальков ушел. Пошел и Васильев к себе в кабинет. Ходил долго по кабинету и думал: конечно, не доследовал дело. Киврин сам ему в руки попался, а что Яшкина разыскал, так это ж ребенок сообразил бы.
Ругал, ругал себя Иван и все-таки знал, что ни за что и никогда не бросит свою трудную, свою замечательную профессию.









