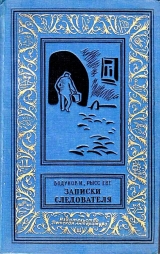
Текст книги "Записки следователя (илл. В.Кулькова)"
Автор книги: Евгений Рысс
Соавторы: Иван Бодунов
Жанр:
Криминальные детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 30 страниц)
Он оказался прав.
Настал день, когда выдержка и спокойствие следователя принесли свои плоды. В этот день Новожилова с самого начала допроса нервничала и, разговаривая со следователем, думала о чем-то своем. Васильеву показалось, что сегодня произойдет что-то новое и важное. Предчувствие не обмануло его.
Он тянул допрос, чувствуя, что Новожилова колеблется, как будто на что-то решилась и продумывает свое решение. Он боялся упустить минуту, когда она может дать важные показания.
И действительно, неожиданно прервав разговор о второстепенных деталях и обстоятельствах, она вдруг сказала:
– Пишите, гражданин следователь. Я все скажу.
Она заговорила, и Васильев еле успевал записывать.
Да, все было верно: пили, играли в карты. Иваненко проиграл все деньги, какие у него были, и собрался уже уходить, когда Новожилов вышел в соседнюю комнату и вернулся оттуда, держа в руках винтовку. Иваненко схватился за наган, но не успел достать его. Новожилов выстрелил и с первого же выстрела попал Иваненко в голову. Иваненко упал, и действительно, его кровь была на стене. Она было закричала, но муж на нее так рявкнул, что от страха она потеряла голос. Дело было уже ночью. Муж – а человек он огромной силы, это, слава богу, она на себе испытала,– взял труп и вынес. Куда он его унес, она не знает, но теперь думает, что лучше сказать правду, потому что от мужа она, кроме горя, никогда ничего не видела, человек он плохой, и покрывать его она больше не хочет.
Протокол был подписан. Новожилову увели, а Васильев помчался к себе на Каменоостровский. Снова и снова Андреев, Кауст и Иван обсуждали материалы дела. Теперь наконец все стало ясно. Новожилов, работавший до революции коридорным в дешевых номерах, холуй, за чаевые привыкший выполнять самые грязные поручения постояльцев, после революции самогонщик и притонодержатель, совершил убийство. Это бесспорно. Теперь дело можно передавать в суд.
Настало утро. В комнате плавали облака табачного дыма, и очень хотелось свежего воздуха. Была уже весна, снег на улицах стаял. Андреев подошел к окну и раскрыл его, оторвав бумагу, которой оно было заклеено. Свежий, прохладный весенний воздух ворвался в комнату. Облака табачного дыма устремились в окно, а эта свежесть и прохлада были особенно приятны после той грязи и мерзости, в которой разбирались они целую ночь. Все трое дышали с наслаждением. Как ни устал Васильев, было ему приятно думать, что первая его самостоятельная работа проведена успешно. Убийца будет наказан. Хорошее было у него настроение.
– Вы уже за работой? – раздался голос с улицы.
За окном стоял старик Иваненко.
– Я всю ночь не спал, хотел как только можно пораньше прийти к вам. Думал, вы еще отдыхаете. Ну ничего, думаю, погуляю пока на улице. Время терять нельзя. У меня важные новости.
И вот сидит старик Иваненко, и лицо у него таинственное.
– Вот что, товарищ следователь,– говорит Иваненко.– Человек вы молодой, неопытный, вглубь не заглянули, а тут дело большое, политическое, серьезное. Тут против Советской власти большие козни. Тут целая организация шурует. Большие затевают дела.
– Да что случилось? – спрашивает Васильев.
– А случилось то,– неторопливо тянет старик,– что пришло письмо из Семипалатинска от сына. Будто бы от сына, конечно. И пишет там сын, то есть будто бы сын, что проиграл в карты шинель, ремень и папаху, что стыдно было ему показаться домой и он прямо поехал по месту назначения, в Семипалатинск. Что там он будто бы прямо все рассказал начальству и начальство его наказало, но не очень строго. Что он, мол, то есть будто бы он, просит нас о нем не волноваться и, мол, теперь будет нам все подробно сообщать.
Васильев смотрел на старика, и в голове у него, как карусель, крутились мысли: но ведь жена Новожилова призналась! Винтовка найдена. Казалось, что улики бесспорны. Неужели это он себя уговорил? Неужели Новожилов говорил правду, а жена врала?
Но старик еще не высказался.
– Понимаете, какая тут катавасия? – спрашивает старик.– Тут большая организация шурует.
Васильев смотрит на старика и никак не может понять, о чем тот говорит, какая организация.
– Вас, молодой человек,– продолжает старик,-государство поставило на ответственный пост. Вы должны оберегать государство, а вы политически недооцениваете,
– Что недооцениваю? – спрашивает Иван.
– Да ведь видно же, что письмо убийцы подстроили. Тут не один Новожилов, тут контра организована. Красных командиров уничтожают. Один здесь убивает красного командира, другие оправдания убийце подгоняют, чтобы он сухим из воды вышел. Тут классовая борьба. Тут ниточка далеко тянется.
Васильев думал. Что-то слишком хитро с письмом. Откуда семипалатинские контрреволюционеры могли знать, что Новожилов арестован? Мудрит старик Иваненко. Горюет о сыне, и чудится всякое. Но если старик мудрит, значит, письмо настоящее. Значит, молодой краской служит себе в Семипалатинске. Ну, наверно, отсидел на гауптвахте, искупил вину. Человек молодой. Первая ошибка в жизни. А может быть, все-таки старик прав? Новожилова же призналась, никуда это не денешь. Винтовка была замурована. Самогон, спекуляция, картеж – как тут не поверить в убийство?
Так или иначе, он, Иван, виноват. Если старик прав, он виноват в том, что за простой уголовщиной не разглядел антисоветской организации, не добрался до политического смысла дела. А если старик неправ, все равно Васильев виноват: создал следовательскую версию, стройную, доказанную, а она, как карточный домик, взяла да и рухнула.
Прежде всего, думает Иван, нельзя терять голову, нельзя действовать под влиянием настроения. Нельзя бросаться в разные крайности. Именно сейчас, когда ясно, что совершена ошибка, нужно сохранять четкость ума, полную объективность. Тщательно взвесить все обстоятельства дела, хладнокровно продумать все «за» и «против», проверить каждую мелочь.
Иваненко был очень раздражен. Он и раньше злился на Васильева за то, что так долго не могут раскрыть убийство, даже труп найти не могут. И похоронить-то сына нельзя. Раньше он злился только за сына. Теперь, оказывается, он даже сам не понимал, как глубоко он был прав. Туг не только убийство сына раскрыть не могут, тут проглядели контру. Классовым врагам позволяли свободно действовать. Они под рабочее государство подкапываются, а этот молодой человек, извольте видеть, и в ус не дует.
«Какие же появились новые обстоятельства дела? – думал Васильев, вполуха слушая упреки старика.– Письмо».
– Дайте письмо,– сказал он Иваненко.
Письмо было написано карандашом, на серой бумаге, не очень грамотно и не очень уверенным почерком. Содержание письма старик изложил точно и подробно. Разбирал письмо Васильев долго. И почерк был малоразборчив, и шло письмо больше месяца – в то время письма ходили медленно,– и за этот месяц поистрепалось оно в почтовых мешках, потому что конверта не было и письмо было сложено треугольником.
Разбирал письмо Иван и думал: почерк – вот единственное, за что можно ухватиться.
– Почерк сына вы признаете? – спросил он.
– А кто его знает,– сказал Иваненко.– Может, его, а может, не его. Так каждый написать может.
– А другие письма его у вас есть?
– Откуда же у нас его письма? Жили вместе, куда же писать?!
– Ну, Что-нибудь написанное им, бумага какая-нибудь, заявление, что-нибудь должно же быть!
Старику казалось, что этот молодой человек, который так долго тянет дело об убийстве сына, хотя оно было ясно с самого начала, даже сейчас, когда дело приобрело политический характер, занимается ерундой, вместо того чтобы вскрыть антисоветскую организацию. Может быть, тут лень, а может быть, кое-что и похуже. Разные способы находят враги, чтобы бороться с рабочей властью. Тут нужен глаз да глаз.
– Нет, заявлений нет,– сказал старик.– Вот тетрадки школьные, кажется, у матери сохранились.
– Принесите тетрадки,– попросил Васильев.– Вы можете сейчас принести?
– Отчего же, могу,-согласился старик, но посмотрел на Васильева подозрительно.
Через час он принес тетради. За это время Васильев, Андреев и Кауст успели обсудить удивительную новость. Мнения разделились. Собственно, даже трудно сказать, что мнения разделились. Просто все трое колебались. Либо убийства не .было вообще, либо старик прав и за этим убийством стоит целая организация. Письмо-то вот оно. Кто-то должен был его написать.
Старик принес тетрадки. Сличили почерк. Видно, молодой Иваненко в школе особенным прилежанием не отличался. Почерк в тетрадках был неуверенный, крупный. Такой же, как и в письме. Впрочем, так или приблизительно так пишут все, у кого почерк не выработан.
– Черт тут разберет! – хмуро сказал Андреев.– Надо бы на графическую экспертизу отдать.
Все трое только тяжело вздохнули. Какая там графическая экспертиза! Уголовный розыск работал в то время кустарно. Тогда еще нигде в мире не было лабораторий, не производились точнейшие анализы и сложные экспертизы, без которых сейчас ни один серьезный следователь не может представить себе работу.
Но даже по сравнению с тогдашним мировым уровнем розыска в девятнадцатом году дело у нас обстояло плохо. Старая, налаженная система уголовного розыска разладилась, а новая еще не успела наладиться. Трудно было найти эксперта, да и нельзя было до конца доверять его заключению. Оставалось одно: запросить Семипалатинск. Адрес части в письме был. Составили подробную телеграмму и немедленно отправили. Теперь оставалось ждать. В наше время на такой запрос ответ был бы получен в крайнем случае на следующее утро. В то время надеяться на скорость не приходилось. Телеграммы шли очень долго. И, кроме того, Васильев представлял себе, что телеграфный ответ из части тоже ничего не разъяснит. Могло быть и так, что под фамилией Иваненко, с его документами, прибыл совсем другой человек. Если это политическая организация, то чего лучше, если свой человек будет служить красным командиром.
Пошел Васильев в тюрьму. Шел и думал. Вот создал он себе ясную картину преступления, и казалось ему, что все без исключения факты бесспорно ее подтверждают. А на самом деле, настоящее это письмо или фальшивое, все равно обстоятельства дела не таковы, какими он их себе представлял. Может быть, если следователь заранее создал себе картину, то факты почти обязательно ее подтвердят, потому просто, что вольно или невольно он будет каждый факт истолковывать в пользу своей версии. Вот и сейчас горе и ярость старика Иваненко уже начали действовать на воображение Васильева. Уже он представлял себе подпольную организацию, разбросанную по всей стране, связанную с уголовниками типа Новожилова, использующую их в своих политических целях. Фантазия разыгралась. Усилием воли он обуздал воображение. Никаких заранее составленных версий. Только беспристрастный анализ фактов.
Все это так, но ведь Новожилова призналась.
Он сразу вызвал ее на допрос.
Конечно, он не сказал ей ни слова ни о письме, ни о вновь возникших подозрениях. Он просто попросил ее еще раз рассказать об обстоятельствах преступления.
Новожилова вздохнула, ей надоело без конца повторять одно и то же, но начала рассказывать. Васильев внимательно следил за всеми подробностями. Может быть, хоть какую-нибудь мелочь она изложит не так, как на прошлых допросах. Он помнил ее рассказ совершенно точно. До сих пор он ни разу не уличил ее хотя бы в мелком противоречии. Может быть, он был недостаточно внимателен? Ведь все-таки он ждал ее признания, хотел его добиться, и когда она наконец призналась, то ему хотелось, чтобы ее показания были до конца убедительными и достоверными. Может быть, мозг его бессознательно отбрасывал все, что могло ее показания опорочить. Теперь он ее допрашивал с пристрастием. Он заставлял себя выискивать каждую неточность. Он сомневался во всем, он старался настроить себя на то, что ее показания лживы и он должен ее уличить во лжи. Но нет, все подробности сходились, картина была ясная.
Васильев отпустил ее и вызвал Новожилова. Тот снова клялся, божился, демонстративно молился богу, призывая его в свидетели своей невиновности. Все это производило впечатление неискренности и лживости. Были в показаниях Новожилова и мелкие противоречия. Путался он, говоря о том, откуда у него винтовка. То он говорил, что купил ее, то – что выменял на продукты.
Василиев ушел из тюрьмы растерянный. Снова и снова вспоминал он обстоятельный, подробный, точный рассказ Новожиловой. Нет, не могло здесь быть лжи. Снова и снова вспоминал он явно лживый, неискренний рассказ Новожилова. Конечно же, Новожилов врал, темнил. Но тогда откуда письмо?
Месяц прошел, а ответа из Семипалатинска все еще не было. Часто заходил Иваненко. Он по-прежнему был хмур и на Васильева смотрел подозрительно. Видно было, что разные мысли приходят ему в голову. Ему все казалось, что слишком мало волнуется этот молодой человек, что подозрительно медленно он ведет следствие. Не связан ли и он с этой организацией, масштабы которой в глазах старика вырастали день ото дня.
А Васильев места себе не находил. Замучило его это дело. Снова и снова перебирал он все доводы за убийство и. против убийства. Они уравновешивали друг друга. На одной чашке весов лежали показания Новожиловой, на другой – письмо из Семипалатинска.
Васильев устроил очную ставку Новожилова с женой. Но очная ставка ничего не разъяснила. Новожилова твердо стояла на своем: видела, как муж убил и вынес труп, а куда его дел, не знает. Новожилов тоже твердо стоял на своем: самогон варил, винтовку хранил, а в убийстве не виноват.
Совсем недавно Васильеву казалось, что в своей новой профессии он начал работать успешно, что следственная работа ему удается, что именно для нее он создан, что он правильно определил свое призвание. Теперь ему казалось совсем обратное. Видно, есть у него какие-то качества, которых не должно быть у настоящего следователя. Или нет у него качеств, которые необходимы для следователя. Ведь вот запутался он в первом же деле. Чего он, в сущности, добился? Ну, скажем, придет письмо о том, что Иваненко жив, и, стало быть, Новожилов в убийстве не виноват. Так оно пришло бы и без Васильева. Каждый бы догадался отправить запрос в Семипалатинск.
Он понимал, что нельзя верить этим настроениям, так же как нельзя было раньше быть уверенным в правильности своей первой версии. Командир военного отряда, капитан корабля, начальник экспедиции не имеют права поддаваться панике при неудачах. Так же не может, не имеет права поддаваться панике следователь. Ох, как легко это сказать – не поддаваться панике! И как это трудно на самом деле. Многое передумал Иван за этот месяц. Да, интуиция, находка, смелое предположение – это должно быть в работе. Без этого следователь никуда не годится. Но интуиция, предположение – все это только причина искать во всех направлениях. Искать объективные, точные, неопровержимые улики.
Ждали, ждали письма, и, как всегда, когда чего-нибудь долго ждешь, письмо пришло неожиданно. Васильев вернулся с очередного допроса, опять измученный неясностью и сомнениями, и сразу по лицам Андреева и Кауста понял, что оно пришло.
Командир части сообщал, что Иваненко действительно прибыл в часть, действительно признался, что проиграл в карты ремень, шинель и папаху, за что и получил сутки
ареста. Однако запрос из следственной комиссии встревожил командира части. В письмо была вложена фотография Иваненко, и командир просил телеграфно сообщить, действительно ли это тот самый Иваненко или с его документами в часть пробрался враг.
Немедленно вызвали старика. Старик фотографию опознал, но письму не поверил. Речь шла о его сыне, и он должен был наверняка знать, жив его сын или нет.
Он убедился только через несколько дней, когда получил от сына письмо. Сын писал о многих подробностях своего детства и домашней жизни, которых никто, кроме него, знать не мог.
Тогда Иваненко пришел к Васильеву вместе с женой. Он развязал кисет и предложил Ивану махорки. Вид у него был виноватый. Он смущенно заговорил о том, что небось замучил комиссию своим недоверием и подозрительностью, и потом сказал:
– Мы неправы, Новожилов подлец и грязный человек, но сына он не убивал, сын жив.
Снова Васильев вызвал Новожилову на допрос.
– Зачем вы мне лгали? – сказал он.– Иваненко жив, вот письмо из части, вот его фотография.
Новожилова заплакала. Из длинного и бессвязного ее рассказа Иван понял главное. Муж ее запугал, забил, затравил. Уйти от него она боялась. Она так привыкла его бояться, что ей казалось: куда бы она ни ушла, он ее всюду найдет. Только если бы мужа осудили за убийство, она бы от него освободилась.
У Новожилова хватало преступлений и без убийства. За незаконное хранение оружия, за самогон и спекуляцию он получил восемь лет заключения. Васильев присутствовал при его прощании с женой, оно не было нежным.
– Имей в виду,– сказал Новожилов жене,– если хоть что-нибудь из имущества продашь или обменяешь, вернусь – за все рассчитаюсь.
– На что же она вам передачи будет носить? – не утерпев, спросил Васильев.
– Это ее дело, пусть достает где хочет.
Так он и уехал в лагерь, ненавидя жену и больше всего беспокоясь за жалкое свое имущество.
Жену отпустили домой, учли ее несознательность и энергичный– характер супруга.
Дело было кончено. Скверное настроение было у Васильева. Все он напутал. Может быть, действительно следственная работа не для него?
И все-таки, может быть, с этого дела он и начал формироваться как следователь. Ему повезло. На нелегком опыте он убедился, что только точные и объективные данные могут решить вопрос о виновности или невиновности, что никаким, даже самым, казалось бы, искренним показаниям подсудимых, самому полному сознанию, можно верить только тогда, когда проверенные и неоспоримые улики их подтверждают. Может быть, полная удача при первых шагах принесла бы ему вред. И неоценимую пользу принесла ему эта первая, тяжело пережитая неудача.
Учение продолжается
В начале 1921 года следственную комиссию расформировали, и Васильева направили в сводный боевой летучий отряд при Ленинградском УГРО.
В семь утра начинались занятия. В Михайловском саду обучали стрельбе и строю. Командовали бывшие унтер-офицеры, народ грубый, привыкший тиранить подначальных. Обращались они с бойцами сводного отряда так же, как когда-то с солдатами: изобретательно и обидно ругались, из-за каждого пустяка грозили страшными карами. Бойцы сводного отряда старательно выполняли команды, беспрекословно выслушивали ругань, и поглядеть со стороны – казалось, что унтер-офицеры командуют такой же бессловесной массой, какой командовали и прежде, в недоброй памяти царской армии.
Однако это только так казалось. Беспрекословно выполняя приказы начальников, молча выслушивая их угрозы и ругань, бойцы отряда на самом деле не очень-то их боялись. Все было не так, как раньше. Усатый унтер мог грозить какими угодно страшными карами, на самом деле жизнь и благополучие бойца от унтера не зависели. Мог унтер сколько угодно грозить кулаком. Пусть бы он только попробовал пустить его в ход! И командиры и подчиненные понимали, что в этом случае плохо пришлось бы унтеру, а не бойцу. И все-таки бойцы беспрекословно слушали ругань и даже, казалось, с трепетом выслушивали угрозы начальства. Причины этому были особые. Унтер-офицеры привыкли так обучать рядовых и не умели иначе. Бойцы прощали им неприятные эти привычки. Пусть ругаются и грозят, лишь бы учили толком. Никто другой не сможет научить бойцов не только храбро, но и умело драться.
Впрочем, в Михайловском саду проводилась только самая легкая часть обучения. Главные занятия проходили в обыкновенных, пустующих после революции квартирах, на лестницах обычных домов, на чердаках, в подвалах. Именно в этих условиях предстояло воевать бойцам сводного боевого летучего отряда. Нужно было уметь укрыться от пули бандита, который отстреливается на лестнице, и не дать ему убежать. Нужно было суметь окружить банду, засевшую в подвале или на чердаке, правильно использовать хитрую топографию дворов и подворотен, лестничных клеток, чердачных ходов и окон. Надо было уметь проползти в тесную щель между поленницами дров, появиться перед бандитом неожиданно, на секунду раньше его выстрелить из револьвера. Надо было уметь, если бандит кинется на тебя с финкой, молниеносно вытащить свою финку и оказаться сильнее его в бою на ножах.
И так без конца разыгрывались эти условные, примерные, опытные схватки. Бойцы врывались в квартиры, вели жестокие битвы на чердаках, пролезали в узкие щели, учились замечать любое возможное укрытие – трубу, дымоход, кучу хлама, безобидный, плотно закрытый шкаф. Всюду мог укрыться бандит и отовсюду мог послать тебе в спину смертельную пулю.
Без конца повторяли бойцы перебежки по лестнице, учились быть незаметными, прячась за дымоходом, за поленницей дров, учились замечать за поленницей дров или дымоходом ловко спрятавшегося врага.
Так проходили дни, а по ночам вся эта наука проверялась на деле: поднятые По тревоге бойцы шли на операцию. Тут уже командовали настоящие начальники, бывшие матросы или кавалеристы, члены партии большевиков, иногда бывшие подпольщики, знавшие, как использовать топографию городского квартала, на собственной шкуре изучившие тактику войны в проходных дворах, в подвалах и подворотнях.
Сколько ни ликвидировали банд, на смену им появлялись новые. Людские отребья объявили новой власти войну. Война была отчаянная, война на уничтожение, война без законов и правил.
Были случаи, когда бандиты уходили, прикрываясь женщинами и детьми, зная, что бойцы отряда не решатся стрелять. Был даже случай, когда банда выпустила пух из нескольких перин. Долго мела по улице пуховая пурга. Долго нельзя было разобрать, где свой, где враг. Так и ушли бандиты.
Порой перестрелка затягивалась на полсуток, и редко когда мог рассчитывать сводный отряд на подкрепление. Откуда его было взять, это подкрепление? Выигрыш в беспощадной войне определялся медленно и в конечном счете не количественным соотношением сил. Были среди бандитов талантливые, изобретательные, много было среди них отчаянно смелых и хладнокровных в бою. И почти все были жестокими до зверства, беспощадными к людям, ко всем людям, не только к противнику, не только к мужчине, не только ко взрослым. На улицах подбирали трупы детей, изуродованные трупы женщин. Не только зверство руководило бандитами, когда они стреляли в девчонку или подвергали жестоким пыткам попавшую им в руки женщину. Зверство соединялось с расчетом. Они хотели, чтоб их боялись, чтоб каждый человек, независимо от пола и возраста, трепетал перед ними. Они добились этого. Только это привело не к тому результату, на который они рассчитывали. У убитого ребенка были родители, у убитой женщины – муж, родные, подруги. Ненависть окружала банды, и от этой ненависти некуда было укрыться. Где бы они ни собрались, где бы ни хотели отдохнуть или посовещаться – в квартире ли, в пустом складе, в подвале или на чердаке,– тысячи глаз следили за ними. И вот безобиднейшая старушка бежала в отряд сообщить точный их адрес. Маленький мальчик тянул за рукав бойца и шепотом предупреждал: на заднем дворе есть лаз, они могут уйти. Женщина указывала на поленницу дров: там они, там двое спрятались! А как же можно укрыться от людей в пусть опустевшем, но все же большом, населенном городе!
Когда защищаться становилось уже невозможно, больше всего боялись бандиты попасть в руки населения.
Кому угодно из отряда, кому угодно из угрозыска, пусть даже самому Кишкину, лишь бы не населению. Для них мирного населения не было. Они знали, какие страшные самосуды устраивали над сдавшимися бандитами разъяренные их зверствами люди. Знали они и то, что если уж попадут в руки мирных людей, то единственным их защитником будет угрозыск, и совсем неизвестно, удастся ли отряду угрозыска бандитов отбить.
Знаменитый Кишкин был в то время начальником Петроградского угрозыска. О его отчаянной храбрости ходили легенды. Он был худощав, на одном глазу была у него черная повязка, на голове лихо сидела бескозырка, и на ленточке бескозырки красовалось название его миноносца – «Грозящий». Неизвестно было, когда он спал. Не было у него ни семьи, ни дома. Жил он одними только делами и мыслями революции и действительно ничего не боялся. Зато как же боялись его! Его бесстрашие действовало гипнотически, бандитам казалось, что пуля его не берет. Может быть, именно потому, что верили– попасть в Кишкина невозможно, промахивались лучшие стрелки из бандитов. А он во весь рост, размахивая наганом, вел на бандитов отряд, и легендарная его слава, его бесстрашие подавляли бандитов, сеяли среди них панику, лишали надежды на спасение.
И все-таки, как ни боялись его бандиты, мирных жителей они боялись больше. Бывали случаи, когда засевшая где-нибудь в подвале банда после отчаянной перестрелки, поняв, что сопротивляться бессмысленно и удрать не удастся, начинала переговоры. Из забаррикадированного окна раздавался голос:
– Кишкин здесь?
– Здесь,– отвечал Кишкин.
– Кишкину сдадимся! – кричал бандит.– Только народ отгоните.
– Ладно,– соглашался Кишкин,– выходи.
Бойцы оцепляли путь от подвала до машины угрозыска. Между цепями бойцов проходили бандиты, опустив глаза, чтобы не встречаться взглядами с мирными жителями, стоящими за цепью. Странно, многие из бандитов знали, что расстрела им не миновать. Казалось бы, чего же бояться: все равно один конец. А все-таки страшнее расстрела было попасть в руки родителей убитых детей, мужей замученных женщин, сыновей расстрелянных стариков. Лучше уж к Кишкину.
Ненавидящими глазами смотрели на проходивших женщины, дети и старики. Только цепь бойцов отделяла их от бандитов. Бойцы молодые, худощавые, как говорится– кожа да кости. Да и как им не быть худощавыми? Всего-то еды попадает – немного пшенной каши с ложкой льняного масла да в хороший день оладьи из жмыха. А чай и забыли, когда пили в последний раз.
Опустив глаза, проходят бандиты к машине, даже спиной чувствуя ненавидящие взгляды детей, женщин и стариков. Бандитов ждет трибунал, приговор и расстрел. Закон революции беспощаден. Но все-таки хорошо, что закрылась дверца машины и не преследуют уже ненавидящие глаза мирных жителей Петрограда,








