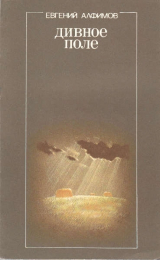
Текст книги "Дивное поле"
Автор книги: Евгений Алфимов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 16 страниц)
Оля протянула ему полный стакан. Себе налила половину. Плеснула малость, на самое донышко, и Толику.
Сережка сделал вид, что опьянел. А может, так оно и было: глаза его заблестели, сквозь бледность щек затлел, проступая, румянец. Выхватил из кострища уголек, мазнул по губе, рисуя усы-щетку, дернул вниз прядь волос – приладил челку и взглянул исподлобья, мутно и тупо.
– Ой, Гитлер! – взвизгнула Оля.
– Вас ист дас? – Сережка грозно зашевелил угольными усиками. – Это что еще за фрава? А ну шнелль нах хаус! – И наставил на Олю автомат.
– Стреляй, стреляй! – Оля вскочила, опрокинув бутылку, встала перед Сережкой, подбоченясь. – В самое сердце мое больное стреляй, солдат. Все едино – жизни нет!
– Станцуй, тогда помилую. Ну!
Толик забеспокоился: Сережка целился так свирепо, что казалось – вот-вот нажмет на спуск.
– Танцирен, танцирен! Битте!.. Айн, цвай...
И Оля, сорвав с головы платок, помахивая им, поплыла по кругу, сначала неторопливо, потом все быстрей, быстрей перебирала полными ногами в резиновых сапожках. Сапожки тонко поскрипывали, Оля тихонько ухала и, наклоняясь, переламываясь в узкой талии, манила полусогнутым пальцем, звала Сережку.
– Цыганочку! – крикнул Сережка и ударил в колено автоматом. – Чтоб земля горела!
И Оля мелко затрясла плечами, затопталась на месте. Голову она держала прямо, неулыбчивое лицо как будто скучало, взгляд полузакрытых глаз был сонливо-тяжел, почти бессмыслен – так танцевали цыганочку в окрестных деревнях.
Сережка, постукивая лаптем о лапоть, вытянув кадыкастую шею, засвистел в два пальца, и Оля с тем же скучающим лицом пронзительно высоким голосом запела:
Мой Сережа очень рад:
У Сережи автомат.
Не возьмешь его, немой,
Будет драться милый мой.
Толик пялился на нее с изумлением. Вот тебе и Оля – молчаливая, застенчивая...
– Давай! Давай! – хрипло кричал Сережка, уже изнемогая, уже не с весельем будто, а с тоской, отчаянием, и Оля пронзительно и звонко, до боли в ушах, кричала ему в ответ:
Ты Сережа, а я Оля,
Ох, и выпала мне доля,
Ох, за что себя гублю?
Ты не любишь, я люблю.
Наверное, это были первые частушки, петые в здешних местах за последние полгода. Забыв всякую осторожность, Оля выкрикивала припевки все громче, все самозабвенней.
– Хватит! – Сережка, обессиленный, хватал ртом воздух. – Хватит, говорю. Слышишь?
Оля взмахнула платком, накидывая его на растрепанные волосы, судорожно вздохнула, вздрагивая плечами. Лицо ее было мокро от слез.
– Ну вот‚– сказал Сережка растерянно. – У ихней сестры всегда так: не поймешь, то ли поют, то ли воют в голос.
И тут же раздались тяжелые торопливые шаги. Из-за кустов показался Антон.
– Вы что, сдурели? – Он говорил злым, свистящим шепотом. – За две версты слышно. В комендатуру захотелось?.. – Обернулся к Оле: – Ты, кобыла, на каких таких радостях разоралась?
Толик пятился – закатывал ногой за пенек бутылку. Оля стояла перед высоченным Антоном, съежившись, низко опустив голову, зябко кутаясь в платок.
– А ну геть отседа! Мы еще дома с– тобой потолкуем... Певица!
И Оля ушла. Медленно-медленно. Оглядываясь на Сережку. Но солдат не смотрел на нее. Он совсем обмяк: не для доходяги Сережки было это так внезапно возникшее веселье —с танцами, частушками, свистом в два пальца.
– Плох ты, малец, плох! – сказал Антон, щурясь в Сережкино лицо. – Рассказывай, как живешь-можешь, что нового?
– Какое там новое, – криво усмехнулся Сережка. – Старое все: лежу на соломке, смерти жду... Вот и могилку мне Толик сварганил, спасибо ему...
– Могилку ли? – Антон потрогал кончиком сапога автомат. – Это тоже с собой в могилку?
– Древний обычай, – снова усмехнулся Сережка. – Воина хоронят, рядом оружие ложат.
– Зубы мне заговариваешь? – взорвался Антон. – Откуда автомат? Окоп зачем вырыли?
Сережка, не отвечая, сумрачно улыбался, играл желваками скул.
– А ты что скажешь?
Толик попытался выдержать взгляд Антона, но не смог – отвел глаза и покраснел. Врать или утаивать что-либо был он не мастак.
– Выкладывай! – сказал Антон почти спокойно и взял в кулак бороду. – Слухаю тебя.
И Толик выложил все, про Сухова, его угрозы. Потом все трое долго молчали. Уже совсем свечерело. Антон стащил с головы шапку, смутно забелел лысым лбом. Сделал он это, наверное, машинально – по поляне гулял ледяной ветерок. Закурил. По величине свернутой цигарки Толик понял, что старик не на шутку встревожен. Цигарка вспыхивала и гасла, крупно нарезанные табачные корешки встрескивали и сыпались, еще светясь ало, в шапку, которую Антон держал на коленях.
Почти неразличимый в густой тени шалаша, Сережка сказал тихонько:
– Сгорит шапка-то...
Антон сидел на пеньке, курил и думал. По мере того как багровый светлячок цигарки все ближе подползал к его губам, Антон распрямлялся, будто с его спины постепенно снимали тяжелую ношу. Наконец ее сняли совсем: он смачно выплюнул окурок и, поднявшись, коротким ударом каблука вбил его в землю. Решение было принято.
– Собирайся!
Это явно относилось к Сережке, но тот деланно удивился:
– Мне говоришь?
– Именно!
Сережка проковылял в своих лаптях к давно потух шему костру и простер над ним тощие, как палки, болтавшиеся в обшлагах руки:
– А ведь греет еще, братцы мои. Благодать-то какая!
– Собирайся! – повторил Антон и засопел, наливаясь гневом. – Со мной пойдешь. Ясно?
– Ясно-то ясно. Только как там в ихней бумаге сказано? Бродячих русских солдат сдавать в распоряжение немецких властей. За несоблюдение – смертная казнь... Так, что ли?
– Не твоя забота, – буркнул Антон. – В надежное место спрячу. Авось не найдут.
– Авось да небойсь, – с издевкой передразнил Сережка. Он заводился, вскипал обычным своим злым раздражением. – А еще в умных ходишь, плешь во весь черепок... Катись ты, Антон Петрович, знаешь куда…
Антон двинулся на Сережку, слепо спотыкаясь, расставив руки: – Да я тебя, щенка, сейчас...
Вывернувшись из-под локтей Антона, Сережка быстро нагнулся. – Уйди! – крикнул визгливо. – Уйди! Не то... Толик, ойкнув, повис у него на плече. Антон выдерул из Сережкиных рук автомат и швырнул его в черый зев шалаша. – Так, – сказал, тяжело дыша. – Это за все мое добро? С автоматом?.. Хорош гусь, нечего сказать.
Сережка, казалось, опомнился. Досадливо крякнув, полез в шалаш, затаился невидимый.
На поляне было уже совсем темно, ночь занималась хмурая, все сильней дул ветер. Толик с тяжелым сердцем прислушивался к унылому шуму кустов.
Антон ходил взад-вперед, теребя бородищу.
– Дела-а, – бормотал он, попыхивая новой цигаркой. – Идрить твою корень…
Походив, побормотав, мысом сапога осторожно постучал в жердину шалаша:
– Слышь, парень?
– Что еще? – тоскливо отозвался Сережка.
– Погорячился я, виноват... Ну и ты, значит, без должной выдержки... Давай поговорим серьезно. Ну что тебе дался этот шалаш? Загнешься ты тут через неделю в холоде... Это ежели не донесет Сухов. А ежели донесет?
– Зря уговариваешь, Петрович, – отозвался Сережка. – Никуда отсюда не пойду... Воля здесь, понимаешь? Простор. Думается легко... Сунутся сюда – схлестнусь с гадами. Хоть одного-двух ухлопаю. А там и умирать не стыдно будет: как солдат умру – в чистом поле, в честном бою…
– Не желаешь, значит?
Сережка молчал.
Антон, смущенно кряхтя, поднялся с соломы, постоял сутулясь. Впервые уловил Толик в его не по возрасту крепкой фигуре, вернее, почувствовал, какую-то скованность, неуверенность, что-то стариковски беспомощное.
– Ну коли так, счастливо тебе, солдат. Может, и прав ты...
Антон пошел. Следом двинулся было и Толик, но Сережка остановил его:
– Побудь минуту, Синица... Что-то паршиво мне после самогонки. Грудь давит... Или к перемене погоды?
– Тучится, – сказал Толик. – Ни одной звездочки. Завтра дождь будет. А то и снег... – И ляскнул зубами от дрожи, внезапно потрясшей тело.
– Замерз? – спросил Сережка. – Собачья ночь, и не говори... Ну ничего, сейчас отогреешься у печки... У нас дома тоже печка. Кафельная. Бывало, придешь с мороза и щекой к теплому. Приятно...
Толик, коченея в непонятной тоске, и слушал и не слушал Сережку.
– ...А главное, друг, вот что: запомни мой адрес. Подольск, Советская, двадцатый дом, Кузиной Акулине Евсеевне, маме моей... Повтори.
Толик повторил механически.
– Дома на бумажку запишешь. Добро?
Сережка зашуршал соломой:
– Нагнись-ка!
Толик нагнулся, и солдат сунул ему в руку что-то маленькое, круглое и плоское.
– Возьми. На память тебе и Ольке... Помнишь, рассказывал? Иван Петрович дал, еще в плену...
Дома, на свету, Толик рассмотрел Сережкин подарок. Зеркальце было в ржавой железной оправе. Мутное, как бы запотевшее изнутри стекло делила надвое черная трещина.
Унтер заглушил мотор, слез с седла, зажег сигарету. Суетясь, выбрался из коляски небритый. Унтер дулом автомата толкнул его в спину: давай, мол, показывай. Солдаты, ругаясь, топая сапогами, взяли наизготовку автоматы и редкой цепью двинулись меж кустов – за унтером и русским.
Шалаш топорщился сучьями, ветками с полусгнившей черной листвой в глубине небольшой поляны. Вход в него загораживала невысокая земляная насыпь.
– Эй, Сережка! – сорвавшимся, ставшим по-бабьи тонким голосом крикнул небритый. – Жив ли? Вылазь из норы... Гости к тебе пришли!
Шалаш молчал. Унтер, хмурясь, пожевывая сигарету, смотрел на небритого.
– Ай боишься? Это я – Сухов.
Над насыпью показалось мальчишеское лицо, бледное и грязное, с блестевшими горячечным жаром глазами.
– А, Сухов... Донес-таки, сука. Топай поближе – потолкуем.
– Мне и отсель слышно!
– Мне тоже. – Грязное лицо задрожало, растягиваясь в издевательской улыбке.
Небритый в замешательстве оглянулся. Он не знал, что делать дальше, и просил помощи. Унтер стал с ним рядом, его автомат повернулся над животом и застыл, нацеленный на шалаш.
– Сдавайсь! – крикнул небритый враз окрепшим го лосом. – Не то капут тебе!
– Я чистую рубаху надел. – Сережка распахнул шинель. – Видишь?
– Бой, значит, объявляешь? А из чего стрелять будешь, дурья голова? Из палки?
– Мотай отсюда, гад! И фриц тебе не поможет... Зубами сгрызу!..
Унтер поднял руку, щелкнул пальцами у затылка. Из-за кустов по одному выдвинулись солдаты. Восемь дул глядело на шалаш.
Лицо исчезло за насыпью, и тотчас оттуда ударила длинная автоматная очередь. Сухов, охнув, схватился за плечо. Один из немцев с закурившейся на паху шинелью начал, будто переламываясь надвое, медленно оседать на землю. Остальные метнулись в кусты, залегли.
Полежали молча, тяжело дыша, закрыв локтями головы. Пули вжикали в голых, плохо укрывавших кустах. Унтер глухо кашлял, яростно отплевывался – табачные крошки забили ему гортань. Вот так обессилел Иван, вот так нет у него оружия... Доннер веттер!
Унтер приподнялся, выкрикнул команду. Разделившись на две группы, солдаты поползли в обхват шалаша. Сухов остался на месте. От боли скрипел зубами, засунув под шинель кулак, прижимал его к ране, пытаясь унять кровь.
Теперь Сережка стрелял наугад, по шороху, по движению веток. Сухов слышал, как он что-то бормотал за своим укрытием, всхлипывал, матерился. Все чаще замолкал его автомат. Берег патроны? Ждал, когда немцы поднимутся, пойдут на него в полный рост? Немцы не поднимались. Сережка, чувствуя их приближение, стрелял снова...
Потом наступила тишина. На насыпь легли большие, с растопыренными пальцами руки, всплыло, как из воды, бледное грязное лицо, тощая шея, обмотанная полотенцем, грудь в распахнутой шинели – Сережка выбирался из траншеи. Он выталкивал наружу свое тело с трудом, выползал, выкарабкивался, худой и длинный, весь в глине. Сухов вдруг взвизгнул от жути, от тупо резанувшей по сердцу, заглушившей телесную боль жалости, от со знания непоправимости сделанного.
Сережка встал на четвереньки. Его шатало. Он под нимался на ноги, как маленький ребенок: выставив зад, пыхтя, старался оттолкнуться ладонями от земли. Оттолкнулся и медленно выпрямился. Наступил на ненужный уже автомат. Обметанные болячками губы его кривились, он собирал силы, чтобы крикнуть что-то. Но крикнуть не успел...
Первым выстрелил в Сережку унтер. Из пистолета. Сережка стоял, лишь откинулся на покатую стенку шалаша. Коротко стрекотнул автомат справа. Сережка стоял и смотрел на Сухова уже мертвыми глазами. Злобно перекосившись, унтер бросил гранату. Сережку отшвырнуло к траншейке, он упал туда головой вниз, взметнув над насыпью обутые в лапти ноги. Ухнула вторая граната– ног не стало. Третья – и над траншейкой вспучилось и опало что-то рвано-бесформенное.
Немцы бросали и бросали гранаты, разрывая Сереж ку на части, на куски, на мелкие клочья. И когда от него ничего не осталось, швырнули по последнему разу – в
ямку, за то, что была ему защитой.
– Аллес!– сказал унтер и откинул со лба мокрую прядь.
Операция была завершена. Немцы запихнули в коляски раненного в живот (он был без сознания) и другого, мертвого, которого нашла-таки Сережкина пуля, когда он полз в кустах.
Сухов сидел под кустом. Ему очень хотелось, чтобы немцы забыли о нем, уехали без него. Но унтер, закончив сборы в дорогу, повернулся к небритому, и тот, прочтя в непреклонном взгляде участь свою, лишь жалко, искательно улыбнулся.
– Сволош! – сказал унтер. – Цвай дойчен зольдатен... О майн готт!
И, брезгливо морщась, до конца, до последнего патрона, разрядил в лицо Сухова свой парабеллум.
Говорят: «Как аукнется, так и откликнется».
А еще говорят: «Честная смерть – чистой жизни начало»...
Приезжала в деревню Сережкина мать Акулина Евсеевна. Долго сидела на поляне у шалаша – осевшего, схлестанного дождями, черного.
Оля и Толик провожали ее на станцию. Он нес полотняный мешочек, где лежало крошечное потрескавшееся зеркальце в жестяной оправе, изрешеченная осколками пилотка и несколько суконных лоскутков с ржавыми пятнами на них – остатки солдатской шинели.
Был май сорок пятого. Зеленели поля. Пели жаворонки.
Пели они уже над мирной землей, в мирном небе...
Зимние грозы
Почти весь день ни поклевки, а тут на́ тебе, будто прорвало – успевай подсекать да вытаскивать. И рыба шла любо глянуть – красивая мерная плотва.
– Вот так пушкин-батюшкин! – возбужденно крутил головой и сдавленно посмеивался Володя, юный студент филфака. – Принесу в институт, не поверят ребята, скажут, в магазине словил, на крючок серебряный... Первый раз в жизни такое!
– Бывало и не такое, – с превосходством старшего возражал ему моложавый и розовощекий, в щегольской пыжиковой шапке и оленьих унтах доцент Игорь Павлович. Он тоже торопился, вываживая на лед рыбу. Жадничал немножко, но старался не терять солидности.
– И лишь третий – в белом полушубке, туго перепоясанный широким ремнем, молчаливый, с грубоватым лицом – будто и не радовался удаче, прятал в рюкзак плотву и все посматривал на небо, поднимая над воротником полушубка крепкий раздвоенный подбородок. Звали его Иваном Ивановичем. Володя был его сын, а доцент Игорь Павлович доводился зятем.
Как-то вдруг, внезапно на реке потемнело.
– Неужто вечер уже? – удивился Володя.
Но то был не вечер. С крутого берега с въедливой неторопливостью сваливалась на реку туча. Странная какая-то туча, причудливая, мрачного обличья. Словно спускался на них с неба высоченный старинный замок, двигая перед собой крепостную стену с зубчатыми пряслами и полукруглыми сторожевыми башнями. Громада замка была угольно-черная, а стены казались подернутыми пеплом. На их глазах пепел из серого стал белым, и туча-замок сыпанула в людей снежными стрелами. Пал на реку и помчался, дико взвыв в берегах, снежный вихрь, такой сильный, что они, сидевшие над лунками, вместе со своими раскладными стульчиками сдвинулись и шибко покатились по льду.
Снег разом залепил лица. Не видя друг друга, тревожно перекликаясь, падая и поднимаясь, они заспешили укрыться под берегом. Сбились в тесную кучку.
– Ну и завару... – сказал было Володя и не договорил. В широко раскрытых глазах его мелькнул по-детски отчаянный испуг – толстая, извивающаяся, многоглавая, как Змей Горыныч, молния соскользнула со стены замка и у подножия зубчатых прясел рассыпалась на мелко-огнистые жала. Свет был мгновенен и невыносим. Рыбаки зажмурились и уже вслепую услышали страшный и краткий взрыв грома – будто за зубцами крепостной стены в вознесенном в поднебесье граде разом взорвались все пороховые склады.
– ...Три, четыре, пять, – помертвевшими губами считал Володя удары грома. И, не дождавшись шестого, приоткрыл глаза. Туча быстро уходила к дальнему лесу. Замок, разрушенный, видно, первым уже, самым яростным взрывом, оседал, дымно клубясь, разваливался, теряя четкие очертания. Снег еще валил густо, но ветер стихал, и уже можно было без риска быть сбитым с ног выйти из укрытия.
– Первый раз в жизни такое, пушкин-батюшкин, – дрожащим голосом, счастливо улыбаясь, сказал Володя. Гроза в феврале. Да какая! С громом и молнией. Расскажу в институте, не поверят ребята.
Игорь Павлович, в меру испуганный и в меру побледневший, хотел по обыкновению возразить Володе, что, мол, видел он на своем веку и подиковинней грозы, но, глянув в озабоченно хмурившегося тестя, обратился к нему.
– Вы что, Иван Иванович?
– А то, посмотрите-ка…
Иван Иванович потоптался на месте, показывая, как глубок снег. Его за какие-нибудь десять минут намело столько, что теперь мудрено было отыскать лунки и брошенные возле них удочки.
Туча давно скрылась за лесом, небо очистилось, но воздух не посветлел – вечерело уже по-настоящему. Они долго бродили по снежным барханам, нашли-таки рюкзаки и стулья, а на удочки махнули рукой.
– Что будем делать? – спросил Иван Иванович, почему-то не у доцента, а у Володи. – Ясно, что Васек не пробьется. Мы и утром сюда еле проехали, а теперь…
– Да, перемело дороги, – поспешно согласился Игорь Павлович. – А мне завтра экзамены принимать у первокурсников. Умри, а к одиннадцати надо быть в институте.
– И мне, – смущенно усмехнулся Володя. – Сдавать Экзамены. Вам, Игорь Павлович.
– Что? – раздраженно переспросил тот.
– Вам сдавать буду.
– Ах да, конечно. Подготовился?
– Да как вам сказать... Но если учесть всем известную вашу доброжелательность к нашему брату…
– Ну это ты брось, – осадил его доцент. – Молод еще льстить. И не воображай, пожалуйста, что если мы в родственных отношениях и вместе на рыбалку ездим... Правильно я говорю, Иван Иванович?.. В самом деле, зачем сегодня поехал, коль чувствуешь себя неуверенно. Сидел бы над книжкой. А я, старый дурень, и не подумал об этом…
Игорь Павлович кокетничал, называя себя и старым и дурнем: было ему тридцать пять лет, и ума ему не занимать было.
– Ладно, – сказал Иван Иванович, хмуро рассматривая маленькие ноги доцента, обутые в маленькие аккуратные унты. – Мне, положим, торопиться некуда, самое страшное, если задержусь, – Нина Петровна поругает. А вот вам с Володькой действительно... Давайте обсудим...
Судили, рядили: до железнодорожной станции было километров двадцать, и пройти этот путь впотьмах, по глубокому снегу – значило совершить подвиг. Но никто из троих не был готов к подвигу. Решили искать ночлег.
– Есть тут поблизости деревушка, – сказал Иван Иванович. – Всего два или три дома. Умирающая, короче... А название веселое, от прежних времен, видать, Малиновка... Лет пять тому ночевал я там у мужика одного – Лукича, если память не изменяет. Бобыль, а хата большая, просторная. Печку жарко топит. Авось здравствует еще и никуда не уехал...
Они вскарабкались по крутому склону и, завидя огоньки недалекой деревни, двинулись напрямик, по целому снегу. Володя, как самый молодой, торил тропу, за ним шел, посапывая, покряхтывая, доцент, и замыкал шествие понурый, потерявший военную выправку Иван Иванович.
Гроза растревожила и утомила отставного полковника: будто он снова, как в дни молодости, на фронте, пережил жестокую бомбежку. С тяжким воем падающих, казалось, на голову фугасок, с черными космами вздыбленной земли. Долгую бомбежку, вымотавшую до предела нервы.
Долго стучали в дверь. Наконец на крыльцо вышел кто-то неразличимый в потемках.
– Лукич, ты? – спросил Иван Иванович.
– Ну я, – испуганно и торопливо откликнулся из темноты голос. – Кто такие?
– Иван Иванович. Помнишь, рыбак у тебя как-то гостил?
– Гроза-то какая была, – невпопад пробормотал тот, кто стоял на крыльце. – Вот уж истинно – страсть господня. До сих пор дрожака даю...
– Так пустишь в избу?
– Иван Иванович, говоришь? Что-то не припомню. А в избу – пожалуйста: не пропадать же вам в ночи.
Однако в избе, на свету, Лукич узнал Ивана Ивановича (или сделал вид, что узнал) и радостно засуетился. Помог стащить с плеч рюкзак, бережно принял полушубок и, повесив на гвоздь у двери, старательно разгладил ладонью подвернувшуюся полу.
Так же радушно, впрочем, приветил он и доцента: похвалил его унты и пыжиковую шапку. А Володю, которого мучила жажда, напоил домашним квасом.
Рука Лукича, когда он подавал кружку, ходуном ходила, и Володя приписал это действию недавней грозы. Иван Иванович сразу догадался, в чем дело. Лицо хозяина было сизое, отечное, а глаза смотрели как у стратотерпца с иконы – вселенски тоскливо. Да и перегаром попахивало от хозяина крепенько.
Обласкав гостей, насуетившись, он вдруг обмяк, опустился на лавку, кряхтя и встряхивая головой.
– Гульнул, Лукич? – тихонько и как бы даже участливо спросил полковник.
– Ой, было, было... Ходил я в Язвище, ну и стрел там дружка. Мы с ним на фронте в одной роте воевали. Я солдатом, он старшиной был. Вроде бы и причины никакой, а он командует: ать-два в магазин, товарищ боец, одна нога здесь, другая там... А тут еще гроза эта... Короче сказать, выбился из колеи, как телега в распутицу.
Иван Иванович кивал понимающе, словно и сам не раз бывал в таком аховом положении, Игорь же Павлович напустил на себя строгость:
– Зачем же пить, если организм расстраивается? Вы кем в колхозе работаете?
– Свинарь я.
– Вот видите. Работа ответственная: привесы и прочее. А вы с больной головой к животным. Страдает ведь дело.
– Страдает, – понуро согласился Лукич. Только вы не подумайте, что я часто... Зимой, на холоду, конечно, чаще. Но тут особый случай: во-первых, дружка стрел, во-вторых, гроза эта... Все она, будь неладна... Чуял я ее приближение. Душа ныла. Вот и побежал по приказу бывшего товарища старшины в лавку...
– Ты на грозу не ссылайся, – строго сказал Игорь Павлович. – Кстати, зимние грозы не то что летние. Они опасные. Молнии – фейерверк, видимость одна, ни убить, ни поджечь не могут. Погромыхала, посверкала, вот таких, как ты, уважаемый Лукич, попугала и ушла, не причинив вреда.
– Откуда у вас такие сведения? – не сумев скрыть. раздражения, ворчливо спросил Иван Иванович. – Разве зимой природа грозы меняется?
– Читать надо! – внушительно сказал доцент. – Много читать, Иван Иванович... Хотите объясню, как возникают зимние грозы? В район, где воздух теплый, прорываются холодные арктические массы, столкновение на почве, так сказать, разности характеров – и вот, пожалуйте вам, – гроза... – Доцент взглянул на полковника победительно. – А хотите предскажу, какая завтра погода будет? Ясный будет денек, морозный, солнечный...
– Ученый человек, вам виднее, – сказал Лукич. – Однако я на своем стоять буду: она самая, гроза эта, на выпивку меня толкнула.
– В средние века люди от грозы колокольным звоном оборонялись. А ты, выходит, водкой?
– Ну, выходит...
– Значит, только в грозы пьешь?
– Кабы только, – вздохнул Лукич.
– Вы знаете, – повернулся доцент к Ивану Ивановичу и пригладил височки, как делал в институте, начиная лекцию. – Это, скажу вам, социальная проблема. Если взять в масштабах всей страны, то получаются цифры – ого-го!..
Полковник с отсутствующим видом рассматривал унты зятя – с рыже-белой опушкой и кокетливыми заячьими хвостиками вверху голенищ.
– Что ж это я! – встрепенулся Лукич. – Вам, верно, с холоду пользительно горячего чего-нибудь. Суп у меня есть картофельный, со свининой...
Заметно приободрившись, движимый тайной мыслью, сладкой надеждой на что-то, он довольно резво протопал к печке.
Рыбаки уселись за стол и, подтащив к ногам рюкзаки, стали выкладывать у кого что было. У Ивана Ивановича нашлось скупо – кус сала и рыбные консервы, зато рюкзак доцента оказался той самой торбочкой из сказки, в волшебном нутре которой уютилось все, что душа пожелает. Небрежно щурясь, Игорь Павлович выкладывал на стол пирожки и коржики, распластанную надвое жареную курицу, ноздреватые пластины сыра, пупырчатые огурчики, конфеты, сахар. Вытянув шею, следил Лукич за гостем залетным, который, судя по всему – и одежде, и харчу, – был немалой шишкой в городе. Следил и ждал. Ждал достойного завершения всей этой благодати.
Но не дождался. И когда Игорь Павлович отодвинул в сторону тоще опавший рюкзак, вздохнул покорно и тяжело...
Да, бывает и такое: ни у кого из рыбаков не оказалось ни спирта, ни водки, ни даже какой-нибудь плодово-ягодной «бормотухи» ценой один р. две коп. за бутылку. Володя совсем не пил, доцент употреблял лишь по большим праздникам, а у полковника в последнее время сердце пошаливало – ему жена не разрешала.
Делать было нечего. Лукич разлил в миски суп, поставил перед гостями, а сам сел на табурет у порога и тоскливо задумался.
– Ты что? – окликнул его Иван Иванович. – Давай с нами.
Лукич лишь рукой махнул.
Стали ужинать без хозяина. Полковник ел без особого аппетита, но старательно. Доцент, отмякший в избяном уюте, наслаждался каждым кусочком. Володя жевал торопливо и небрежно, как человек, твердо знающий, что есть на свете кое-что и поинтересней еды. Он все поглядывал на Лукича, который нещадно смолил, высасывая дым из толстой самокрутки. Был свинарь широкоплеч, лысоват, с могучим шишковатым лбом, под которым совсем маленьким казался короткий нос. «Живописный мужик, ну просто Хорь тургеневский», – думал Володя и улыбался от удовольствия: первый раз в жизни будет ночевать в деревенской избе, да еще у такого колоритного хозяина.
– Ну и гроза, ой, гроза! – внезапно заговорил тот, гулко и хрипло откашливаясь, будто в рот ему попали табачные крошки. – Слышь, Иваныч, я все к тому же... Нехорошо это, конечно, однако же... Одолжил бы мне пятерку... Как вспомню, как она шуровала, с громом да молоньей, даром что зимняя... Я бы к Фроське-продавщице слетал и вас бы угостил... Одолжи, друг…
– Да что я, не вижу? Сам давно бы предложил. – Полковник виновато развел руками. – Но нету у меня, ни рубля нету. Рассчитывал домой к вечеру вернуться – не взял. Понимаешь?
Володя торопливо ощупал карманы, хотя и знал, что, кроме медной мелочи, ничего там нет. Потом вопросительно посмотрел на доцента.
– Есть. У меня есть, – подтвердил Игорь Павлович. – Однако... Он негромко постучал пальцем по столу, словно призывал к тишине студентов. – Однако будем, товарищи, принципиальны. Сделаем ли мы добро Лукичу, ссудив его пятеркой? А может, честнее признать, что нанесем ему вред?
– А у вас, Игорь Павлович, никто и не просит – резко, почти грубо сказал полковник. – Держите ваши деньги при себе.
– Не понимаю этого тона, – обиделся доцент. – Прекрасно знаете, что прав в данном случае я. Потому и сердитесь... Впрочем, я готов дать пятерку. За ночлег и суп. Но при условии, что ни в какой магазин Лукич не пойдет.
– Неужели вы всерьез думаете, что с вас возьмут за постой? – зло усмехнулся Иван Иванович. – Здесь не торгуют ни супом, ни ночлегом. Запомните это!
– Будет вам, будет! – испуганно вскинулся у порога Лукич. – Как петухи, ей-богу. О чем толковать? Обойдусь и без нее, пропади она пропадом. Не ругайтесь только...
Помолчали. Послушали, как потрескивает табак в Лукичовой самокрутке. Из-под веника, что лежал у печки, видел Володя, вышмыгнула мышь, встала на задние лапки, оглядываясь, дернула белыми усиками, обнажив мелкие зубки – точно зевнула, – и снова спряталась под веник. Полковник смотрел в окно – там светилась одинокая, печальная в своей хрупкой красоте звезда.
– Ну и скука у тебя, хозяин, – сказал наконец Игорь Павлович с деланной беспечностью, давая понять, что уже забыл неприятный разговор и жаждет мирной беседы. – Спать еще рано, да и не хочется... Ты что же, даже телевизора себе не завел?
– А на хрена он мне? – коротко отозвался хозяин.
– Может, почитать что найдется?
– Газету выписываю, районную. Коли желаете...
– А книги в доме держишь?
– Нет, не держу.
– Так уж и ни одной?
Лукич пососал потухшую самокрутку:
– Есть одна. Только для вас она неинтересная будет. Божественная.
– Божественная? – оживился Игорь Павлович. – А ну, покажи!
Лукич ушел за перегородку, долго возился там и вынес наконец, держа перед собой на вытянутых руках, глыбистый, зримо тяжелый том. Подул на переплет – пыль так и взметнулась облачком – и положил книжищу перед Игорем Павловичем.
– Да это ж Библия! – вскричал доцент тонким, сорвавшимся от волнения голосом. – Издана в прошлом веке. Иллюстрации Доре... Вы посмотрите, посмотрите!
– Да, – сказал Иван Иванович, трогая пальцем серебряный крест, приклеенный к толстой кожаной обложке. – Богатая книга.
– Вы знаете, какая это редкость? – горячился Игорь Павлович. – За эту книгу Лукичу в любом букинистичем магазине... – Он вдруг запнулся. Зевнул, отодвинул от себя книгу. – А впрочем, не такая уж редкость. До революции выпускалась массовым тиражом. Чтобы в каждой семье, как говорится, был опиум для народа... А ты Лукич, верующий?
– Какое там! – усмехнулся тот.
– А что ж богов завел? – кивнул доцент на иконы в углу.
– От покойной матери остались. Пускай висят – не мешают.
– Значит, совсем неверующий? Ни тютельки?
– Ни тютельки, – вздохнул Лукич.
– Ни при каких обстоятельствах?
– Да как сказать? На войне, не совру, иной раз страшно было. Или теперь испугаешься чего. Вот, к примеру, гроза давешная. Осудите меня иль нет – чуть было не перекрестился.
– Гром не грянет, мужик не перекрестится, – засмеялся Володя.
– Это не вера, – сказал Игорь Павлович убежденно. – Это суеверие.
– Оно, конечно, так, – согласился Лукич. – Против данных науки никуда не попрешь.
– Зачем тогда книгу такую хранишь?– гул свою линию доцент.
– Не выкидывать же. Она мне опять же от матери досталась, а ей дед, помирая, отказал. Память то есть.
– Ясно! – Игорь Навлович, помусолив носовой платок‚ старательно протер крест. – Ты ее кому-нибудь показывал? Скажем, директору совхоза?
– У нас колхоз, председатель у нас. Как-то заходил, случайно увидел.
– И что?
– Ноль внимания. Ничего не сказал.
– Ага, ничего не сказал. А подумать – подумал: зачем‚ мол, человеку Библия, может, верующий?
– Не пойму, куда вы клоните. – Лукич снова засуетился, полез в карман за спичками. – Намекаете, что лишняя она мне?
– Ну, знаете, – уперся в доцента тяжелым взглядом полковник. – Это, знаете... И, задохнувшись, схватился за сердце.








