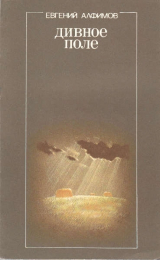
Текст книги "Дивное поле"
Автор книги: Евгений Алфимов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 16 страниц)
Бродячие солдаты
Слабый звук, возникший вдали и понесшийся над полями, можно было бы принять за стрекот кузнечиков. Но стояла глубокая осень: усатые, голенастые насекомые давно уже отстрекотали свое, в теплой летней траве, на желтых горячих стернях отпрыгали беззаботно меру своей короткой жизни.
И была война. Стрекот, похожий на мирную, баюкающую, зевотную песню кузнечиков, сейчас пугал и тревожил. Поднимал к небу голову одинокий путник, дико шарахался к обочине: вслед за стрекотом могла садануть сверху пулеметная очередь или жутко завыть, набирая силу падения, фугаска. И поминай как звали!..
Заслышав стрекот, затихали деревенские околицы, казалось, глубже надвигали соломенные шапки крыш на подслеповатые, с крошечными оконцами избы: стрекот мог означать движение немецких грузовиков, ползущих сюда, к деревне. И поминай как звали деревню!..
Осень исподволь вызревала в зиму. Прекратились дожди, земля стала твердой и гулкой. Крепки, ядрены были в полях утренники. Солнце поднималось невысоко, грело еле-еле и в октябрьской своей подслеповатости лишь к полудню изводило иней, выпивало его, да и то не досуха, оставляя в траве влагу. На закате изморозь снова набирала силу, толсто нарастала на пожухлых былинках.
Перед сном Толик выходил на крыльцо, затаенно вздыхал, жалея себя, прислушивался. Ни голоса человеческого, ни бреха собаки. Деревня цепенела в темноте и зябкости – без огней и звуков. Мертво кругом, голо, открыто. Знобило душу при виде уныло белевшего простора и низко стывшей над ним слоистой слюдинки молодой луны.
Толик спал в углу хаты, на полу. Старенького его одеяла не хватало, чтобы накрыться как следует, и часто он просыпался среди ночи от холода. Осенняя стылость, проникая сквозь щелястые стены, трогала руки, ноги, пронзительным ветерком дышала в лицо. Толик сжимался в комок, стараясь согреться, потом начинал дрожать и тихонько плакать. И плакал он не столько от холода, сколько от ночного одиночества, от мыслей об отце. В июне, когда объявили войну, отец привез его сюда, к своей сестре Фрузе, в торопливой растерянности поцеловал в голову и поспешил обратно в город, в военкомат. Мать Толика умерла два года назад, и теперь он замирал в ужасе, представляя себе вероятное: отца убили на фронте, и он, Толик, остался круглым сиротой...
А в последние дни прибавилась Толику еще одна забота: он думал о солдате Сережке. Истощавшего с голодухи, хворого, его спрятали в кустах за деревней. Толик как наяву видел: вот он лежит сейчас, бедолага Сережка, в шалаше, на куче тряпья – живой скелет, завернутый в дырявую шинель. Лежит и ждет смерти.
Под утро, когда явственней проступали на черноте стены квадратики окон, становилось как бы теплее. Утренний свет грел и успокаивал. Толик переворачивался на правый бок и, ощущая, как легчает стесненному сердцу, засыпал крепко, сладко и спал, пока тетка Фруза не кликала его и других обитателей хаты к завтраку.
Все садились на лавки, плотно жались друг к другу – стол был не маленький, но и не такой большой, чтобы за ним могли вольготно разместиться сразу двенадцать едоков. А едоки были: муж Фрузы, насмешливо-сердитый, бородатый Антон, и дальняя и близкая родня их – беженки, понаехавшие из города.
Детишки (их было пятеро, младшему три, старшему семь) за столом хныкали и, не привыкшие к грубой деревенской пище, ели плохо. Матери шлепали малышей по затылкам, надавив пальцами на щеки, насильно раскрывали им рты, совали туда, как галчатам, куски хлеба, картошку.
Дети были бледные, заморенные, грязные. Толик старался не глядеть на них. Зато он с удовольствием поглядывал на темноглазую худенькую девушку, сидевшую за столом рядом с ним. Пришла она не так давно из дальней деревни. Матери у Оли, как и у Толика, не было, и это сходство судеб еще больше усиливало его симпатии к ней.
Сама Фруза была тринадцатая. За стол она не садилась, прислуживала едокам, подавая миски со щами и картошкой. Только когда беженки, с неутоленно блестевшими после скудной трапезы глазами, вставали со скамеек, вытаскивали из-за стола детишек, Фруза робко, будто и не хозяйка здесь, пристраивалась к уголку столешницы и ела свою, еще более скудную порцию.
Каждое утро Толик ждал. Он рассеянно жевал картошку, привычно-скупо откусывал от хлебной краюшки и все поглядывал в окно. Порой ждал напрасно – солдаты не появлялись. Но чаще из-за поворота дороги, как всегда внезапно, показывались фигуры – и незнакомые, и вместе с тем знакомые выражением лиц, одеждой, всем своим обликом, диковинным и жутковатым. Их хата стояла крайней на деревне, у самой дороги, и не было случая, чтобы солдаты прошли мимо. Раздавался скрип крылечных ступенек, слышалось осторожное топтанье в сенцах, хрипловатое, простуженное покашливание, и, наконец, еще за дверью, несмело звучали вопрошающие голоса: «Можно?»
Это были солдаты, очутившиеся в глубоком тылу врага, которых разметало в разные стороны немецкое наступление, вырвавшиеся из больших и малых котлов, бежавшие из колонн по пути в лагеря военнопленных или уже оттуда, из-за колючей проволоки. Те, кто отчаялся, пал духом, оседали в тихих деревнях, куда редко заглядывали немцы, шли в приймаки к одиноким женщинам и спасались, пережидали трудное время. Другие – таких было большинство – упорно пробирались на юг, к дремучим лесам, чтобы там сбиться в отряды и продолжать борьбу. Шли и на запад, к уже неблизкому фронту, надеясь проскочить за огненную черту и снова воевать в частях регулярной армии.
Обычно двигались по дорогам по двое, редко – по трое. В деревни заходили поесть и погреться. Переступив порог хаты, снимали пилотки, терли остуженные холодом, заросшие щетиной щеки, переминались с ноги на ногу и долго ничего не говорили, лишь взглядами выражая покорность и просьбу.
Толика передергивало от жалости, когда он видел низко опущенные головы, тяжелое смущение этих молодых, а часто и не молодых людей, которые, став на пороге, как бы просили прощения сразу за все – и за то, что пустили немцев в самую глубь страны, и за то, что на солдат уже не похожи – без звездочек на пилотках, без винтовок за плечами, и за то, что кормятся не из ротных котлов, как положено честным бойцам, а побираются в крестьянских избах, забитых детьми, стариками, женщинами, где и своих ртов хватает.
Тетка Фруза порой вздыхала:
– Где-то теперя они, Толик, сынок мой и твой батя? Как входят солдаты, у меня и сердце обрывается – не они ли?..
Толик хотел и боялся прихода отца. Он помнил его веселым, красивым, подтянутым. И было боязно, что он может войти вот таким изможденным, с согнутой спиной, потухшим взглядом.
Уговор у деревенских был: кормить, солдат по очереди. Если, скажем, ты накормил двоих, отсылай двух следующих к соседям. С гордостью за тетку Толик видел, как радовалась она первым путникам, которых можно было и за стол усадить, и пожалеть по-матерински. Но даже добрейшая тетка Фруза не кормила солдат дважды в день: мука уже почти вся вышла, все меньше оставалось в подполье картошки. Надо было думать, как самим прокормиться. Тем более, что появился теперь у них постоянный солдат-едок, шалашный сиделец Сережка.
После завтрака Толик спешил к нему. С тайным страхом совал голову в шалаш – уж не мертв ли? Сережка вымученно улыбался: «Ты?» – «Я, – облегченно вздыхал Толик. – На вот тебе, тетка Фруза прислала». И ставил на Сережкины ноги узелок со снедью. «Ну что у порога стал, садись, гостем будешь», – невесело шутил солдат и от великой слабости закрывал глаза – медленно-медленно натягивал на них желтые пленки век.
Иногда Сережка приподнимался. Уперев руки в солому, сидел, нахохлившись, втянув в плечи взъерошенную голову. У него круглые светлые глаза, загибающийся книзу нос. В такие минуты солдат походил на большую печальную птицу, которая знала, что ей уже никогда не летать.
Стрекот все нарастал, усиливался. На этот раз он был шумом мотоциклов, нелепо переваливавшихся в глубоких колдобинах проселка. В головной машине за рулем сидел немец с унтер-офицерскими нашивками, рядом, в коляске – грузный, небритый малый, судя по шинели – русский. Немец хранил неподвижность, он был частью машины. Русский нервно ерзал в коляске.
Эти двое молчали. Восемь немцев, ехавшие следом, громко бранились. Они ругали русские дороги, хуже которых нигде не видели, русское небо, еще вчера безоблачное, а сегодня сменившее милость на гнев, сыпавшее мокрый снег, ругали всю эту плоскую, скучную, несуразную страну. Крылья их пилоток были опущены, воротники шинелей подняты, над воротниками торчали крупные, покрасневшие на холоде носы. Немцы ругались, чтобы согреться.
Ругали они и небритого русского, по милости которого их подняли ни свет ни заря. Но русский не понимал немецкой речи.
– Вайтер? – спросил унтер, не глядя на русского.
Тот догадался, о чем спрашивают, ткнув грязным пальцем, отозвался шепотом:
– Скоро... Вон за тем кустом.
– Руих! – вполголоса приказал унтер не в меру гомонившим солдатам, впрочем не надеясь, что будет услышан.
Приказывал он так, ради порядка. Вовсе не обязательно было соблюдать тишину, нарушаемую к тому же шумом моторов. Операция предстояла пустяковая – взять бродячего русского солдата, прятавшегося в шалаше. По сведениям небритого, бежать солдат не мог – обессилел от голода и болезней, стрелять тоже – не имел оружия. Поэтому можно было бы и не брать с собой такую ораву, но порядок есть порядок, а душа порядка – предусмотрительность...
Они пришли втроем. С порога вразнобой роняли привычное: «Здравствуйте, хозяева», дожидаясь приглашения проходить и садиться. Тетка Фруза с суетливой готовностью загремела печной заслонкой. Оля потянулась к полке – достать миски. А Толик быстро, украдкой (боялся обидеть любопытством) оглядел всех троих.
Самым видным среди них был тот, что сел на лавку у ведра с водой, – рослый блондин с тяжелым подбородком, поросшим медной щетиной. Он сохранил еще выправку кадровика, тело держал жестко и прямо. Диагоналевые брюки, видневшиеся из-за откинутой полы шинели, давали повод отнести его к командному составу. Толик отметил про себя дородную полноту блондина – не знал еще тогда, что люди пухнут не только от обилия пищи, но и от нехватки ее.
С другого края скамьи сидел неприметный, тщедушный человек неопределенного возраста, в не по росту просторной шинели. На него Толик не обратил бы особого внимания, если бы внезапно не встретился с ним взглядом: у Неприметного были колючие, щупавшие самую душу глаза.
Эти двое поддерживали плечами третьего – совсем молодого парня, почти мальчика, понуро обмякшего, облизывавшего медленным кругообразным движением языка запекшиеся, обметанные болячками губы. Его ноги без башмаков были толсто завернуты в какое-то странное, с мелкими пуговицами тряпье. Большая тыквенная голова парня нетвердо держалась на тонком стебле шеи, на шее болталось грязное вафельное полотенце, завязанное узлом. И казалось, оттого, что узел был затянут слишком туго, парень задыхался, тяжело носил грудью, гулко, надрывно кашлял в кулак.
– Откуда будете, милые? – спросила тетка Фруза.
– Известно откуда, – нехотя откликнулся Неприметный.
– С сынком моим случаем не служили вместе? Ваней кличут, а по фамилии – Давыденков.
– Что-то не припоминается...
– А, можа, брата моего знали – Миколая?.. Видный собой мужик, в летах уже...
Неприметный и блондин промолчали.
– Нет, н-не знаем, – с трудом выговорил парень с полотенцем на шее и зашелся в приступе кашля.
– Хворый? – жалостливо спросила тетка Фруза, обернувшись от стола, куда ставила глиняную миску с похлебкой. – Можа кипятку ему дать для сугрева?
Дородный, не спрашивая разрешения, зачерпнул кружкой воды из ведра, сделал несколько звучных глотков, вытер подбородок ладонью.
– Кипятку можно, – сказал он. – Только вода она и есть вода. А вот молочка у вас не найдется?
– Какое там, – сокрушенно отмахнулась тетка. – Корову еще летом немцы порешили.
– А если у соседей пошукать? – не отступался блондин. – Девушка сбегала бы... А? – Он кивнул на Олю, которая раскладывала на столе ложки.
– Ишь настырный какой, – не то удивилась, не то одобрила тетка Фруза и поправила на волосах платок. – Ладно, коли так, я сама схожу.
– Не надо! – остановил ее Неприметный. – А ты бы помолчал, Сухов... Этих вон видишь? (С полатей любопытно посматривали детишки.) Думаешь, им меньше твоего молока хочется?
– А я что – для себя прошу? – огрызнулся дородный. – Сережка бы грудь полечил...
– Молчать! – крикнул Неприметный жестким ‚скрипучим голосом. – Опять за старые штучки?
«А командир-то у них – он», – подумал Толик.
– Будя вам, – примиряюще сказала тетка. – Сидайте за стол, чем богаты, тем и рады.
Сережка задергался, пытаясь подняться. Его повели к столу, под руки. Шинель у Неприметного распахнулась, обнажив голую – без гимнастерки и нижней рубахи – ребристую грудь, желтую лунку впалого живота... Теперь Толик понял, чем были обернуты ноги парня.
Тетка положила перед каждым по куску хлеба. Неприметный разломал свой хлеб надвое и половину придвинул Сережке. Хмуро уставился на блондина. Тот помедлил, громко сглотнул слюну и тоже отломил.
– Да что вы, братцы, – хрипло запротестовал Сережка. – Сытей меня, что ли?
И низко нагнулся над миской. С темно-русой головы о свесилась на лоб седая прядь.
Толик обернулся на осторожное, сдерживаемое всхлипывание. Это у полатей, уткнувшись в занавеску, плала Оля...
Оле было шестнадцать лет. Толик помнил первую встречу с ней. Он считал себя уже старожилом в Фрузиной избе: был на исходе месяц с тех пор, как он распрощался с отцом и остался наедине со своей печалью.
И вот однажды в избу пришла девочка – босоногая, с икрами, заляпанными грязью, с мешком, горбившим спину. Стала на пороге и жалко дрогнула уголками губ.
– Олька! – Тетка Фруза кинулась к ней, принялась торопливо снимать мешок, с тревогой спрашивая: – Ай случилось что?
А случилось вот что: Олиного отца призвали в армию, в опустевшей хате стало тоскливо, страшно, и Оля решила просить приюта у родственников.
– Все кинула, все как есть, – сокрушалась Фруза. – Ведь растащут добришко-то!
– Не растащут, я Стукалиху попросила, она. Прилядит.
– А скотина?
– И курицы не осталось, все сожрали немцы.
– И у нас! – весело подхватила Фруза. – Ну хоть бы животинку кинули на развод!
У тетки Фрузы был легкий характер, и в горе утешала она себя просто: что людям, мол, то и нам...
– Коли так, – сказала она Оле, – и жалеть нечего. Садись вечерять.
Будучи родственницей Фрузе, Оля была в родстве и с Толиком. Но каком именно? Толковали об этом за ужином громко и долго, но во мнениях не сошлись: то ли троюродная сестра, то ли двоюродная тетка.
С тех пор Толик мучился вопросом: можно ли любить свою родственницу? Троюродную сестру, наверное, можно. А вот двоюродную тетку... Не стыдно ли?.. Удручала его и разница в годах. Мог ли он, двенадцатилетний мальчишка, что-нибудь значить для почти взрослой девушки?
Оля понравилась ему сразу. Чем – на это Толик вряд ли мог бы ответить. Он лишь почувствовал: за столом стало по-непривычному уютно, как-то покойно и радостно, когда Оля, стесняясь, опустилась на краешек скамейки и подперла рукой щеку.
После ужина стали укладываться спать. «Ну а тебя куда? – озаботилась Фруза. – Вот разве рядком с Толиком...» – «А не слюбятся?» – грубо пошутил Антон.
Видно, Оля очень соскучилась по людям. От ее подавленности, угнетенности не осталось теперь и следа. И все же Толик, уже забравшийся под одеяло, удивился и огорчился: Оля приняла шутку как должное, даже откликнулась на нее. «Подождет еще лет пяток. – И, нагнувшись к Толику, натянула ему на голову одеяло: – А ну не подглядывать, жених!»
Оля вся была тайной. Утром, замирая, он приподнял с носа уголок одеяла. Желтый свет керосиновой лампы заплескался в веках. Толик слегка приподнял дрожащие ресницы. Оля сидела на своей постели так близко, что до нее можно было дотронуться. Подняв к голове руки, она собирала в узел волосы. Колени, не прикрытые короткой рубашонкой, были крепки и круглы...
В своем зеленом мальчишестве Толик едва ли разбирался в тонкостях девичьей красоты, но ему казалось, что не может быть ничего лучше широко расставленных темных глаз Оли, ее подбородка с доброй ямочкой, маленьких розовых ушей.
И нрава она была покладистого: с охотой помогала тетке Фрузе по хозяйству, мыла полы, стряпала, присматривала за детьми. Толик не помнил, чтобы она с кем-нибудь повздорила, сказала кому-либо грубое слово. Благодаря ее хлопотам у трех женщин-беженок, нашедших приют в этой избе, было достаточно времени ссориться и плакать, перебирать в чемоданах тряпки, вздыхать, воскрешая в памяти мужей и городское свое житье-бытье.
Заскрипела дверь, в хату вошел Антон, недовольно покосился на застолье. Нарочито долго стягивал с себя стеганку, с подчеркнутой аккуратностью повесил ее на гвоздик и лишь потом буркнул из-за спины: «Хлеб да соль гостям».
Трудно было поверить, что Антон всегда бывал рад солдатам, дорожа возможностью потолковать с серьезными, понюхавшими пороха мужчинами.
Оглаживая бороду, Антон опустился в низкое, обитое цветастой материей кресло. Куплено оно было в городе еще задолго до войны, чтобы удивлять соседей.
– Откуля бредем? – спросил насмешливо, словами и тоном давая понять, что иного обращения гости пока не заслуживают. (Мол, сами себя вы, может, и считаете солдатами, а мы погодим трошки, подумаем.)
Антону никто не ответил.
– Ай военная тайна?
Неприметный споро, но не жадно хлебал теткино варево. С угрюмой торопливостью работал массивными челюстями блондин. Сережка нервно подергивал белую
прядь.
– А я ее знаю, тайну вашу. Из-под Вязьмы вы. В самую точку?
– Допустим, – сказал Неприметный и насторожился, опустил ложку.
– Ты ешь, ешь, – ехидно-ласково закивал Антон. – Сколько ж вас там, интересуюсь, окружили? Бают, полста тысяч, а?
– А тебе что, в радость? – колюче усмехнулся Неприметный.
– Зачем же в радость? Не русский я, что ли? И сын у меня в армии. Только зачем было похвальбу пущать на всю державу, что будем бить врага на его же земле? Небось сам пел: «Если завтра война, если завтра в поход...» Пел?
Антон выжидающе подался вперед.
– Ну пел. – Неприметный вдруг улыбнулся, показав по-молодому крепкие зубы.
– Вот так-то! – Антон, торжествуя, откинулся на спинку кресла.
– Вредный ты, вижу, хозяин, да не вредней меня, – сказал Неприметный почти весело и стукнул ложкой о край миски. – Вот ударю посильней, и разлетится эта посудина вдребезги, хотя толстая и на вид крепка. Придет срок – в хвост и гриву немца гвоздить будем. И у себя дома, и на его фашистской земле!
– Ой ли?
– Вот тебе и ой ли, хрен старый!
Толик боязливо зажмурился: буен бывал Антон в ярости, скор на руку. Но взрыва не произошло. Толик разлепил веки. Антон по-прежнему спокойно сидел в кресле, дружески щурился на Неприметного.
– А ты на много ль млаже меня? Сколько годков-то?
– Ну сорок пять.
– А мне на полтора десятка боле. Разница, конечно, есть, но не больно великая.
– Не великая?.. Это как судить, хозяин. Значит, великая, коли к своему креслу прилип. Или... Неприметный испытующе-холодно глядел на Антона. – Или душой слабоват? Или из тех, чья хата с краю?
Толик видел, как крупно задрожала лежавшая на подлокотнике рука Антона. Спускаясь от высокого лба с залысинами, лицо заливала багровая краска. Тяжело, по-медвежьи сутулясь, поднялся Антон, шагнул к столу и, как глыба, навис над маленьким, тщедушным солдатом.
– Будя вам, будя, – слабо охнула тетка Фруза.
Блондин заерзал на скамье, втянул голову в плечи.
Неприметный воззрился на Антона с каким-то злым и веселым любопытством.
– Врешь! – крикнул Антон и грохнул кулачищем по столу. Подпрыгнули миски, жалобно звякнули ложки.
– Это почему вру? – спокойно, лишь чуть побледнев, спросил Неприметный.
– Опомнись! – метнулась Фруза к Антону и оттеснила его от стола. – Ведь гости же!
Антон, шумно дыша, снова опустился в кресло.
– А тебе грех, солдат, – сказала тетка Неприметному. – Хата наша и в самом деле на околице, только с краю мы никогда не были. Антон мой коммунию здеся делал. Чуешь?.. Ты попроси-ка его, солдат, плечо показать. Метина там, от пули. А пулял в него кулак Фомка...
– Так, так! – радостно встрепенулся Неприметный, будто ему очень приятно было, что в Антона стреляли. – В плечо, говоришь?
– В левое плечико. Чуток пониже да поправее… Но оборонил господь…
– Ну спасибо тебе, хозяюшка, – сказал Неприметый. – Камень с моего сердца сняла. Только и меня пойми – людей-то не вдруг распознаешь... Что не так сказалось, простить прошу... Слышишь, хозяин?
– Ладно, чего уж там, – буркнул Антон.
Тихо стало в хате.
У Неприметного и блондина миски давно уже были пустые, а хворому парню пища, видно, не шла внутрь: он трудно, будто тяжелую работу делал, глотал похлебку. У его локтя лежала непочатая скибка хлеба. На нее тоскливо косился блондин.
– Закурить бы, – грубо сказал он Антону. Антон бросил на стол кисет. Свернули. цигарки. Неприметный окутался клубами дыма. Зелено, как у ночного кота, мерцали его колючие глаза.
– Хозяин.
– Что еще? – угрюмо откликнулся Антон. Он еще бычился, переживая обиду.
– Немцы в деревню захаживают?
– Случается.
– Часто?
– Часто не часто, а бывают.
– И к тебе наведываются?
– Я не лучше других, всю деревню грабят.
– Хочешь помочь нам? – Неприметный наклонился Антону – Сделай доброе дело. Видишь парня? Захвоил он, дальше идти не может…
– Ну так что? Говори напрямки…
– Устроишь его временно у себя?
Тлеющий огонек цигарки дополз у Неприметного до самых пальцев, он морщился от ожога, но не бросал окурка – ждал.
– А веришь мне? Может, я на ихней службе состою? Доносителем тайным?..
– Хватит об этом, товарищ. Ведь я прощения попросил. Да и не всерьез я в тебе сомневался. Испытывал на всякий случай. Я людей насквозь вижу.
– Будто! – хмыкнул Антон, польщенный.
– Ну так как же?
Антон долго копался в карманах пиджака, вытащил очки и какую-то измятую бумажку. Брезгливо разгладил ее на коленях.
– Дерьмом пованивает, а все ж зачитаю некоторые места. Избранные, говоря по-ученому. Вот: «Собаки должны быть на цепях. Бродячие собаки будут убиваться».
Антон сдвинул на лоб очки и уставился на Неприметного.
– Смекаешь? Немецкий приказ это. Я его со столба содрал.
– Ну и что? – Неприметный нетерпеливо барабанил по столу костяшками пальцев.
– А то, что был у нас пес Шарик. Его, промеж прочим, Толик дуже любил... Пристрелили пса и повесили вниз мордой на березе... Немцы – народ сурьезный, у них так: сказано – сделано.
– К чему ты все это городишь? – вскипел Неприметный. – При чем здесь твой Шарик?
– Непонятно? Тогда слухай дале: «Крестьяне обязаны арестовывать бродячих русских солдат и отдавать их в распоряжение полевой комендатуры. Несоблюдение этого распоряжения карается германскими военными законами...» Ты обрати внимание: «бродячие собаки», рядком – «бродячие солдаты». Для него, фашиста, человек и собака – все едино, кара одна – смерть... За парня вашего боюсь, мил товарищ... Да еще за них, Антон качнул головой в сторону детишек. – Найдут у меня в хате – никого не помилуют.
– Мда-а, – Неприметный потер подбородок. – Тут и вправду надо подумать... Полевая комендатура далеко?
– В Мамошках. Три версты отседа.
– Поймали кого?
– Одного. У Дарки-вдовы жил. Увезли обоих. Ни слуху ни духу. Полагаю, порешили...
– Мда-а, – повторил Неприметный, досадливо морщась.
– Так что смотрите сами. Оставите парня – на улицу не выкину, а уберечь – такого ручательства дать но могу.
– Можа, под крышу его? – раздумчиво подала голос Фруза и тут же ответила сама себе: – Так они, идолы, и туда шастают...
И тогда Толик, до этого молчком сидевший на скамье у печки, несмело откашлялся, и все посмотрели на него...
Никто в деревне не видел, как Толик с Антоном и солдаты вывели Сережку за огороды, как пробирались по густому кустарнику.
Шалаш Толик сделал чуть поодаль от Фомкиного дворища, покинутого еще со времен коллективизации хутора. От него сохранились яма с камнями, где стояла когда-то изба, и несколько одичавших яблонь. Место было глухое, укромное. Правда, Неприметному не понравилось, что метрах в пятидесяти от шалаша пролегал проселок, но Антон успокоил: проселок сходил на нет в торфяной болотине, поэтому немцам был без надобности. Да и свои, деревенские, им давно уже не пользовались.
А шалашом Неприметный остался доволен: неказистый с виду, похожий на кучу хвороста, зато без единой шели, сухой и уютный, с толстым слоем соломы внутри.
– Хозяин-то где? – спросил Сухов у Толика, небритым подбородком показывая на яму с камнями.
– Выселили. – Толик кое-что слышал от деревенских о Фомке.
– Богат был?
– Кто его знает... Наверное…
– Значит, не ленился, вкалывал за милую душу, – заключил Сухов и длинно, замысловато выругался.
Впрочем, он тут же спохватился: закусив губу, с опаской оглянулся на Неприметного. Но тот, занятый своими мыслями, не глядел в их сторону.
Был полдень. Легкий ветер морщинил по-осеннему густую и темную воду сажалки. В затуманенном облачной пеленой небе висело неяркое солнце, на которое можно было глядеть не жмурясь. На яблонях цвинькали синицы. В облетевших кустах осторожно возились и негромко чирикали непривычно грустные, озабоченные воробьи.
– Ну вот, Сережа, прощаться пришла пора, – сказал Неприметный. (И сам он, маленького росточка, в кургузой шинельке, на тоненьких в обмотках ногах, смахивал на воробья.) – Как говорится, не поминай лихом.
Сережка сидел на куче тряпья, которым снабдила его тетка Фруза.
– Да что вы, Иван Петрович. Хватит, повозились Вы со мной. Жив останусь – не забуду вовеки…
Обращался он к одному Неприметному. Блондин похаживал поодаль, жевал былинку, сплевывал в сажалку.
– Жив, жив будешь, – сказал сердитой скороговоркой Неприметный.
– Спасибо тебе, Иван Петрович.
– Поправишься, подавайся на запад. Не может того быть, чтобы фашиста не жиманули. Фронт ближе будет. А то и здесь своих дождешься. Слышишь?
Но Сережка уже не слышал. Откинувшись головой на жердину шалаша, он спал. Веки его вздрагивали, губы шевелились, и, если бы не это, можно было бы подумать, что он мертв.
– Слух есть, – вполголоса сказал Антон, – что скоро двинется дальше ихняя поганая комендатура... Своих, значит, догонять. Тогда мы парня в избу возьмем. Не сумлевайся – выходим...
– Смотри, – строго сказал Иван Петрович. – Ты за него в ответе теперь. – Помолчал. – Ну что ж, давай руку.
И повернулся к блондину:
– Айда, что ли, Сухов?..
Толик запомнил их обоих. Неприметный споро, подпрыгивая на кочках, шагал впереди. Сухов вразвалку, не спеша, поминутно оглядываясь, топал сзади. Казалось, шел он за Неприметным не по своей воле...
Как рассказывал потом Толику Сережка, в плен он попал по-глупому, даже не побывав в боях. Выгрузили их из эшелона поздно вечером, тут же построили и Двинули в ночной марш. Часа через три раздались крики: «Немцы!» Взводный скомандовал рассредоточиться вдоль дороги и залечь. А залечь для солдата – значит немедленно. зарываться в землю. Сережка отстегнул лопатку и стал копать. Скрежет лопаток о песчаный грунт доносился из темноты отовсюду. Вскоре все лежали в окопчиках с винтовками наизготове – ждали немцев. Но их не было и не было. То ли от усталости, то ли от нервного напряжения Сережка внезапно уснул, да так крепко, что не услышал команды строиться. Проснувшись, он уловил вправо от себя какое-то движение, бренчание железа о железо. Кинулся туда, но никого не нашел. Тьма стояла кромешная, и Сережка, от рождения слабый зрением, был будто совсем слепой. Побежал наугад сквозь кусты, негромко окликая по фамилии отделенного, попал в болото, еле оттуда выбрался. Было уже, наверное, близко к утру. Сережка решил ждать рассвета, на ощупь отыскал местечко посуше, положил под затылок вещмешок с сухарями, рядом винтовку и снова уснул.
Разбудили Сережку тихие, словно боявшиеся потревожить его сон голоса. Он приоткрыл веки, глянул сквозь ресницы и помертвел от жути. Над ним стояли, покачиваясь на длинных журавлиных ногах, два немца. Стояли очень спокойно. По-домашнему благодушные, дымили сигаретами, неторопливо беседуя. Чувствуя, что случилось непоправимо ужасное, Сережка дернулся схватить винтовку. Но немец, стоявший поближе, коротким, с раструбом сапогом наступил на дуло винтовки и, осклабившись, уставился на Сережку.
– Гутен морген! – пропел он, по-петушиному звонко, картаво выговаривая «р», и опустился перед Сережкой на корточки. Из-под распахнутой куртки Сережке в нос шибанула сложная смесь запахов: пота, табака, одеколона.
Второй немец, в очках, затрясся в хохоте, ходуном заходил висевший у него на груди автомат.
– Ганс, Ганс! – крикнул он в восторге от шутки товарища. – Дас ист вундербар!.. Руссиш сольдат слядко спаль, и теперь желяйт... Вас эр желяйт? Он желяйт кафе! Гиб им айнен, Ганс. Гиб!
И очкастый бросил Гансу фляжку.
– О майн либер юнге, – ласково, как добрая старушка-мать, заворковал, склонившись над Сережкой, немец. – Дайне мутти либт дих зо зер! – Ганс отвинтил от фляги пластмассовый стаканчик, наполнил его до краев и поднес к губам Сережки. – Битте кафе, майн либер...
Ошеломленный, Сережка проглотил содержимое стаканчика: это и в самом деле был кофе.
Очкастый уже не смеялся – обессиленный, он повизгивал тонко, квохтал по-куриному, держась за живот:
– О Ганс, Ганс!..
Шутник Ганс тем временем всовывал в Сережкин рот сигарету.
– Иетц айне цигаретте, майн либер!
Щелкнув зажигалкой, поднес огонек:
– Битте. Их бин дайне гуте мутти...
Сережка наконец-то пришел в себя. Было ясно, что к нему относились несерьезно: не как к солдату, а как к мальчишке, которого вряд ли стоит брать во внимание. С ним разыгрывали веселое шутовское представление, отводя ему самую унизительную роль. И он, приподнявшись на локтях, сказал отчетливо, с холодной яростью:
– Сволочь ты! – И выплюнул сигарету в лицо Гансу.
И сразу все стало на свои места.
– Ауф! – раздался резкий окрик.
Поднимаясь, Сережка увидел остро-злые глаза очкастого, автомат, наставленный в живот. Обернулся к Гансу. Исподлобья, прищурясь, как сквозь прорезь прицела, смотрел на него шутник Ганс. Не было веселых, добродушных, решивших малость позабавиться парней – были враги.
Сережку повели...
После короткого допроса его вместе с другими пленными загнали за колючую проволоку, на кочковатый пустырь – голый и безводный. В первые три дня не давали ни пищи, ни воды, потом по утрам стали приезжать кухни. Очередей возле них не было, были обезумевшие от голода толпы. Посудой служили старые консервные банки, каски, если же их не было, подставляли раздатчику пилотки, пригоршни или просто тянулись вверх с широко открытыми ртами в жалкой надежде поймать губами струйки, сбегавшие с черпака во время его снования над головами пленных. Порция была – пол-литра мучной похлебки на день.








