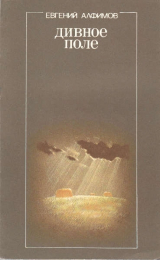
Текст книги "Дивное поле"
Автор книги: Евгений Алфимов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 16 страниц)
– Ну! – довольно прищурился на друга Гордей. – Мы, Макеевы, все наскрозь везучие. Только жениху эти деньги не достанутся: Галька и приехала, чтобы гульнуть как следует, на приволье, значит... Будет дым коромыслом... В магазин сейчас побежала, за вином. Ежели подождешь, может, и нам по маленькой отколется.
– Ждать не будем, – Прокоп, огладив штанину, обозначил на бедре округлость спрятанной в кармане чекушки. – Со своей пришел... Выпьем давай?
– Это мы завсегда с полным нашим удовольствием. А по какому случаю угощаешь?
Прокоп замялся:
– Да как тебе сказать... Премию Дуське выдали.
– Обмоем премию, хрен ей под колено!.. Айда в хату!
Гордей никогда жадным не был: налил в миску меда, колбасы городской, Галькиной, кружочками настрогал, огурцов на стол навалил – все честь по чести. Но только они уселись, только выпили по стопке, как дверь распахнулась, и в избу ввалились детишки. Затоптались несмело у порога, поглядывая на стол.
– Ну что, архаровцы? – спросил Гордей. – Дух медовый с улицы учуяли?
– Да на что нам мед– унылым разнобоем откликнулась ребятня. – Мы по делу к тебе, дедушка Гордей.
– Смотри-тка, по делу, – подмигнул Гордей Прокопу.
Вперед выдвинулёя толстый мальчик в нарядной куртке с желтыми плечами – тот самый Виталик, который дразнил Прокопа вчера вечером. Побегал по сторонам бойкими мышиными глазками, пнул локтем вертевшуюся под боком девчонку в красном беретике и вытащил из кармана свернутую в трубку, замызганную тетрадку.
– Нас учительница прислала. Мы ко всем ветеранам ходим, воспоминания записываем. Для музея.
– Красные следопыты, стало быть, – разгладил усы Гордей. – Очень даже кстати. Умная, видать, баба – ваша учителка, вас, фулиганов, к серьезному делу пристраивает... И с дедушкой Прокопом заодно побеседуйте.
– Да ну его! – мальчищка отмахнулся, даже не взглянув на Прокопа. – Нам Маргарита Евсеевна ясно сказала…
– Однако ж ты нахаленок, едри тя в корень, – строго постучал Гордя по столу костяшками пальцев. – Хоть я Проньке и жизнь спас, заслуги у него тоже немалые.
– Угу! – шмыгнул носом Виталик. – Мы к тебе, дедушка Гордей, после придем, когда ты один будешь. Ага?
– Стой! – приказал Гордей и повернулся к Прокопу. – Вишь, какая оказия вырисовывается, только я, стало быть, им нужен... Давай допьем, и иди себе домой, я уж за двоих расскажу, что и как было...
«Ты уж расскажешь, – думал Прокоп, поднимаясь из-за стола. – Ты уж такое за двоих наплетешь, что десятеро не расплетут...»
Всю жизнь Гордей сам себя расхваливал, и получилось так, что, кроме него, в деревне не было больше героев. Никто не вспоминал его, Прокопа, тоже орденоносного с той же самой гражданской, были отодвинуты на задворки израненные, кто без рук, кто без ног, мужики, побывавшие в самом пекле Отечественной. Гордина красноармейская книжка времен войны с беляками под стеклом в школьном музее, там же хранилась его буденовка с дырочкой на шишаке: лети, мол, пуля чуть ниже – и угодила бы Гордею прямехонько в лоб. Не хотел Прокоп быть несправедливым к другу, храбрый он, чертяка, что и говорить, но ведь Прокоп доподлинно знал: буденовку эту с дырочкой Гордя выменял у одного бойца за стакан махры, забыв где-то по пьяной лавочке свою собственную. Потому и не верилось Прокопу, что Гордя будет в ладах с маткой-правдой, нагородит небось ребятишкам бог знает что, повяжет быль с небылью, перешьет все,
как портной-неумеха, шиворот навыворот, где умышленно, а где по причине дальности тех лет, которые видятся теперь будто в тумане.
– Ну что задумался, умная голова? Топай давай! – поторапливал Гордя медлившего друга, зажевывая последнюю огурцом. —Не обессудь, малый, дело, сам понимаешь, государственное – смену воспитывать буду...
– Ты уж навоспитуешь, – бормотал Прокоп, закрывая за собой дверь. – Знаю я тебя, воспитателя...
Его, Прокопа, в жизни никто не пригласил выступить в школе перед детишками, без него проходили вечера в клубе, куда собирали допризывников со всей округи. А к Гордееву дому чуть ли не каждую неделю подкатывали машины – то председательский «газик», то райвоенкомовские «Жигули», а то и райкомовская «Волга». И туда везли старика и сюда. Одна у него была забота – сам признавался – за собой следить, как бы не пустить с трибуны, по привычке, длинным забористым матерком... Слушали его внимательно, хлопали дружно...
А чем хуже был он, Прокоп? Гражданская гражданской, а взять недавнюю Отечественную. Гордя на ней и пороху не понюхал – по причине болезни желудка белый билет имел, в тылу отсиделся. А он, Прокоп, когда фашисты надвинулись, самолично, не дожидаясь повестки, поспешил к военкому. Правда, служил в нестроевой трофейной команде, но в переделки опять-таки попадал аховые, снова ранен был и снова орден заработал – Красную Звезду... Так у кого ж заслуг больше?
Поначалу и он не прочь был в кругу односельчан похвастаться боевыми наградами, порассказать, как заработал их, а поскольку все мужики и сами воевали с немцем, приходилось больше вспоминать гражданскую. «Вот когда мы Перекоп брали...» – начинал, бывало, Прокоп, слюнявя в губах самокрутку и с наслаждением делая первую затяжку. И замолкал. «Ну и что?» – спрашивали мужики. «Помню, командир у нас на Перекопе был. – Прокоп делал вторую затяжку. – Ужасть какой бедовый! Как шумнет, помню: «Красные орлы, за мной!..» И опять замолкал. «А дальше что?» —«А что дальше? – удивлялся Прокоп. – Дальше мы врангелят этих, того...» Чего уж греха таить, на красное словцо не мастак был Прокоп. Вскоре его перестали слушать, и только он заводил: «Вот когда мы Перекоп...» – как раздавались смех и дружное шиканье – заткнись, мол, со своим Перекопом. А вот кличку себе схлопотал, так и прозвали его – Перекоп.
Все же лет пятнадцать тому назад, когда наконец-то по-настоящему вспомнили их брата фронтовика, пригласили его однажды на районное собрание, посвященное Дню Победы. Усадили их отдельно, на сцене, за почетным столом, на котором в праздничном свете сильных ламп поблескивали строго поставленные в длинный ряд огромные графины с водой. Можно было просто протянуть руку, налить в стакан и утолить жажду – она сильно в тот вечер мучила Прокопа, наверное, от волнения. Но вольности такой он себе не позволил, графин не потревожил, сидел, напустив на лицо внимание, слушал выступления бывших солдат. Все шло ладно до тех пор, пока не предоставили слово и ему, Прокопу. Он внутренне готовил себя к этому весь вечер, но в решающую минуту растерялся, его бросило сначала в холод, потом он покрылся испариной. Уже тогда его мучила ножная болезнь, он тяжело заерзал за столом, застучал клюкой, пытаясь подняться и с тоской глядя на трибуну, которая, показалось ему, отодвинулась куда-то в даль. «Пусть с места говорит! – закричали в зале. Однако отказали не только ноги, но и язык. Сумев в конце концов встать, он раз-другой взмыкнул нечленораздельно и под сдержанные смешки, правда больше сочувственные, чем злорадные, снова плюхнулся на стул... Удручала тогда Прокопа мысль, что его могли принять за пьяного, на деле ж он и капли не выпил.
Больше его никуда не приглашали, махнули на него рукой: робок-де и не оратор, пусть дома сидит.
Дед и сам знал за собой эту слабину – робость. И завелась она в нем давненько, еще в дни молодости, когда пришло к нему горькое понимание, что живешь не так, как хочется...
В ту зиму слух по деревне прокинулся: завелась в Колпинской даче, забегает на бывшее помещичье подворье лисица. Эка невидаль – лисица, никто бы и речи о ней не повел, да вся закавыка в том, что больно диковинна была колпинская Патрикеевна. Первым увидел ее Устин – старик трезвенный и ни в какой лжи не уличенный. Приплелся он на сожженное мужиками в революцию и покинутое хозяевами подворье, чтобы парой-тройкой кирпичей разжиться – печку починить. Опустил в мешок кирпичину, глядь, а у елки неподалеку зверь стоит и этак пристально на него, Устина, смотрит. У безоружного старика в животе от страха похолодело – думал, волк, до того большим и плотным был зверь. А потом вгляделся – доподлинно лисица: морда острая, хвост пушист, шуба огнем полыхает. Старик на нее кирпичом замахнулся, а кумушка зубами щелкнула, пасть скривила – ухмыльнулась будто...
Было ж ей, понял Прокоп после, с чего ухмыляться, задала она кой-кому звону.
Ольга, пока они с Гордеем на войне были, стала настоящей красавицей. И ничего в ней почти не осталось от прежней тихони-скромницы, похожей на юную лошадку, по поводу и без повода опускавшей долу ресницы и заливавшейся густым румянцем. Теперь ходила по деревне павой, разнаряженная, в козловых сапожках, с цветастой шалью на полных плечах, не замужняя, но уже хорошо знавшая свою женскую силу молодая баба. С Прокопом и Гордеем разговаривала, посмеиваясь, с небрежной сннсходительностью. Но такой им, мужланам-перезрелкам, она казалась еще желаннее. «А ну, женишки, подьте сюда!» – позвала она их однажды на вечерке. Поманила кивком головы в центр избы, где возле пьяного и усталого, сникшего к своей ливенке гармониста толпилось с десяток некрасивых, глупо хихикавших девок – ее подруг-наперсниц. Бойкий Гордей чуть ли не бегом на зов кинулся, Прокоп, как всегда, замешкался, приблизился бочком вслед за другом. Из-под низкой челки Ольга обожгла их обещающим взглядом: «Так как же, храбрые воины, еще не раздумали брать меня в жены?.. Вон они, – кивок на девок, – уши мне прожужжали про чудо-лисицу, что в Колпинской даче объявилась... Не врут?» – «Есть такой слух», – состорожничал Прокоп. «Да я ее, заразу рыжую, самолично видел», – крикнул Гордей. «Тогда слушайте мое слово... все слушайте! – Ольга притопнула ногой и подождала, пока в избе не утихло. – Кто вот из них двоих, – раскинув руки, она положила ладони на плечи дружков, – добудет мне колпинскую лисицу на воротник, тот и станет мне мужем».
Гордей бегал в Колпинскую дачу чуть ли не каждый день. Залегал с ружьем в снегу и, затаившись, поджидал Патрикеевну – авось обманется тишиной и выйдет на мушку. Однако терпения у Горди хватало ненадолго: пролежав тишком минут десять, он начинал ворочаться, нервно позевывать, закручивать сквозь зубы матерки. Потом вскакивал, ломился сквозь кусты напролом, свистел в два пальца, надеясь вспугнуть кумушку, заставить бежать на виду... Да куда там, лиса как сквозь землю провалилась.
Прокоп решил действовать похитрей. Ружья у него не было, но он и не рассчитывал на ружье – пошел в соседнюю деревню к опытному зверолову Пахомычу и одолжил у него капкан. Порасспросил, конечно, что и как надо делать, чтобы рыжая кумушка попалась в железа беспременно и в кратчайший срок. Вернувшись домой, прямым ходом кинулся на задний двор и поймал там тощего куренка, которому тут же, положив на колоду, смахнул топором голову. Не обращая внимания на горькие причитания матери, сунул неощипанную птицу в топившуюся печь и подождал, пока изба не наполнилась густым смрадом паленых перьев. Теперь нужна была елочная хвоя. Ее Прокоп добыл, срезав несколько веток у стоявщей возле свинарника молодой елки. Хвою ссыпал в ведерный чугун с водой, туда же опустил капкан и, посадив чугун на рогули ухвата, сунул его подальше в печь, в самый жар полыхавигих поленьев. Варка капкана в хвоевом настое, объяснил Пахомыч, отбивала от железа все запахи, оставляя лесной, привычный для зверя.
В тот же день Прокоп поставил ловушку. Поставил вдалеке от Гординых маршрутов, на заранее найденном месте, – там, куда, судя по замысловатой сумятице следов; лиса приходила мышковать, то есть, оголодав к середине зимы, ловить мелкую хвостатую тварь. Вбил здесь Прокоп в снежный наст ольховый кол, повесил на него куренка, а внизу пристроил и запорошил снегом капкан. Постоял, размышляя. Кажется, все было сделано надежно, аккуратно, без малейших отклонений от указаний хитроумного Пахомыча. Прокоп перекрестился, хотя и не шибко-то верил в бога, и зашагал восвояси, почти не сомневаясь в конечном успехе.
На следующий день, под вечер, он пошел проверять капкан, и то, что увидел, повергло его в уныние и злобу. Капкан был защелкнут, куренок исчез, а рядом с его вчерашними, от сапог, следами были натоптаны другие, совсем свежие – от валенок с подшитыми пятками. Прокоп присел, пригляделся – в черных челюстях железной ловушки торчал клочок рыжей шерсти. Поймалась лисица, не обманул Пахомычев капкан, да только выкрали у Прокопа из-под носа его законную добычу.
Сняв капкан, он отправился к Горде. «У тебя лисица?» – спросил с порога, косясь на валенки, сушившиеся у печки. Дружок, с разопревшим красным лицом, в расстегнутой рубашке, восседал за столом и хлебал щи со свининой. Именно со свининой, Прокоп определил это по белым кусочкам сала, густо плававшим в глиняной миске. Сидевший, почитай, с рождества без мяса, он покатал во рту языком голодную слюну и, укрепляясь не то чтобы в злобе, а в едкой обиде на во всем удачливого друга, спросил снова: «Так у тебя, что ль?» Гордя облизал ложку: «Ну у меня... А что?.. Я ей, чертовке, в самый глаз пульку пустил, из шкуры ни одного волоска не упало». – «Покажь!» – потребовал Прокоп. Вышли в сенцы, Гордя вытащил за хвост из-под лавки лису, в самом деле большую, тяжелую, волку под стать. «Гля, – Гордя повернул зверя так, что стал виден вытекший глаз. – Вот как надо стрелять, браток!» Прокоп ощупал лапы лисицы и сразу же обнаружил на передней правой пере– битую кость. Нагнулся ниже и увидел там, куда пришелся удар железа, проплешину в шерсти и темное кровяное пятнышко. «А это что?» – «Ты о чем?» – прикинулся непонимающим Гордей. «О том, что ты ее из капкана вынул». – «Проспись иди, – беззлобно хохотнул Гордя. – Из какого такого капкана?» – «Из моего... а стрелял ты в нее уже в пойманную». – «Ты что, очумел? – как бы и взаправду осерчал Гордя. – Говорят тебе, собственноручно застрелил, побожусь, чем хочешь, не сойти мне с этого места... пузырь тебе в печень!» – «Отдай лисицу», – тихо попросил Прокоп, чувствуя, что сейчас заплачет. «Хрукт, ну и хрукт! – покачал головой Гордя и оглянулся, будто искал свидетелей черной Прокоповой неблагодарности. – А еще друг называется, и я такому жизнь спасал...»
Что было делать Прокопу? Снова, как там, на лугу, кинуться в драку? Так это ж к одному позору другой прибавлять, снова избил бы его Гордя жестоко. Он уже щурился недобро, посапывал, теснил друга грудью к выходу. «Подавись ты этой лисицей!» – только и сказал Прокоп, сбегая с крыльца.
– Давно все было, ой давно! – шептал Прокоп. Он брел домой, спотыкаясь, пошатываясь, клюка его, как у слепого, тыкалась в разные стороны. Застолье у Гордея не оставило ничего, кроме докуки, в голове пошумливало от водки, от меда мутило. Хотелось побыстрей лечь на диван и, ни о чем не думая, закрыть глаза.
Он был уже недалеко от дома, когда из боковой улицы вывернулось навстречу ему немноголюдное, но шумное гульбище. В крупной осанистой девке он сразу узнал Галину. Приплясывая, притоптывая, она вела за собой гурьбу – трех знакомых Прокопу трактористов, двух доярок с молочной фермы, несколько подростков-школьников – короче, почти все младое племя Подосинок. Левой рукой Галина помахивала над головой голубым платочком, в правой, опущенной, пузатилась кошелка, из нее, как цыплята из решета, высовывались винные бутылки с желтыми ермолками на горлышках. Впереди процессии, вслед за Галиной, бросаясь по очереди в пляс с присядкой, двигались молодцы-механизаторы. Идя по кругу, они лихо выхватывали из кошелки пол-литровые емкости. А самый ловкий ухитрился, не прерывая танца, открыть бутылку, приблизить ко рту горлышко и сделать глоток-другой. Он волчком вертелся у ног Галины, потом отшвырнул бутылку, выпрямился и, дробно стуча сапогами, с нарочитой грозностью наступая на деваху, запел:
Милая, красивая,
Звезда неугасимая.
Ты горела, таяла,
Любить меня заставила,
«С какой стати гуляют? – думал дед, ошалело слушая частушку. – В такую рань. Иль воскресенье сегодня?» Он зашевелил губами, вычисляя день недели, но тут же сбился: за ненадобностью давно уж не следил он за календарем.
– Что, Перекоп, ворон считаешь? – крикнули ему из толпы. – Айда плясать с нами!
«Эко моду взяли молодые, – сокрушался дед, ковыляя дальше. – Да разве в старину такое было? Бить зазря каблуки средь бела дня, в конце лета, когда в поле дел – делать не переделать...»
Казалось, только он улегся, только натянул пиджак на подбородок, как тут же и проснулся. А проспал он на самом деле до обеда, и разбудило его топанье по скрипучему полу Дусиных ног. Дочка, как всегда, суетилась, дорожа каждой минутой, металась от печи к столу и обратно.
– Что лежишь, именинник? – крикнула отцу. – Ай у Гордея наелся?
– Ты давай, Дусь, я после.
– Ладно. Все в печи стоит, сам достанешь, спешу я – хочу все же в город слетать, за рубашкой.
– Далась тебе эта рубашка, – пробормотал Прокоп, снова засыпая. Чей-то голос сказал отчетливо над самым ухом: «Все было бы у тебя иначе, не укради Гордей лисицу». Он встрепенулся, приподнял голову – никого в избе было, и Дуся, видно, ушла уже давно, прибрав за собой – на столе ничего не стояло. «А ты откуда знаешь?» – спросил он голос. «Я все знаю. Ты бы получил жизнь Гордея, а он – твою...»
«Подавись ты этой лисицей!» – вспомнил Прокоп свои слова, когда, давясь слезами, сбегал с Гординого крыльца. Вскоре и свадьба была сыграна. И раньше везло во всем Гордею, а тут, при молодой жене, еще пуще удача его возлюбила, только успевай пошире рот открывать – глотай, будто с неба падающие, пироги и пышки.
На долгом пути своей жизни Гордей менял должности чуть ли не каждый год, но, не в пример Прокопу, никогда не был рядовым колхозником, работягой – кто куда пошлет, из тех, кто утром швец, пополудни – жнец, а вечером – в дуду игрец. Как только организовалась у них артель, он попал в завы шорным складом, потом доверили ему пост бригадира, затем ходил с сумкой через плечо – в качестве почтальона. Вершины достиг в военные годы, когда его, белобилетника, выдвинули в председатели сельсовета. А после войны работал поочередно финагентом, учетчиком молока на ферме, возчиком хлеба в сельпо и снова возвысился – до продавца в магазине.
Старый и малый знали в деревне, что Гордей Фомич не очень-то чист на руку, обмеривал и обвешивал, недодавал сдачу, тащил к себе домой продуктовый и вещевой дефицит. Жаловались на него, конечно, но начальству, поди, виднее, кто вор, а кто нет. Проверки и комиссии почему-то никак не могли по-настоящему уличить Гордея Фомича, отделывался он мелкими взысканиями. Когда стукнуло ему шестьдесят, сдвинули его с торговой высоты бережливо-вежливо, соломки подстелив. Как и положено, устроили в сельпо собрание по случаю проводов ветерана, так сказать, на заслуженный отдых, благодарственно жали руку, дарили подарки. Говорили не столько о работе на торговом поприще, сколько о жизни старика в целом, и тут уж в полную меру воздали должное его славному боевому прошлому – участию в гражданской войне. Районная газета даже прислала на собрание собственного корреспондента, и вскоре появился на первой газетной странице фотопортрет ветерана. Словом, не какую-нибудь там крохотную точку поставили в конце трудовой биографии человека, а размашистый восклицательный знак. Мол, бери пример, молодежь!
А Прокоп жил спустя рукава, лишь бы на плаву удержаться. После Ольгиной с Гордеем свадьбы решил он для себя раз и навсегда: коли не повезло ему в главном, то и в остальном не повезет, и стараться нечего. В колхозе, хотя и не ленился, но и не усердствовал особенно, поэтому на повышение не пошел. Женился поздно, в сорок лет. Женщина попалась работящая, заботливая о муже и приятная собой, он взбодрился было, затеял ставить новую избу-пятистенку, чтоб с высоким крыльцом и резными наличниками. Однако ж и тут споткнулся – и двух лет не минуло, как отправилась его добрая Надежда под грустную сень кладбищенских лип, оставив на его руках маленькую Дусю. И хоромы Прокоп не возвел: каменные столбы фундамента так и торчали с тех пор на бугре, где была начата стройка.
А Ольга умерла всего пять лет тому назад. Сейчас казалось Прокопу, что не переставал он любить ее и в старости. Тем более что дряхлой она и перед смертью не была, ходила по деревне быстро, прямо, хотя и седая, но с чистым белым лицом, живыми темными глазами – будто годы летели, не касаясь ее...
Ах, кабы не украл!.. «А ты почему знаешь, что украл, а не застрелил? – спросил голос, но уже другой, мерно-равнодушный, со странным металлическим эхом, словно не живой. – Разве он признался, что украл?» – «Характер не тот, чтобы признаться», – вздохнул Прокоп. «А ты все же спроси еще раз», – сказал голос и вдруг запел по-
женски визгливо:
Черный ворон землю роет,
Я хочу его убить.
Знать, судьба моя такая —
Злыдня старого любить!
«Кто это глотку дерет? – подумал дед, поняв, что снова проснулся. На этот раз его разбудило все то же гульбище – за окном смеялись, галдели, пели. Он сполз с дивана, подошел к окну. Гулянка гомонила как раз напротив – на лужайке, полого спускавшейся к речке Яблоньке. Частушки пела дебелая дивчина в пестрой кофте и джинсовых брюках – Наташа Фролова, доярка с той же фермы, где работала Дуся. Галину он увидел поодаль, под ракитой, кто-то из трактористов целовал ее в смеющееся запрокинутое лицо.
И было уже предвечерье. Солнце не золотило избяные углы, и два окна, обращенные к востоку, уже наливались предзакатной синеватостью.
«С самого утра гуляют, вот неугомонные... Пойти, что ли, снова к Гордею, рассказать, какие кренделя-бублики выпекает его Галька?» – размышлял дед, позевывая у окна. И, словно в ответ на это его намерение, распахнулась дверь и вбежал запыхавшийся, испуганный следопыт Виталик, крикнул по-петушиному звонко:
– Дедушка Гордей помирает!
И сразу же поверил Прокоп – не врет мальчишка, так оно и есть – умирает, все в нем затряслось мелкой дрожью, и, схватив клюку, он заспешил на улицу.
– Пишем мы, пишем, – нервно тараторил Виталик, то отставая от мелко семенившего Прокопа, то забегая вперед. – Тетрадку Нинка Прохорова исписала, потом Катька Пузырева, потом Петька Петушков... Моя очередь, раскрываю тетрадку, а тут дедушка ь Гордей белым стал и за грудь схватился. Уморили вконец, говорит. И матерком. Закрывай, говорит, немедля свою чертову тетрадку и беги за Прокопом, проститься хочу... И на койку хлоп, бороду кверху!..
– Так это вы с утра его мучили? – ужаснулся Прокоп.
...Гордей лежал на кровати, выставив кадык, дышал натужно.
– Ты что? – Прокоп присел на табуретку, склонился над приятелем. – Ай худо?
– Худо, Проня, ой худо...
– Фельдшерицу надо покликать.
– Не успеть, кончаюсь я, Проня.
– Ну вот, а намедни хвалился: я ее по черепухе, смерть эту.
– Где моя Галька, зараза, шляется? Как ушла утром в магазин, так и до сих пор нету...
– Гуляет она, ватагу водит... Сбегать? – высунулся из-за Прокопова плеча Виталик.
– Ты бы шел до дому, малец, – сказал Гордей. – Мне с дедом Прокопием Ивановичем поговорить нужно. – Подождал, пока за Виталиком закрылась дверь, и глазами поманил друга:– Нагнись-ка, еще ниже, еще...
– Ну, нагнулся.
– Теперь спрашивай!
Прокоп напрягся лицом, не понимая:
– Что спрашивать?
– Будто не знаешь? Про лисицу.
– Эк что вспомнил, – махнул рукой Прокоп. – Умирай знай спокойно. Простил я тебя, давно простил.
– Та-а-к, – усмехнулся Гордей и быстро, зорко взглянул на друга, как взглядывал прежде, с безуминкой в светлых, навыкате глазах. – Простил, значит?
– Значит, простил.
– А за что простил?
– А то не знаешь? – опешил Прокоп. – За лисицу, вытащенную из моего капкана..
– Кто ж ту лисицу вытащил?..
– У-ф-ф! – Прокоп достал из кармана тряпицу, вытер вспотевший лоб.
– Ты, Пронька, скажи – видел меня у капкана, за руку схватил?
– Ну не видел, не схватил.
– То-то и оно! – Гордей смотрел торжествующе. – А как говорят умные люди? Не пойман?..
– Да я с самого начала знал, что ты, ты лисицу упер! – взъярился Прокоп.
– Докажи...
– Ты, ты, ты!
– Не ори, – Гордей страдальчески прикрыл глаза. – Худо мне, ай не видишь?
«Может, и моя смерть тут, рядком с Гордеевой», —подумал Прокоп и боязливо покосился в темный угол за печкой – не стоит ли там она, старуха жуткая, с костлявым пальцем, поднесенным к мертвым губам? В тишине, сначала едва-едва, потом слышнее, донесся с улицы шум гульбища. Вскоре различимы стали топот, выкрики, визг гармошки. Чей-то усталый, охрипший голос выкрикивал:
Подружечка, не робей,
Покидает – не жалей,
Мы с тобой фартовые,
Найдутся дружки новые!
– Во дают! – сказал Гордей. – Молодец Галька, нашей породы, макеевской...
– Я кликну, ежели желаешь...
– А зачем? – коснеющим языком вымолвил Гордей. – Пускай гуляет... девка...
И дернулся телом, затих, вытянулся...
Прокоп постоял с минуту над мертвым телом, потом вышел и позвал Галину.
– Ну что там у вас? – спросила она недовольно из толпы.
– Дед твой помер, вот что, – сказал Прокоп и побрел прочь, не оглядываясь.
Он чувствовал, как, прямо в пути, тают его силы, мертвая истома подступает к сердцу, и все его мысли были лишь о том, как бы не упасть, дойти до заветного дивана под телевизором.
Когда он лег, привиделся ему Гордя. Друг шел навстречу по узкой извилистой тропе меж крестами и деревьями, предостерегающе подняв руку: «Не ходи сюда, пшел вон!..» – «Пусти, Гордя», – жалобно попросил Прокоп. Все его тело было налито тяжелой застарелой усталостью, неодолимо гнувшей к земле. «Не пущу! – грозно и весело кричал Гордей. – Я тебе жизнь спас... блох тебе на плешину!» – «Пусти, – молил Прокоп, опускаясь на колени. – Христа ради, пусти!» И тут увидел он Дусю. Высокая, сутулая, в ватнике и кирзовых сапогах, бежала она через поле, отчаянно крича, чтобы он поберегся. «Не надо бежать, не успеешь ведь, все равно не успеешь», – шептал Прокоп. Любовь и благодарность разрывали его сердце...
Дуся вернулась из города в вечерней темноте. Зажгла свет, взглянула на отца, вытянувшегося на диване, и, сразу догадавшись, кто это побывал сейчас в их доме, тихо и горько заплакала. Однако скоро утешилась, представив себе, как будет лежать Прокоп в гробу в новой рубахе.








