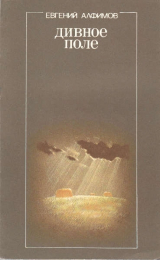
Текст книги "Дивное поле"
Автор книги: Евгений Алфимов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 16 страниц)
В редкие свободные минутки и отдыхала мать по-деревенски. Как на завалинку возле избы, садилась на скамейку в сквере, чинно складывала на коленях узловатые руки. К ней подсаживались другие старухи. Городских она стеснялась, на попытки завязать разговор отвечала односложно – «да», «нет». Но если рядом была тоже деревенская, своя, взгляд Анны Егоровны, согретый дорогими сердцу воспоминаниями, становился задумчивым и добрым, на щеках проступал румянец и начинались бесконечные беседы с обязательным присловьем: «А вот у нас в деревне...»
Уже давно нет деревушки, где родилась мама, хирела она постепенно, сходила на нет. После войны оставалось в ней дворов пятнадцать, потом было пять, потом и последнюю избу бросили, даже не заколотив окна. Люди подавались в город, уезжали в теплые места – на Кубань, Украину. Избы на дрова разобрали, но остались яблоневые сады, быстро дичавшие, сажалки с крохотными карасиками и полчищами расплодившихся не к добру лягушек, остались груды седоватого, в лишаях, булыжника, привезенного с полей на лошадях еще дедами и служившего фундаментом изб... И кладбище еще ясно обозначалось на бугре, полоскались на ветру зеленые косы берез, что-то шептали листья покосившимся крестам да жестяным памятничкам со звездами на макушках. А были могилы и вовсе не помеченные, безымянные – потерявшиеся в густой траве бугорки да впадинки. Впадинки там, где земля опустилась, потому что и гроб внизу сгнил, и косточки истлели...
Три года назад ездил Алексей Ильич с матерью в родную деревню. Анна Егоровна молча посидела на пенушке, где когда-то было их подворье, побывала на кладбище, поплакала скупо над могилками родителей и мужа. К удивлению Алексея Ильича, картины запустения и смерти, увиденные на родине, словно бы и не запечатлелись в ее душе. Вернувшись в город, она по-прежнему говорила о своей деревеньке так, как если бы с ней ничего не случилось, стоит себе, родимая, такая же, как встарь, веселая и многолюдная. Вероятно, был тут инстинкт самосохранения, отторгавший от ума и сердца слишком тяжелые, гибельные мысли и чувства.
Умирала мать в полном сознании. Что-то томило и мучило ее, видел Алексей, сидевший подле. Тень, легшая на ее лицо, была еще не тенью смерти, а посюсторонней, земной заботой. «Ну что ты, мама, что хочешь сказать?» – наклонялся над ней Алексей, и она наконец заговорила прерывисто и нерешительно, виновато прикасаясь холодеющими пальцами к его руке: «Сынок, вот если б можно было... если б можно...» – «Ну что, мама, что?» – спрашивал он уже нервно, нетерпеливо. «Вот если б... да где уж... везти-то не близкий путь, а ты занят, некогда тебе... где уж...» Он понял, о чем просила мать, но все в нем заныло горестно, когда представил себе, где будет лежать она, – жуткое в своей заброшенности деревенское кладбище, к которому, наверное, и тропки теперь не найдешь...
Жребенцев вспомнил все это, и сердце его снова скорбно сжалось. Голоса поющих старух уже не достигали слуха. Березы, белевшие на пригорке, вдруг задрожали, и расплылись в одно белесое зыбкое пятно. Чувствуя на глазах слезы, боясь расплакаться, он резко повернулся и крупно зашагал, почти побежал по полю, спотыкаясь о разбросанные тут и там снопы. На краю поля он опустился на землю, зажмурившись, лег вниз лицом на сырую траву, сраженный душевной усталостью. Очнувшись, он так и не понял, отчего мокрое у него лицо: то ли плакал во сне, то ли от росы.
Вернулся он минут через пятнадцать. Поджидая его, артисты сидели на снопах, переговаривались со старухами. Загурский подвинулся на скользкой льняной соломе, давая ему место. Никто не обратил на него особого внимания. Однако, судя по сочувственным взглядам старух, им было рассказано о его горе, горем объяснялось и его странное поведение.
Когда они входили в деревню, наконец-то брызнул долго собиравшийся дождик. Но, малость попугав артистов, загнав их в колхозную контору, он вскоре прекратился – будто поиграл с землей в пятнашки, оставив темные круги и разводья на густой пыли деревенских улиц.
Жребенцев садился в автобус умиротворенный и тихий. Ирочка с Зиночкой украдкой посматривали на него и о чем-то шептались. Тогда утром, по дороге из города, они были заняты не анекдотами, как думал Жребенцев, а обсуждением важного вопроса – красив ли он, Алексей Ильич, или нет. Сейчас они ясно видели – конечно же красив. Красив и значителен со своим спокойно-печальным лицом, густыми русыми волосами, упрямым подбородком с ямочкой...
С того дня, считает Алексей Ильич, началась для него новая жизнь. Вскоре пришла к нему и громкая слава певца – исполнителя русских народных песен. Редкий его концерт обходился без песни о дубе, который «среди долины ровныя, один, один, бедняжечка, как рекрут на часах». Жребенцев пел, и глаза его наполнялись слезами, в глубине затемненного зала вспыхивала для него одного все та же картина – залитое низким предвечерним солнцем Дивное поле и одинокий дуб на нем.
Отец
Мы с отцом гостим у Насти, его сестры и моей тетки, которая с мужем своим Иваном живет в трухлявой, покосившейся избе на краю деревни. У Ивана – кряжистого рыжеватого мужика лет пятидесяти – отбиты пальцы на левой руке, и все, даже жена, зовут его Куцепалым.
Он пьяница и чуть ли не каждый вечер приносит откуда-то заткнутые тряпицами бутылки с мутной, противно пахнущей жидкостью.
– Эй, старуха! – кричит он с порога худой, затуканной Насте. – А ну, на стол мечи все, что есть в печи...
И коротко бросает отцу:
– Садись!
«Мечи, что есть в печи» – это не более чем пустой звук, присловье, с помощью которого Иван пытается выразить свою удаль, свое бесшабашное молодечество, меньше всего рассчитывая, что Настя сломя голову кинется к печи. А если и кинется – что там стоит за заслонкой? В лучшем случае Настя поставит на стол свои неизменные яства – кислые щи и забеленную молоком картошку. К тому же Иван предпочитает пить не закусывая.
А отец мой любит и выпить и поесть. Правда, за двадцать лет жизни в городе он поизбаловался и самогонку пьет неохотно.
– Что, не нравится? – посверкивает кабаньими глазками Иван. – Тебе б шинпанского? А?
Он пьет стакан за стаканом, становясь все более злым и хмурым. Самогонка, как ни странно, прибавляет ему красноречия. Он взбирается на печь и оттуда, из-за трубы, до полуночи слышатся его сварливые речи. Он ругает «городских», которые «зажрались», вспоминает свой хутор с клочком земли, отобранный у него во время коллективизации, бранит маломощный колхоз «Красный трактор», где нет никакого порядка, слезливо жалуется, что вынужден жить на старости лет в этой скверной, с крошечными оконцами, похожей на хлев избенке.
Потом он засыпает, но в середине ночи его чудовищно громкий храп неожиданно прерывается. Он слезает с печи и, чиркая спичками, начинает шарить в шкафу, заглядывать под стол и лавки. Я знаю, в чем дело: в его пьяную голову втемяшилось, что вчера вечером он не допил самогонку, и теперь он ищет ее.
– Черт рыжий! – раздается с полатей плачущий голос Насти. – Ведь хату спалишь, идол... Петрок, а Петрок! Угомони ты его...
Петрок – это мой отец. Он лежит рядом со мной на деревянной кровати, смущенно покашливая.
– Иван, всю ты ее выпил. Сам видел. Ей-богу, – говорит он мягко, стесняясь.
– Спрятали, знаю, что спрятали, – тяжело, как медведь, ворочается под столом Иван и вдруг обрушивается на отца: – А ты чего сюда приехал? Звали тебя, буржуя городского? Завтра чтоб и духу твоего тут не было...
Назавтра отец станет укладывать в потрепанный чемоданчик белье и полотенца, но подойдет Иван, скорбно потупится, почешет красными култышками затылок и повинится:
– Ты уж того, Петрок... не серчай... Меж своими бывает...
И отец, печально усмехнувшись, простит Куцепалого и останется еще «на день». Он только будет стараться поменьше бывать дома.
А меня злит эта неизменная покорность, эта терпеливость отца, словно он в чем-то втайне чувствует себя виноватым перед Иваном.
В последние дни мы с отцом пристрастились к рыбалке. Рано-рано, когда в избе все еще спят, меня будит ласковое прикосновение его большой мягкой руки. В сенях мы берем плетеную корзинку, ведро и, поеживаясь на холодку, выходим на проселок.
Отец неторопливо идет позади меня. Оглядываясь, я вижу его начинающую грузнеть, с устало опущенными плечами фигуру, задумчивое лицо, с которого никогда, даже в минуты веселья, не сходит выражение озабоченности и печали. Отцу уже за сорок, и жизнь его не была легкой. В молодости пять лет провел он в армии, из них два года на фронте, воевал с немцами, потом с беляками. Был контужен. Ел воблу без хлеба, носил отрепья. При нэпе поселился в городе, женился, устроился продавцом в магазине, стал обживаться, купил хромовые сапоги и брюки-галифе, а тут несчастье: в магазине обнаружилась недостача, отца оболгали сослуживцы, и он, честный до щепетильности, пошел в тюрьму, как жулик и хапуга. Я смутно помню, как однажды мать взяла меня с собой на свидание с ним. Помню пустую комнату с решетками на окнах, бледное лицо отца, его горькую, жалкую улыбку...
В этом году зреет на полях рожь невиданной густоты, неслыханной высоты. Я отбегаю в сторону и тотчас скрываюсь с головой в ржаных, колеблемых ветерком волнах. А ведь мне осенью будет пятнадцать, и парень я рослый. – Вернись! – тихо, но твердо окликает меня отец. – Помнешь хлеба-то...
Он срывает колосок, долго близоруко щурится на него.
– Наливается уже... С хлебом будем, сынок...
И рассеянно смотрит куда-то вдаль...
Проселок бежит среди кустов: это две наезженные тележными колесами колеи и высокая зеленая бровка посередине. Я, балансируя, неловко ступая, иду по колее, стараясь не задевать траву на бровке. Заденешь – брызнет на босые ноги ледяная роса, аж дрожь пробежит по всему телу.
Мы уже далеко от деревни. Шагаем по мелкому осиннику и вдруг, ахнув, останавливаемся. Придорожная полянка сплошь красная от мелких, недавно народившихся подосиновиков. Никогда, даже осенью, я не видел такого множества грибов. А сейчас только июнь во второй своей половине. Я опускаюсь на колени и ползаю по траве, бросая в корзинку крепкие, приятно отягощающие руку грибы.
– Не надо, – говорит отец. – Соберем на обратном пути... . )
Он озабочен и, как мне кажется, даже встревожен этой противоестественной грибной силищей, выпершей из-под земли в самом начале лета.
– Говорят, к войне это – и рожь высокая, и гриб ранний. А впрочем... Отец силится улыбнуться как можно беспечнее. – Бабьи сказки все эти приметы...
За поворотом открывается сажалка —так называют в здешних местах небольшие копаные пруды, которые раньше были на каждом хуторе, у каждой избы. Отец опускает на землю ведро и раздевается. Он стыдливо отворачивается, снимая холщовые, подаренные Настей подштанники. Я тоже раздеваюсь и вслед за отцом лезу в сажалку. Моя обязанность – загонять карасей в корзину, которую отец подводит под низкие, наполовину потонувшие в воде лозовые кусты. Делаю я это, шуруя придонный ил толстым суковатым колом. Время от времени отец поднимает корзинку и заглядывает внутрь. И почти каждый раз вытаскивает оттуда толстобоких, пылающих медным жаром рыбин. Их будто разбудили – такие у них сонные, с маленькими зевающими ртами морды. Отец бросает рыб на берег. Надо бросить подальше, иначе карась начнет плясать в траве и допляшется-таки до кромки берега, тяжело шлепнется в родную грязную сажалку.
А грязна она невообразимо. Наши ноги по щиколотку тонут в иле, который, потревоженный, быстро превращает воду в густую пахучую жижу. По нашим телам текают черные ручейки.
– Может, хватит, сынок?
Я выскакиваю на берег и бегу к недалекой кринице обмываться. Потом собираю карасей. Они со звоном падают в ведро.
– Сколько? – спрашивает отец. Он тоже ходил к кринице и сейчас стоит передо мной с розовеющим, словно помолодевшим лицом.
– Тридцать.
– А вчера только двадцать четыре.
Он поднимает ветошку, которой я прикрыл карасей.
– Ишь ты, живучие какие, – говорит он, страдальчески морща лоб: ему жалко неповоротливых глупых рыб, которые ни за что ни про что попадут на сковородку. – Ну да ладно, – утешает он себя, – на то и охота...
Отец родился и вырос в этих местах, и, хотя он никогда не говорил мне о своей любви к ним, я знаю, что ему дорога и мила здесь не только рыба – живая тварь, но и любая былинка. Я гляжу на отца и думаю, что он очень свой в этом грустноватом, нежарком краю, дремлющем под неярким солнцем, очень свой в косоворотке, мятых брюках и стоптанных тупоносых ботинках – неторопливый, уже немолодой, много размышляющий о жизни человек.
– Пап, – говорю я, останавливаясь – Пап...
Мне хочется сказать ему что-то хорошее, но я весь в отца – молчалив и застенчив. Поняв мои чувства, он благодарно гладит мою голову и, чтобы скрыть неловкость, показывает на обиженно гудящего в цветах шмеля.
– Запутался, полосатый, и сердится... А кто ему виноват?
Он видит все, мой отец. На мосту, перекинутом через речку, он дергает меня за рукав, всматриваясь в воду. У мшистой сваи застыл щуренок с узкой хищной мордочкой и выпученными глазами.
– Хорош, вояка! Это он добычу ждет, малька какого... Час будет стоять, не шелохнется, а дождется своего...
В осиннике, на полянке, мы собираем грибы, и вдруг я слышу, как он говорит, будто про себя:
– Оно, конечно, ошибку я тогда допустил...
– Ты о чем? – спрашиваю я.
– Да все о том же, что не надо мне было в город переезжать... Тут мое место. И тут мое счастье было... Вот и отпуск кончается, а уезжать не хочется...
– Еще неделя, – утешаю я его.
– Что неделя? Пролетит – не заметишь... А жизнь, сынок, заново не начнешь.
Больще он не сказал ни слова до самой деревни.
Еще издали мы заметили у клуба взволнованно гомонившую толпу. Отец побледнел и ускорил шаг.
– Война! – крикнул ему Куцепалый, оказавшийся в толпе. Немец на нас прет, зараза... Сейчас по радиву передавали...
По случаю воскресенья Иван хлебнул с утра пораньше.
– Товарищи мужики, братцы! – ораторствовал он, подняв над головой свою беспалую руку– Видите? Мне ее германец в первую мировую оттяпал... Лютый он, вражина. Живьем сожрет, ежели дрогнем. Только не на таких нарвался – подавится нашей косточкой... Я его вот этой правой, здоровой, в морду!
Куцепалого никто не слушал...
Отец быстро прошел в хату, торопливо собрал свой чемодан.
– А я как же?
– Ты здесь пока поживи... Завтра я мать к тебе пришлю... Слыхал, немец города бомбит... Тут вам безопаснее будет.
– Возьми велосипед, – сказал я ему.
– Ничего, на большаке, может, машина какая подберет.
Я проводил его за околицу. Он поцеловал меня и наказал: – Мать береги, ежели что... Ты уже не маленький...
И, заморгав, отвернулся.
Я долго следил, как он шел, понурившись, по полям. На сердце у меня было тяжело. В ту минуту я был уверен, что вижу его в последний раз. И не ошибся: он погиб в сорок третьем, под Курском.
А Иван Куцепалый ушел партизанить и в первый же год войны был убит немцами в короткой стычке в том самом осиннике, где мы с отцом собирали грибы.
Иван Глинков
Есть у меня знакомый по фамилии Глинков. Фамилия со смыслом: Глинков – от глины, потому что и прадед Александра Семеновича, и дед его, и отец, и двое дядек были деревенскими горшечниками, гончарами. Александр Семенович тоже родился в деревне, провел там детство и юность, помогая отцу лепить горшки да кринки. Потом судьба забросила его в город. Казалось бы, что делать в городе деревенскому гончару? Но к тому времени приспела мода на разные безделицы, по-иностранному – сувениры, и Александр Семенович принялся делать из глины милые забавные вещицы. Они сразу же показали его отменный вкус, живое чувство красоты. Его стали уважать профессиональные художники, хотя известно, что их брат искони смотрит на самоучек, «самородков», подобных Глинкову, с изрядной долей пренебрежения. Так, скажем, смотрит дипломированный врач на какого– нибудь сельского деда-знахаря, ведуна, который лечит травкой-муравкой, а то и нашептыванием, колодезной водичкой с угольками.
Хлопотами Александра Семеновича при большом керамическом заводе был устроен сувенирный цех – крошечная мастерская с крошечной же обжигальной печью. Вот я и зачастил к своему знакомому в этот цех – греться сухим жаром печки, любоваться глиняными безделушками, вести неторопливые разговоры с ласковым гостеприимным хозяином.
Поначалу Александр Семенович работал в цехе один – сам замешивал глину, сам крутил гончарный круг, сам ставил вещицы в печь на обжиг, сам расписывал их глазурью. Но однажды, придя в мастерскую, я увидел там девушку, которая при первом же взгляде очень понравилась мне. Девушка стояла у высокого дощатого стола и руками, густо измазанными глиной, прилепляла ушки к кувшину, из чего я заключил, что она здесь не гостья, а работница. Была она круглолица, румянощека, стройна. Одета модно – в черной кожаной курточке и короткой, тоже кожаной юбке. Заметив мой взгляд, украдкой брошенный на ноги девушки, Александр Семенович с шутливой укоризной покачал головой.
– Кто? – спросил я одними губами, без голоса.
– А вот угадайте, – шепотом отвечал Александр Семенович.
– Да уж не знаю...
– Да это ж дочь моя! Лида! – крикнул Глинков с детской веселостью.
Этого я не ожидал. У тщедушного, невзрачного человека такая дочь-красавица.
Девушка вышла.
– Ну как? – тихонько засмеялся Глинков, видимо от души забавляясь моим удивлением.
– Кем же она у вас здесь? Помогает в свободное время?
– Да она ж Глинкова, нашего горшечного корня. Для нее дороже этого дела в жизни ничего нет. Бывало, еще крохой, ухватит шматок глины, поднесет к лицу, улыбается до ушей: «Вкусно пахнет!» Недавно закончила художественно-графический факультет и прямым ходом сюда. Вчера в штат зачислили, на должность художника. – Глинков снова засмеялся. – Теперь я как бы под началом у нее. У меня-то у самого за душой семь классов, вот директор завода и решил приставить ко мне образованную...
– Хороша, очень хороша, – сказал я, весь еще во власти ее очарования.
– А знаете, ведь и мать ее, покойница, не видная собой была. Но уж больно я красоту люблю, жизнь мне без нее не в жизнь. Вот я и заявил своей Веруне, когда в жены брал: «Я не я буду, если не родится у нас девочка, и непременно красивая». Так оно по-моему и получилось.
У Глинкова лицо с мелковатыми, мягкими чертами, он застенчив в обращении с людьми малознакомыми, нет в нем и капли властности, решительности. Говорят, женщины не любят таких мужчин. Однако, когда он был молод, его любви добивались самые миловидные, самые избалованные девчата деревни. Но как ни любил Глинков красоту, он с ласковой непоколебимостью отвадил всех своих симпатичных поклонниц. Говорил им – вы, мол, и так найдете себе хороших мужей, на что я вам? И выбрал себе, переехав в город, тихую, робкую Веруню, девушку в летах, давно потерявшую надежду кому-нибудь понравиться.
Не обделяли женщины своим благосклонным вниманием Александра Семеновича и потом – уже немолодого, разменявшего пятый десяток. Он хранил память о Веруне, но иногда опять-таки жалел одиноких, несчастных женщин, чьи судьбы, словно по какому-то злому наговору, никак не клеились. Об этом Глинков рассказывал полунамеками, застенчиво посмеиваясь, пряча от меня ясные синие глаза, и все повторял: «Ну что они находят во мне, старом?»
Сейчас я отлично понимаю – что: мягкостью привлекал Александр Семенович, заботливостью, поистине бесконечной добротой, которой ой как не избаловано большинство женщин. И доброта эта от того самого «горшечного» корня. Дед Александра Семеновича, помимо гончарного ремесла, занимался еще хлебопашеством. Казалось, жить бы ему да богатеть. А на деле был он бедняк из бедняков. Горшки, горлачи, кринки и прочую домашнюю посуду лепил с прохладным сердцем, а как принимался за игрушки, тут просыпался в нем требовательный и самозабвенный мастер. Надо было придумать, как бы свистульку какую, медведя там иль сороку-белобоку поинтересней сделать, как ярче раскрасить ее. Тут чувствовал он в груди трепет неизъяснимый, забывал, работая, обо всем на свете, и о землице, разумеется. А сделает – станет детишкам раздавать. «Ты хоть бы копейку какую с них взял!» – бывало, принималась корить его старуха. А он взглянет на нее с укоризной: «Это-то с детишек копейки? Да где ж они их возьмут?» И со взрослых баб, мужиков стеснялся деньги брать, хотя снабжал посудой, почитай, всю округу. Дело доходило до того, что покупатели тайком передавали деньги старухе или совали их, выходя из избы, в карман дедова зипуна, висевшего у двери.
Точно такими же бедняками-недотепами, выражаясь языком некоторых практичных людей, простаками, готовыми отдать встречному-поперечному последнюю рубаху, были и отец Александра Семеновича, и двое братьев отца – Иван и Алексей, тоже гончары.
Яблоко от яблони недалеко падает. Уже при первом нашем знакомстве Александр Семенович попытался подарить мне чуть ли не всю продукцию, накопившуюся в мастерской за неделю. «Да ведь это как бы уже и не ваше, а государственное», – осторожно объяснил я ему. «Вы не беспокойтесь, пожалуйста, – отвечал он с милым своим простодушием. – Я возмещу, денек-другой посижу и снова всего вдоволь наделаю». Пришлось принять от него ярко расписанный цветочный горшочек. При втором моем посещении – в солнечный апрельский денек, когда птицы прилетали с юга, – он вручил мне глиняного жаворонка. На третий раз я оказался обладателем сосуда с обличьем черта. Нечистый сложил на кругленьком животике тонкие паучьи лапки, а сзади у него потешно завивался поросячий хвостик. И морда у черта была свиноподобная: с крошечными зажмуренными глазками и тупым пятачком с двумя дырочками-ноздрями. В сосуд можно было налить вина и разливать его потом в рюмки через чертовы ноздри. Этого черта просто нельзя было не взять – таким уморительным сделал его Глинков.
Но все хорошо до трех раз. Когда Александр Семенович попытался преподнести мне большую вазу, над которой трудился он по крайней мере неделю, я замахал руками довольно сердито. «Воля ваша, – смутившись, сказал Глинков, – только я от чистого сердца». И представьте себе – огорчился явно, но не обиделся. Обижаться, по-моему, он вообще не умеет.
Как-то, уже близко, почти дружески сойдясь с ним, я сделал попытку попенять ему на чрезмерную мягкость, простоту, которая, известно, бывает порой хуже воровства. Но он неожиданно для меня взволновался, даже будто рассердился малость, и сказал непривычным для него твердым тоном непривычные «высокие» слова: «Доброта – великая сила. Хотя не всегда побеждает...» Потом, помолчав, улыбнулся робко, как бы прося прощения за свою горячность, и добавил: «Сами понимаете... Вот послушайте».
И в подтверждение своих слов поведал мне Александр Семенович историю, что я бы и не поверил, если бы не знал хорошо рассказчика. Вот уж подлинно: живая жизнь бывает порой удивительней всякого вымысла.
В войну деревня, где жил Александр Семенович, тогда двенадцатилетний Саня, была связана с партизанами. В лес, в партизанский отряд, ушел его дядька Алексей (отец еще в начале немецкого нашествия был призван в армию), другой дядька – Иван, оставаясь на месте, выполнял различные поручения отряда. Всячески помогали партизанам и остальные жители. Прямых улик против них немцы не имели, но на немецких картах деревня обозначалась черным кружком как подозрительная, и судьба ее была предрешена заранее.
Осенью сорок третьего немцы отступали со Смоленщины. Однажды утром в Максимкове появились солдаты в зеленых шинелях во главе с высоченным, сумрачного вида гауптманом. Народ согнали в центр деревни, к избе, где до войны размещался сельсовет, и долговязый гауптман, с немецкой аккуратностью лепя одно русское слово к другому, прокричал с крыльца, что Максимково подлежит эвакуации, поэтому жители должны немедленно покинуть жилища, взяв с собой только самое необходимое, собраться здесь же, на площади, и приготовиться следовать в организованном порядке, колонной, в западном направлении.
Была минута растерянной тишины, тайной надежды, что все это невзаправду, авось обойдется. Но люди за два года оккупации слишком хорошо уяснили себе, что немцы шутить не любят. И после короткого замешательства все очнулись, побежали к своим домам, заголосили бабы, заплакали дети.
На сборы было дано полчаса. Гауптман стоял на крыльце и, отвернув узкой рукой в черной перчатке обшлаг рукава, смотрел на часы. Когда время вышло, он Что-то крикнул солдатам, и те рассыпались, побежали по Избам. Тех, кто замешкался, выталкивали за порог взашей, бросали их мешки и узлы в густую осеннюю грязь. Из подъехавшей машины выскочили факельщики с канистрами бензина, жгутами соломы, и вскоре деревня запылала от края до края.
Когда колонна, подгоняемая окриками и пинками охранников, выползла за околицу, Саня до боли в шее все оглядывался и долго видел косматое, уже слившееся в широкое рыжее полотнище пламя, чуял приносимый ветром горький запах дыма. Впрочем, им, Глинковым, повезло. Дядька Иван, крупный мужик лет под шестьдесят, инвалид еще той, первой мировой войны, в суматохе не растерялся, успел запрячь лошадь и посадить в телегу вместе с женой свою родню – Санину мать и двух его сестренок. Самого Саню в телегу не посадили, он считался уже большим и шел самостоятельно, держась за задок телеги. А обочь лошади, потряхивая вожжами, неуклюже заваливаясь на негнущуюся инвалидную ногу, крупно вышагивал дядька Иван, по привычке своей что-то бормоча басовитой скороговоркой.
Их телега была единственная в колонне.
К полудню старые и малые (а из них и состояла чуть ли не вся колонна) начали выбиваться из сил. Подбежала к Ивану растрепанная, заплаканная бабка Фекла, попросила взять на телегу пятилетнего внука. Иван молча подхватил мальчонку, посадил на женины колени. Саня и оглянуться не успел, как на телеге сидело уже с десяток ребятишек. Лошадь сильно притомилась на разбитой злыми дождями, раскисшей дороге, тащилась все медленней. «Дай-ка, Марьюшка», – обратился Иван к жене. «Что дай?» – не поняла та. «Узел, говорю, дай». Марья вцепилась в узел: «Да ведь тут одежонка наша, зима, Ваня, наступает». Иван осторожно разжал ее руки, поднял узел над головой и швырнул далеко за обочину. «Теперь мешки давай...» Опростанная телега полегчала, лошадь пошла бойчее. Иван посадил на телегу еще двух малышей. Потом виновато взглянул на жену, зачем-то снял и помял в заскорузлых ладонях шапку. «Так как же будем, бабоньки?» Те, ни слова не говоря, ногами вперед, полезли с телеги. «А ну, мелюзга, кто желает прокатиться на савраске?!» – крикнул Иван, и тотчас к нему подбежали мальчик и две девочки. Одна, постарше Сани, первой забралась в телегу, и его остро кольнула обида: мол, чем она лучше других, за что ей, большухе, такое послабление? (Рассказывая об этом, Александр Семенович признался, что до сих пор корит себя за то давнее скверное чувство зависти.)
Но и у ребятни, хоть и ехала теперь она на телеге, настроение было не ахти какое. Закутанные в рванье, дети сидели бледные, невеселые, чуя, видать, что не кончится для них добром эта езда невесть куда, под конвоем хмурых немецких дядек. И тогда Иван, вспомнив о чем-то, вдруг засмеялся тихонько и полез за пазуху. «Что носы повесили? Нате-ка...» И стал совать в ручонки детей пестро разукрашенные глиняные петушки-свистульки. Иван сам их делал во множестве и вот, поди ж ты, в запарке поспешных сборов не забыл о них, сунул с десяток под шубу. «Ну что ж вы, давайте!» – подбодрил он детишек, видя, что те не решаются нарушить недобрую тишину, висевшую над колонной. Самый маленький – трехлетний карапуз в нахлобученной на уши красноармейской пилотке – набрался наконец духу, вставил в рот петушка, надул щеки и засвистел протяжно. Его поддержала девчонка-большуха, и скоро такой свист, такой верезг, такой гуд подняла малышня в телеге, что даже в полях и лесах отдавалось. Захохотал, поправляя на животе черный автомат «шмайссер», немецКонвоир слева, обернулся, что-то сказал своему товариЩу, шедшему в пяти шагах позади, – тот тоже осклабился.
Но тут же оба встревоженно напряглись. От головы колонны, встречь ей, ехал верхом на лошади сам долговязый гауптман. Враз зазвучали свирепо-хриплые окрики, конвоиры кинулись было к телеге, но гауптман махнул рукой, остановил их. Он сидел на лошади, понуро опустив плечи, до нелепого длинный и тощий, полувысвободив из стремян носки начищенных, но уже заляпанных шматками грязи сапог, и молча, со стылым лицом слушал верещание свистулек. Иван сторожко смотрел на него. На мгновение ему показалось, что в глазах немца промелькнуло напряжение, будто он вспомнить что-то пытался, даже будто усмешка тронула его тонкие, крепко сжатые губы. Но кто мог знать точно, о чем думал этот тощий верзила в высокой фуражке с изображением черепа на тулье – каиновым знаком палача и убийцы, чем кончатся его неподвижность и молчание. Может, сейчас вытащит из кобуры пистолет и начнет пулять в детишек...
Отовсюду на него смотрели со страхом и ожиданием. Но гауптман стрелять не стал, все так же молча повернул он лошадь и медленно, шагом поехал на свое командирское место – в голову колонны. И все облегченно вздохнули, повеселели, приняв молчаливую снисходительность главного немца за доброе предзнаменование.
Однако вскоре откуда-то сзади, с хвоста растянувшихся по дороге людей, донесся истошный бабий вопль. Иван с Саней побежали туда и увидели валявшуюся в грязи бабку Феклу, а над ней конвоира, стаскивавшего с плеча автомат. «Ауф! Штеен ауф!> – кричал он и пинал бабку ногой. Иван, побледнев, встал перед немцем: «Ты что ж это вытворяешь, щенок? Ведь она тебе в матери годится... Поимей совесть!» Немец с размаху ударил Ивана в грудь прикладом «шмайссера», локтем отшвырнул в сторону и, злобно ощерившись, прошил бабку автоматной очередью.
Иван потом говорил Сане, что он почему-то надеялся, что на выстрелы прискачет гауптман, накажет конвоира, убившего старуху. Но гауптман не прискакал. Не появился он и тогда, когда, обессиленный, шмякнулся на дорогу дед Митрий, и тот же самый конвоир, уже не ругаясь, не требуя, чтобы дед встал, с деловитой неторопливостью пристрелил его. Потом стреляли еще и еще, и постепенно дошло до Ивана, что вмешательства гауптмана ждать нечего, что отстающих убивают с его ведома и согласия, и он заплакал от своего бессилия, невозможности помочь людям.
Потом была короткая остановка на обед, немцы, собравшись в кучки, передавали друг другу фляжки со шнапсом, открывали консервные банки, жевали галеты. И ни у кого в колонне наголодавшихся за два года оккупации людей не потекли слюнки при виде этого пиршества, никто не развязал узелки с жалкой снедью – парой-тройкой картофелин, куском дрянного, с лебедой, хлеба. Все знали теперь, какая участь ждет ослабевших, но есть никто не мог, темные крылья смерти уже застили собой белый свет с его житейскими заботами и желаниями.








