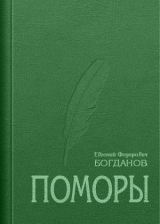
Текст книги "Поморы (роман в трех книгах)"
Автор книги: Евгений Богданов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 45 страниц)
– Значит, день рождения! – спокойно загудел бас Дорофея. – Так-так… А я сегодня на свадьбе побывал. Везет на застолье. А дело меня привело к тебе, Обросим, такое: сидел дома, вязал сеть, и лампа погасла – керосин кончился. Не найдется ли у тебя взаймы хоть с поллитровку? Спать еще рано, да что-то бессонница привязалась.
Притворяется, сукин сын! Пронюхать пришел, чем мы тут занимаемся. Панькин подослал! – Обросим сделал постное лицо и, позвав жену, распорядился:
– Там, в чулане, бидон с керосином. Возьми бутылку, налей Дорофею.
Супруга, накинув ватник, зажгла фонарь, вышла и вскоре принесла керосин.
– Спасибо, – словно бы ни о чем не догадываясь и ничего не замечая, поблагодарил Дорофей. – Ну, празднуйте. Мешать вам не буду. Извините. Пока!
Крыльцо заметено снегом. Ветер налетел, захватил дыхание, яростно кинул ворох липких снежинок в лицо. Дорофей застегнул полушубок.
– Экая завируха! – сказал Обросим, выпуская его на улицу. – Добрый хозяин собаку не выгонит, а тебе керосин понадобился. Ну, прощевай!
Он захлопнул дверь. Засов заскрежетал яростно, с визгом.
Так, – размышлял Дорофей, тихонько выбираясь через сугроб на дорогу. – Значит, под видом именин собрал-таки мужиков, Гришка Патокин – бывший приказчик Ряхина. Свой парусник имеет, три тони семужьих… Демидко Живарев – шесть озер неводами облавливает, десять мужиков на него работают каждое лето… Дмитрий Котовцев, двоюродный племяш Обросима, преданный дяде душой и телом… Слыхал: сватал Обросим за него Феклу Зюзину, да та выгнала свата… Все крепенькая братия. Мешать будут на собрании. Но хорошо, что я их всех увидел у Обросима. Ему крыть будет нечем!
Дорофей заметил позади громоздкую фигуру. Насторожился. Человек нагонял его. Борис Мальгин, – узнал Дорофей. – Это он на меня выглядывал из-за самовара… Мальгин поравнялся с Дорофеем, держа правую руку в кармане. Сказал глухо:
– Я домой. Нам по пути.
Дорофей молча посмотрел на него через плечо: Чего он руку в кармане жмет? Будто камень там держит…
– Почему не досидел за столом? – спросил Дорофей. – У Обросима вина много, пил бы до утра.
Мальгин молчал, щуря глаза: ветер со снегом бил прямо в лицо.
– Значит, полвека прожил купец. Теперь другую половину разменял, – продолжал Дорофей. – Что делать! Годы идут на убыль, как вода в отлив. А прилива уж не ожидай…
– Какие годы? Какие к черту годы? – вдруг взорвался Мальгин. – Ты что, в самом деле поверил в именины?
– А почему бы и не поверить? Сидят друзья-приятели, поднимают чарку во здравие хозяина… Ну а если не так, зачем же собрались, если не секрет?
– А ежели секрет? – Борис, замедлив шаг, заглянул в лицо Дорофею, и тот почувствовал, что Мальгин сильно взвинчен, чему причиной могло быть не только выпитое вино. В его поведении чувствовалась какая-то нервозность.
– Ну, ежели секрет, тогда уж я не буду расспрашивать. Только… Только все ваши секреты шиты белыми нитками. К нашему собранию готовились? Думали-гадали, как его сорвать? И что надумали? Ладно, можешь не говорить. И так ясно…
Мальгин молчал. Он теперь ступал по снегу медленно и не очень уверенно, что-то обдумывая.
– Все ясно, говоришь? – спросил он. – Нет, брат, не все тебе ясно… Тебе не может быть все ясно. Понял?
– Почему не может? Мо-о-ожет, – сказал Дорофей медленно, словно бы нехотя. И вдруг спросил отрывисто, невзначай: – Бить будешь?
– Кого? – тотчас отозвался Борис.
– Да меня. Кого ж еще? Ведь Обросим послал тебя расправиться со мной, потому что я оказался свидетелем вашего сборища. Парень ты здоровенный, косая сажень в плечах. Кого же еще послать? Ты своим хозяевам – прежде Вавиле, а теперь Обросиму – верный слуга. Так? Вот и велел он тебе тюкнуть меня по голове, спустить на лед… Метель следы закроет… Пролежу до половодья, а там утащит меня со льдом в море. Так или не так?
– Так, – с холодной решительностью сказал Борис.
Дорофею стало от этого холодка не по себе, хоть и был он не из робкого десятка.
Оба остановились. Ветер трепал полы одежды, тормошил со всех сторон, будто торопил.
– Ну так что? – спросил Дорофей зло и грубо.
– А ничего. Бить я тебя не стану.
– Боишься?
– Нет. Просто не за что тебя бить. Причины нет. Понял? И человек ты хороший. Это Обросим хотел тебе рот заткнуть. А мне какая корысть? И кто он такой, чтобы я приказы его исполнял? Я хотя и горбил на купцов с детства, а все же человек самостоятельный и гордость свою имею. Не стану скрывать: когда ты ушел, Обросим сказал: Иди, Борька, действуй по уговору. А уговор у нас был такой, что ежели кто ненароком придет и накроет всю компанию, того догнать на улице и… Вот Обросим стал меня посылать, и я не отказался. Потому, что если бы я не пошел, он бы послал другого. А другой очень свободно мог бы тебя пристукнуть, потому, что они уж все крепко выпили и злоба в них ходит-бродит… А я пил мало – не хотелось. И злобы во мне нету. Для нее причины тоже нет.
– Так-так. Значит, ты, Борька, у меня оказался вроде ангела-хранителя?
– Думай, как хошь…
– Ну спасибо за откровенность. Чего в кармане-то держишь? Ножик?
– А ничего. Просто так, – Борис торопливо вынул руку из кармана, надел на нее рукавицу. – Прощай. Спи спокойно. Но засов на двери задвинь понадежней…
Дорофей, удивляясь всему происшедшему и с трудом удерживаясь от того, чтобы не оглянуться, свернул к своей избе. Борис пошел дальше, потом остановился, вытащил из кармана чугунную гирю-пятифунтовку, которую дал ему Обросим. Взвесил ее на ладони, размахнулся и швырнул далеко в снег…
ГЛАВА ВТОРАЯВ этих местах, близ мыса Воронова, что тупоносым изгибом вдается в воды Мезенской губы и смотрит на север к Баренцеву морю, бывает так: все спокойно, прилив сменяется отливом, ветер-побережник гонит в невода серебристую боярышню-рыбу семгу. Но вот с моря Баренцева со свирепым полуночником приходит накат, и море, неистовствуя, несется на берега, кидается на отмели, заливая их, мутя воду, роняя на песок клочья пены. Лохматятся, свирепеют волны, ставя бревна плавника в полосе прибоя торчком.
Накат подобен очистительному летнему ливню с грозой. После него на побережье становится тихо. Море ластится к берегу, сквозь разрывы в тучах в приполярной сумеречности проблескивает веселый солнечный луч. Рыбаки выходят на путину и возвращаются с хорошим уловом.
Новое, подобно морскому прибою, нахлынуло на Унду, взбудоражив все и всех.
…Обросим Чухин явился на собрание, когда зал уже был полон. Купец хотел было с независимым видом пройти на передний ряд, где народ сидел пореже. Но, приметив необычно торжественную, даже праздничную обстановку, протиснулся в угол и пристроился там на узкой скамейке.
Шесть ламп-десятилинеек, развешанных по стенам, освещали зал красноватым светом. Кумачовая скатерть покрывала длинный некрашеный стол. Позади, у стены было развернуто знамя кооператива Помор, бордового цвета с бахромой из крученого шелка. Алым шелком на знамени вышит герб РСФСР. Под этим знаменем, у стола сидели в президиуме Панькин, еще три члена кооператива и уполномоченный из Мезени.
Обросим стал незаметно высматривать в рядах ундян своих людей. Бабы, что пили у него чай и собирали подписи под листками, сидели рядком, положив чинно руки на колени. Лица у них были постные, в глазах – настороженное любопытство. Мужики расселись в разных местах. Чухин нахмурился: Раз сидят не вместе, значит, и петь будут по-разному.
Обросим внимательно слушал, как Панькин отчитывался о работе кооперативного товарищества. У него выходило вроде бы все гладко: и доходы имелись, и пайщики получали, что положено за их труд.
Потом Панькин начал говорить о колхозе. Зал притих, все сидели, не шелохнувшись. Слышно было, как потрескивают в лампах фитили да в углах вздыхают и крестятся старухи.
Со всех сторон посыпались вопросы и реплики:
– Все ли могут вступать в колхоз?
– Обобществлять что будут?
– А тони? Что останется тем, кто в колхоз вступить не пожелает?
– Как будут распределяться доходы?
– Можно ли выйти из колхоза, когда кто захочет?
– А как будет с мироедами?
– Да кто у нас мироеды-то?
– Есть тут еще…
Панькин ответил на все вопросы. Председательствующий спросил, кто желает высказаться по существу.
Обросим опять обеспокоенно зашарил глазами по рядам. Но мужики, с которыми он, кажется, договорился заранее обо всем, почему-то избегали встречаться с ним взглядом.
Зачин сделали активисты, члены Помора. Они признали работу кооперативного товарищества хорошей и согласились с Панькиным в том, что теперь от кооператива – прямая дорога всем в колхоз. Обросим слушал с досадой и раздражением: его сторонники молчали, словно воды в рот набрав, впору хоть говорить самому. Однако осторожность мешала ему поднять руку. Он помнил о судьбе высланного из Унды Вавилы Ряхина. В открытую ему было идти нельзя. Чухин привык брать горячие уголья из очага чужими руками.
Неужели бабы не выручат? – Обросим поднял голову и встретился взглядом со Степанидой. Незаметно кивнул ей, и она, воспользовавшись паузой, подняла руку.
– Слово имеет Степанида Клочьева, – объявили из президиума.
Степанида выбралась из рядов и положила перед Панькиным листок бумаги.
– Вот здесь все сказано, – промолвила она резковатым, неприятным голосом и вернулась на место.
Панькин пробежал бумагу и нахмурился. Из зала раздались возгласы:
– Чего там написано?
– Читай!
– Хорошо. Читаю, – отозвался Панькин. – Мы, трудящиеся рыбаки Унды, полагаем, что прежняя жизнь нас вполне ублаготворяла…
Когда он закончил читать, в зале поднялся шум. С трудом восстановив порядок, Панькин спросил:
– У кого еще есть такие листы? Прошу подать в президиум.
Больше листов никто не подал. Обросим напрасно метал молнии исподлобья на притихших баб. Те, видимо, трусили.
– Нет больше? Так… Какое будет мнение собрания о заявлении, поданном Клочьевой?
– Степанида вроде лорда Керзона, – раздался в тишине насмешливый голос Григория Хвата. – Предъявила нам ультиматум.
– А кто подписался-то под бумагой? – спросил Анисим.
– Тут стоит шесть подписей. Они неразборчивы, – ответил Панькин. – Я думаю, товарищи, что это заявление составлено рукой классового врага. От кого вы получили этот лист, Степанида?
Клочьева молчала.
– Сами вы не могли сочинить такую бумагу по причине неграмотности. Чья рука писала? Ответьте собранию, не скрывайте.
Клочьева сидела молча, сжав тонкие злые губы. Руки ее на коленях вздрагивали.
– Впрочем, я, кажется, одну подпись все-таки разобрал, – сказал Панькин. – Сотникова. Видимо, Пелагея Сотникова. Пелагея, ваша это подпись?
Поднялась молодая, бойкая женщина, в платке, опущенном на плечи.
– Ну, моя подпись.
Зал насторожился.
– А не можете ли вы нам ответить, что заставило вас расписаться?
– Могу. Отчего же не могу? – спокойно отозвалась Пелагея. – Я пряла шерсть, пришла Степанида и сказала: Подпиши эту бумагу. Все подписываются, и ты подпишись. Это, говорит, заявление против колхозу. А я спросила: Почему против? А она: В колхозные невода рыба не пойдет, потому что они будут ничьи, коллективные, и все рыбаки, говорит, будут жить впроголодь. Ну, пристала она как банный лист… я и подписала.
– Ясно, Пелагея. А вы сами-то как думаете насчет колхоза? – спросил Панькин.
– А что я? Как все. Я думала, все подпишутся, а тут только шесть подписей. Она, значит, меня обманула?
– Понятно. Садись, Пелагея. Так кто же вам дал лист, Клочьева? Объясните собранию.
Обросим сидел как на горячих угольях: Неужто выдаст? Но Клочьева молчала.
– Ну раз не хотите говорить, так я скажу, – Панькин поднял над головой заявление. – Текст этой бумаги написан рукой Обросима Чухина. Уж я-то знаю его почерк. Случалось в долговой книге расписываться!
– Это клевета! – замахал руками купец. – Клевета на честного человека.
– Можно устроить экспертизу. Но сейчас не до этого. – Панькин свернул лист и спрятал его в карман.
– Самая бессовестная ложь! – не унимался Обросим. Забыв об осторожности или уже решив, что терять ему нечего, он поднялся с места. – И от кого она исходит? От председателя кооператива, партейца. Я буду жаловаться! Да! И еще скажу тебе, Панькин, всю правду-матку. Вот ты все грозишь, всяких там классовых врагов выдумываешь. Потому люди и молчат, боятся слово сказать. А я скажу. Это заявление, которое ты положил безо всяких последствий себе в карман, есть не что иное, как мнение трудящегося народа! Трудящиеся рыбаки не желают идти в колхоз, а ты их тянешь туда силком! Разве ж так можно?
Панькин улыбнулся и развел руками:
– Да кого же я тяну? Сами рыбаки высказываются за колхоз! А против я пока не слышал ни одного слова, кроме разве тебя да Клочьевой…
– Дак люди-то боятся сказать против-то!
Зал зашумел неодобрительно. Обросим понял, что этот шумок явно не в его пользу, махнул рукой и с обиженным видом начал пробираться к двери. Но его удержал Григорий Хват, почти насильно усадив рядом с собой.
– Сиди! Собрание еще не кончилось, – сказал он.
Обросим вынужден был остаться. Опустив голову, он думал о том, что все его планы провалились. Мужики выпили водку, надавали кучу обещаний, а теперь от него отвернулись. Известно: каждому своя одежка ближе к телу. Он допустил непоправимую ошибку идя теперь напролом. Обросим поднял голову и увидел сидящего неподалеку Дорофея. Тот, смерив его презрительным взглядом, отвернулся. – Уж не проговорился ли ему Борька Мальгин а том, что я велел ему разделаться с Киндяковым? Если так – то я пропал. Обросим тихонько встал, но Хват крепко взял его за полушубок:
– Сиди, а то надаю по шее!
Опять пришлось сесть. И тут слова попросил Дорофей.
– Все началось с того, что вечером у меня усохла лампа, и я пошел к Обросиму просить взаймы керосина. Стучусь. Хозяин вышел в сени, но меня в избу не хочет пустить. Мне надо зайти – на улице метель, холодно, а он держит дверь – и все тут. Ну я все-таки проявил настойчивость и втиснулся в избу. И что же? Сидят у него за столом человек десять мужиков, пьют вино и ведут беседу. А беседа, как я потом узнал, шла о том, чтобы помешать организации колхоза. И вот сегодня все проясняется. Обросим поил вином мужиков, а они молчат, как воды в рот набрали. И правильно делают. Чувствуют, кто есть самый злейший враг новой жизни, и подпевать ему не хотят или боятся, потому что здесь они окажутся в меньшинстве!
– Вранье! – крикнул Обросим. – У меня был день рождения. Ничего против колхоза не говорили.
– Говорили! И день рождения у тебя, Обросим, не в феврале, а в июне, перед троицей. Ни под какие святцы ты его зимой не подгонишь. Я это проверил точно. Ну вот, слушайте дальше. Значит, я оказался свидетелем этого сборища, и решил Обросим меня избить, чтобы я, запуганный, молчал, а то и вовсе убрать… Послал он следом за мной одного человека, – из тех, что были у него, – чтобы исполнить приговор. Однако человек тот, – я не буду пока называть его имени, – оказался порядочным соседом и на преступление не пошел, а рассказал мне все начистоту.
– И не стыдно тебе такое наговаривать? Не верьте ни одному слову Дорофея! – кричал Обросим.
Зал загомонил возмущенно. Панькпн стал требовать тишины. Дорофей, когда поутихли, закончил:
– Вот что я хотел сказать собранию. Теперь прошу меня записать в члены колхоза с семьей, а таких, как Обросим Чухин, не подпускать к нему за версту.
Районный уполномоченный, который внимательно следил за ходом собрания, сказал, что заявление Киндякова будет принято во внимание и по делу поведется следствие. Тогда уж Дорофею придется назвать и фамилии тех, кто был у Обросима…
Возбуждение поулеглось, и собрание вновь повернуло в спокойное русло. Сторонники купца благоразумно молчали. Собиравшие против колхоза подписи бабы, струхнув, мяли листы в карманах и молили бога, чтобы пронесло. Последнее слово оставалось за большинством рыбаков, а они решили создать в Унде рыболовецкий колхоз Путь к социализму. В него вступило почти все село.
Анисим Родионов на собрании не выступил. Он весь вечер просидел молча, следя за событиями и морща лоб. Видно было, что он напряженно думает, и думы в мужицкой голове ворочаются медленно и туго. Но когда стали голосовать, Анисим одним из первых поднял руку за колхоз, и, глядя на него, проголосовали и те, кто колебался до этого.
Фекла Зюзина на собрании не была. Не пошла наша агитация впрок, – отметил про себя Родион.
Собрание закончилось под утро, когда в лампах выгорел керосин, и они одна за другой стали гаснуть. Расходясь, ундяне говорили между собой:
– Как-то нынче жить станем?
– Если бы суда настоящие поиметь!
– А Обросима-то, видно, тю-тю! Под арест.
– И поделом. Ну-ка стал мутить воду!
– Да и человека еще порешить хотел чужими руками…
По распоряжению сельсовета с ряхинского дома сняли сургучную печать и замок и отдали первый этаж под клуб, а второй – под колхозную контору.
Председателем вновь организованной артели избрали Панькина, сказав ему:
– Ты, Тихон, на кооперативе напрактиковался руководить.
Жизнь в Унде опять стала поворачивать в новое русло.
Родион, сидя на лавке у окна, точил нож о наждачный брусок. Нож большой, с толстым крепкой закалки клинком, откованный кузнецом по заказу покойного отца. Вжик-вжик-вжик – однотонно отзывалась сталь на каждое движение.
Лицо парня сосредоточено, рукава рубахи подвернуты. Рядом на лавке – мешок из нерпичьей кожи, в него Родион складывает все необходимое в путь-дорогу.
Сквозь серебряные заросли узорчатого инея в окно пробивается скуповатый дневной свет. Тишка, придя из школы и поев, устроился с книгой у другого окна. Возвратилась из магазина мать, принесла в холщовой сумке сахар да крупу. Настороженно поглядела на Родиона.
– Куда собираешься?
Тишка опередил брата с ответом:
– На зверобойку идет. Мужики собираются, и он с ними.
Мать растерянно села на лавку и как заколдованная все глядела на нож, который ходил взад-вперед по бруску. И вдруг сказала строго:
– Не пущу!
– Почему, мама? – спросил Родион, не прерывая своего занятия.
– Не пущу! – звонкий голос матери сорвался на крик, пронзительно резанул слух.
Родион перестал ширкать о брусок. Тишка оставил чтение. Оба обернулись к Парасковье.
– Да что вы, мама! – сказал Родион с укором.
– Не пущу-у-у! – Мать ударила кулаком по столешнице. Забрякала посуда, сложенная горкой. – Отец пропал, и ты теперь туда же глядишь? Не пущу-у-у! – заголосила, как по покойнику. Из глаз хлынули слезы, грудь тяжело и часто заподымалась. – Не пущу!..
Родион испугался, подошел к ней.
Мать схватила его за плечи, стала уговаривать:
– Не ходи, Родя, на зверобойку. Там – погибель. Там батя пропал!
– Да что вы, мама, успокойтесь! – в растерянности твердил Родион.
Парасковья утерла слезы концом платка. Глубоко и взволнованно вздохнула, стала прибирать посуду со стола на полку. Из рук выпало блюдце, покатилось по полу, но не разбилось. Тищка кинулся к нему, поднял.
Родион взял нож, попробовал большим пальцем острие. Мать смотрела на зверобойный нож, которым распластывают тюленей, почти с ненавистью. Родион взял с лавки толстую черемуховую палку и перерезал ее одним нажимом острого клинка наискосок. Остер нож!
– Не пущу, – коротко и зло повторила Парасковья еще раз. – И не собирайся.
Родион вспыхнул, взмахнул ножом, и он вонзился в лавку, глухо тюкнув о дерево.
– Мужик я или не мужик! – в сердцах крикнул он.
– Мужик. Однако не пущу! – упрямо сказала мать. – Сиди дома.
Тишка с ехидцей обронил:
– Сиди под мамкиной юбкой…
Парасковья проворно схватила с лавки обрезок палки и метнулась к младшему сыну. Тишка сорвался с места и кинулся к двери. Удар пришелся по ягодице – сильный, резкий. Тишка ойкнул, схватился за тощий зад рукой – и вон из избы как был – без шапки, без пальтишка. Убежал от греха подальше к дружку-соседу.
– Вырастила детей себе на горе! – распаляясь, бранилась Парасковья. – Еще сопля висит до нижней губы, а уж острословить начал!
– Батя ошибку допустил, – убеждал мать Родион. – От артели отбился, юровщика не послушался. А я эту ошибку повторять не буду. Законы поморские помню!
Мать молчала. Однако знала: Уйдет. Все равно уйдет! Не удержать ничем… Характер отцов – упрямый, крутой!
Родион выдернул из лавки нож, отер тряпицей лезвие и сунул его в ножны. Чтобы не распалять мать, кинул под лавку мешок и решил со сборами повременить до завтра, когда у матери сердце оттает.
К северо-востоку от Архангельска до самого Мезенского побережья тянутся необозримые, малообжитые просторы: тундровые болота, торфяники, по берегам речек – луга и полоски лесов. А реки – с диковинными названиями, какие есть только на Севере: Лодьма, Пачуга, Кепина, Золотица, Сояна, Мегра, Полта, Кельда, Кулой… До самого Абрамовского берега, где приютилась на краю материковой земли Унда, – тонкие волнистые нити рек и пятна озер. И лишь кое-где маленькие точки далеких глухих деревень, куда добираться можно лишь зимой на оленях, а летом на лодках – где по рекам, где волоком.
Зимой все заботливо укутано снегами. Снега, снега, без конца, без края… Когда лютуют морозы, этот обширный край и вовсе кажется нежилым.
Летом природа тоже не ласкает взор живописным пейзажем. Но как только выйдешь к морю, все мгновенно преображается. Холодное Белое морюшко плещется, словно былинное, сказочное диво. И когда глянет солнце, в отлив в полосе прибоя светятся теплыми радостными красками пески, словно где-нибудь на юге.
Белое море выносит из вод бескорые, мытые-перемытые корневища столетних сосен и лиственниц, взятые неведомо где – то ли в мезенских, лешуконских да онежских лесах, то ли в чащобах Предуралья. А иной раз виновато выложит волна обломки корабельных бортов, поплавки от неводов да закрученные папирусными свитками куски бересты…
А в глубинах таится своя, малоизвестная человеку жизнь. Там, где воды Белого моря смыкаются с морем Баренца, у Канинского берега, гуляет треска, пикша да камбала. По осени с ледоставом в реки заходит нереститься навага. Близ Лумбовского залива, что на Терском берегу, тянутся подводные заросли ламинарий – водорослей семиметровой высоты.
В более теплых, чем в иных беломорских местах, водах Кандалакшского залива зимой обитает сельдь: и мелкая егорьевская, и крупная ивановская. Встречаются здесь и полярная камбала, ледовито-морская лисичка, драгоценная семга, толстобрюхий окунь-пинагор с трехцветной – оранжевой, желтой, зеленой – икрой, чир, пелядь, полярный сиг, живородящая рыба бельдюга, и весьма редкие звездчатые скаты, и случайно зашедшие сюда макрели, и морские хищницы – полярные акулы, чистое бедствие для рыбаков-ярусников… Да разве перечислишь все, чем богато море! А больше всего оно знаменито морским зверьем – гренландскими тюленями, нерпами, моржами, морским зайцем.
Веками жили поморы зверобойным промыслом…






