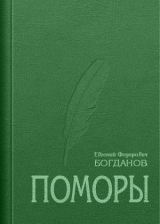
Текст книги "Поморы (роман в трех книгах)"
Автор книги: Евгений Богданов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 45 страниц)
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
1Тихон Сафоныч, по его собственному выражению, в эти дни кроил с бабами шубу из овечьего хвостика. Он так и заявил утром жене, которая, шуруя в печке кочергой, осведомилась, куда же в такую рань отправляется ее заботушка: Иду кроить шубенку из овечьего хвоста. Жена поставила кочергу, повернула к нему румяное от жара лицо и сказала не то с похвалой, не то с укоризной:
– Ох и– тороват ты у меня, муженек! Научи-ка и свою женку так кроить.
– Пойдем, так научишься.
– Пошла бы, да пироги пригорят в печи.
Тихон Сафоныч усмехнулся: о каких пирогах может идти речь, когда и хлеба не досыта? Ели с оглядкой, экономя пайковый рыбкооповский хлебушек, тяжелый, словно камень, с добавкой отрубей, мякины и еще бог знает чего…
Панькин обмотал шею шарфом домашней вязки, нахлобучил шапку и взялся за скобу. Постоял, – не очень хотелось выходить на каленый мороз из теплой избы. Жена опять за свои шуточки:
– Чтой-то в последнее время ты стал ниже ростом. Стоптался?
– А кто его знает. Дело к старости.
– Ну, ты еще не старый. Бабы заглядываются, те, которых приласкать по военной поре некому. Только я тебя никому не отдам.
– Не время сейчас заглядываться. Ну, я пошел.
Стужей сразу обожгло лицо. На улице было пусто. У магазина стекла в инее от подоконника до верху. Покупателей там, видимо, не много, да и торговать, по правде сказать, нечем. Война смела все товары с полок, и теперь они блистали чистотой. Уборщица аккуратно вытирала их каждый день, и наводить чистоту ей не мешали никакие предметы.
Навстречу Тихону Сафонычу топал какой-то странный прохожий, обмотанный с ног до головы в разные одежды. Лица не видно, только щелки для глаз. Поверх шапчонки наверчена бабья драная шаль, концы ее завязаны на спине узлом. Старый тулуп своими полами подметает снег. От валенок видны лишь латки на пятках да обшитые желтой кожей передки. Когда этот странник поравнялся с председателем, Панькин увидел его глаза – прозрачно-голубые, холодные, словно замерзшие на такой стуже. Прохожий снял огромную рукавицу, высвободил из шали нос и, захватив его корявыми пальцами, высморкался. По этому характерному жесту и узнал Панькин Иеронима Марковича Пастухова.
– Здравствуй, Тихон, – дребезжащим баском сказал дед. – Куды тя понесло в таку стужу? Сидел бы в конторе – все теплее.
– Дела зовут, – ответил Панькин. – Иду в сетевязальную. Как ваше здоровье, Иероним Маркович?
– А ничего пока. Помирать повременил – жена не велела. Земля, говорит, примерзла. Будут копать могилу – всего приругают. Да и сам я еще желаю до победы дотянуть.
– Надо дотянуть. А уж после победы собираться на погост совсем не захочется! – ответил Панькин. – Все рюжами занимаешься?
– Рюжами. На обручи сажаю.
– Так. Нет ли в чем нужды?
– Ни в чем не нуждаюсь. Не голоден и, как видишь, обут, одет. Спасибо. Ну, пойду – мороз гонит.
И дед шариком покатился по тропке к своей избе. Панькин с теплой улыбкой глядел ему вслед. Есть же такие люди, при виде которых человеку делается как бы легче, настроение у него поднимается!
Тихон Сафоныч вспомнил старое правило: Живи так, чтобы другим было легче от того, что ты есть на белом свете. Отзывчивость и готовность прийти на помощь особенно нужны теперь, когда все идут и идут похоронки и то в одной, то в другой избе плач да причитания перед иконами… Сиротеют некогда многолюдные поморские избы, стоят зимними ночами с сугробами снега на крышах, словно вдовы глядят на мир из-под снеговых нависей, как из-под траурных, низко повязанных платков.
И все эти избы его. Висят они немалым грузом на мужицких, уже немолодых плечах председателя, и надо тащить этот груз через всю войну, до самой победы.
Так думал Панькин, идя пустынной улицей села и поглядывая на притихшие избы, которые от него будто чего-то ждали…
Как облегчить жизнь людям, если промыслы стали малодобычливы из-за нехватки снастей да флота? Если заработки на путине невелики, да и продуктами рыбкооп иной раз отоваривает рулоны [55]55
Так называли в обиходе рыбаки свернутые обычно в трубочку продовольственные талоны, которыми пользовались в военные годы. Их получали от рыбозавода.
[Закрыть]с перебоями? И вот так просто, по-человечески, внимателен ли Панькин к людям, всегда ли находит слово им в поддержку и похвалу?
Районы промыслов ограничены, да и со снастями очень уж туго. Запасы, сделанные на черный день в колхозе, кончились – очень долгим оказался этот черный день… Вот и приходится изворачиваться: перетряхивать на складах старые снасти да невода, сети да канаты, которые еще не истлели окончательно, и делать из них новые материалы для промысла. Моторно-рыболовная станция не могла ничего другого придумать, как рекомендовать вместо сетных ловушек деревянные – загородки и перегородки в воде из досок, ивовых прутьев и прочего. Старые веревки советовали использовать до полного износа. В письме МРС было сказано: Изготовить к весенне-летней путине мелких деревянных ловушек не менее пятнадцати штук, стенок – до восьми – десяти штук. А из утильных сетей – сто килограммов канатов.
Сто килограммов канатов из старой сетки – и никаких гвоздей! Выполнением такого распоряжения и занимались теперь колхозницы, то есть шили шубу из овечьего хвоста.
Войдя в маленькие сенцы сетевязальной мастерской, Панькин прежде всего услышал пение. Дверь была тонкая, а голос звонкий, певучий, с грудным тембром. Была в нем тоска жгучая и безысходная:
Ягодиночка убит,
Убит и не воротится.
На свиданьице со мной
Теперь не поторопится.
Стало тихо. Панькин стоял за дверью, ждал, когда выльется сердечная женская тоска в новой частушке. И вылилась:
Передай привет залетке,
Птица перелетная.
Полевая сто вторая
Рота пулеметная.
Пели двое. Густой, грудного тембра голос принадлежал Фекле, а потоньше, альтовый – Соне Хват. Панькин потянул на себя скрипучую дверь:
– Здравствуйте, бабоньки! Труд на пользу!
– Здравствуй, Тихон Сафоныч!
– Пришел – будто солнышко взошло!
– Чем порадуешь?
Панькин окинул взглядом помещение. Посредине топится печка-времянка, от нее струилось тепло. Пахло дымком, словно летом на сенокосе в избушке. Надо дымоход проверить да почистить, – отметил про себя Панькин. – Дымит печка. Вокруг, на табуретках и скамьях, сидело с десяток женщин и девчат. Перед ними на полу – вороха старых сетей и канатов. Раздергивая канаты, мастерицы выбирают пряди покрепче, свивают их в клубки, а другие из таких же прядей на самодельных деревянных станках скручивают веревки. Разбирают женщины и ветхие, давно списанные, но в свое время не выброшенные сети, выискивают дель с ячеями покрепче, ухитряются связывать куски в одно большое полотно иглами. Работа вроде бы никчемная, материал прелый, гнилой – выбросить давно пора, но по нужде еще годный. Тихон Сафоныч вспомнил, как в мирные дни ругал кладовщика за беспорядок: На что тебе эта рвань? Ведь давно списана, выбрось! Кладовщик отвечал: Жаль бросать. Может, сгодится еще. Ну ты и Плюшкин! – сказал председатель. Плюшкин не Плюшкин, а пусть лежит. Не мешает, – опять за свое кладовщик. Словно чувствовал, что пойдет старье в дело…
Пыль в мастерской – столбом, в воздухе плавают хлопья. Свет слабоват, хотя на стене висят три десятилинейные лампы. С улицы только синева сочится в окошко, а на дворе часов десять.
– Ну чем же вас порадовать? – Панькин сел на чурбак, протянул руки к печке. – По последним сведениям, принятым Густей, наши войска крепко бьют под Сталинградом окруженных немцев. Освободили Котельниково, наступают на Ростов. Вот самая свежая новость. Радостная?
– Радостная! – согласились женщины. – А еще?
– А еще сегодня в семь вечера будет собрание. Приходите и соседям накажите, чтобы явились.
– О чем собрание?
– Придете – узнаете.
– Ладно, придем.
Фекла сбросила с колен растрепанный старый канат – как видно, такая работа ей наскучила. Встала, с хрустом потянулась, подкинула в печку поленьев и, сев на корточки перед топкой, сказала:
– Скучная работа, председатель! Спел бы хоть, что ли? Повеселил нас!
На голове у Феклы белый ситцевый платок – от пыли, на плечах – вязаная кофта. Метнула на Панькина из-под платка живой, озорной взгляд:
– Так споешь?
– Эх, бабоньки, спел бы, да на морозе голос потерял! – махнул рукой Панькин. – Почему же вы говорите, что работа плохая? – он подобрал с пола конец каната, стал развивать его на волокна.
– Во, во! – одобрили женщины. – Хорошо у тебя получается.
Фекла молча села на свое место и принялась наматывать на клубок толстую льняную нить. Вспомнила Бориса, загрустила. Подумала, что после работы надо бы зайти к его матери, принести керосину – обещала.
Соня Хват опустила руки на колени, замерла, неподвижно глядя перед собой. Убит, убит, батя… – всхлипнула и закрыла лицо руками. Женщины принялись ее успокаивать. Она справилась с собой и, утерев слезы, опять взялась за дело.
– Да, бабоньки, у каждого свое горе, – вздохнула Фекла. – Горе, что море, и берегов не видно…
Панькин побыл здесь, молча посочувствовал женщинам, пообещал добавить ламп для освещения мастерской и попрощался. Вслед ему тихонько потянулась песня:
На речке, на речке,
На том бережочке
Мыла Марусенька
Белые ноги.
Плыли к Марусеньке
Серые гуси,
Плыли к Марусеньке
Серые гуси…
Странно было слышать эту ласковую песню в низкой мрачной избе, заваленной старыми пыльными снастями, в притихшем от безлюдья селе, затерянном в зимней тундре, остуженном калеными предновогодними морозами.
2В конторе Панькина ждали неотложные дела. Пришли телеграммы из райисполкома. Одна гласила: Прошлогоднюю практику задержки почты прекратите, поставьте на станциях лошадей, людей таким расчетом, чтобы почта из Мезени до Ручьев и обратно шла без задержки. Другая была не менее категоричной: В связи с массовым подходом сайки немедленно шлите на реку Кию 15 человек. В третьей предписывалось выделить четырех человек на лесозаготовки.
Панькин еще раз перечитал телеграммы. В первой был упрек начальства: Прошлогоднюю практику прекратите… Этакий директивный, раздраженный тон. Тихон Сафоныч вспомнил, что в прошлую зиму письма и посылки возили два пожилых рыбака и, оба хворые, доставляли их неаккуратно.
Итак, требуется выделить минимум двадцать два человека: три на почту, четверых на лесозаготовки, пятнадцать на лов сайки, – Панькин призадумался. – А где их взять?
Но еще было очень неприятное письмо моторноры-боловной станции. В нем прислали колхозу иск за убытки, понесенные МРС от того, что Панькин осенью не смог направить на лов наваги потребное количество рыбаков, да еще не обеспечил экипажем эмэрэсовскую моторную дору Коммунистка, как было предусмотрено договором. Сумма иска внушительна: сорок тысяч рублей. Если суд решит дело в пользу МРС, со счета колхоза спишут эти деньги, которых и так кот наплакал… Час от часу не легче!
Что же делать? Вот они, прорехи-то в работе! Думаешь, все идет гладко, что сделано – хорошо, что не сделано – спишется. А нет, не спишется, не забудется. Как это так получается, что нам – и вдруг иск? Или я вовсе остарел, руководить не могу? – думал Тихон Сафоныч. – Нет, дело, пожалуй, не в этом. Людей, правда, на промыслы отправили маловато. Но ведь сама же МРС десять человек использовала на ремонте судов, хотя это вовсе не входило в обязанности колхоза. Кроме того, станция не сумела вывести на селедочный промысел столько ботов и ел, сколько предусматривалось договором. Вот план и треснул. Теперь их приперло, и все валят на колхоз. Хотят покрыть убытки за наш счет! Ловко.
Панькин решил посоветоваться с Митеневым – главбухом и секретарем партийной организации.
Долго они судили да рядили и наконец решили: из сетевязальной мастерской снять Феклу, Соню и еще двух женщин помоложе и отправить на заготовку леса. На перевозку почты, кроме стариков, поставить некого. Пусть возят. Только вместо двух назначить троих, чтобы могли хворать, если придется, по очереди. Что же касается лова сайки на Кие, туда уже послано десять рыбаков, остается еще найти пятерых. С большим трудом нашли и этих людей.
Оставался иск. Митенев взял это дело в свои опытные руки финансиста:
– А мы предъявим им встречный иск. Клин клином вышибают. Наших людей они использовали на второстепенных хозяйственных работах – раз. Суда за сельдью не послали, и рыбаки тоже находились без дела сколько дней. И рыба осталась в море – два. Нам убытки? Убытки. Я уже подсчитал иск на тридцать пять тысяч, и ни копейки меньше.
– Самое последнее дело судиться колхозу с эмэрэс, – хмуро сказал Панькин, когда они решили этот щепетильный вопрос.
– Я бы этого не сказал, – отозвался бухгалтер. – Видишь ли, Тихон, судебное разбирательство – не столь уж позорное дело. Суд восстановит истину. И уж если дело дошло до него, значит, мы поступаем принципиально, боремся за колхозную копейку, как требует экономика.
– Вот за эту экономику вызовут нас в райком да врежут по строгачу!
– Уже хотели вызвать. Но я убедил их, что нашей вины в невыполнении договора с МРС нет совершенно никакой. Где взять людей, если их нет?
– Ну ладно. Быть по сему. Теперь подумаем, где взять денег на танковую колонну. Личных взносов колхозников будет мало.
– Если нам сократить расходы на культмассовую работу, да из неделимого фонда кое-что, да и из прибыли от реализации продукции зверобойки взять средства – тысяч пять найдем.
– Хорошо. Обговорим на правлении.
В Унде охотно посещали собрания, потому что бывали они не так уж часто. Надоедало колхозникам зимними вечерами сидеть по избам. А на собрании можно, как говорится, и на людей посмотреть, и себя показать, да и перемолвиться с соседями. Поэтому все собрались в заседательном зальце, неярко освещенном керосиновыми лампами.
В зале холодно, пар от дыхания туманил оконные стекла. Все оделись тепло – в полушубки, шапки ушанки. Пожилые женщины навертели на себя толстые шали. От разговоров зал гудел, как в кино перед началом сеанса. Но когда вошло колхозное начальство, шум поутих.
Парторг Митенев сообщил рыбакам и рыбачкам отрадные вести: советские войска под Сталинградом бьют немцев, и на других фронтах перевес все больше клонится в нашу сторону.
Потом перешли к следующему, самому главному вопросу. Председатель сказал, что по области собирают средства на танковую колонну Архангельский колхозник и рыбакам Унды необходимо сделать свой взнос. Все дружно согласились: Надо! Чем мы хуже тамбовских или саратовских? Надо, чтобы была колонна и Архангельский колхозник. Поможем армии!
Николай Тимонин сказал, что дает на танковую колонну свой месячный заработок – триста рублей. Столько же внес и Семен Дерябин. Потом и другие стали поднимать руки и говорить, кто сколько денег дает на колонну.
Фекла была в некотором замешательстве: сбережений у нее почти не имелось. В старом фарфоровом чайнике с отбитым носиком, служившем ей кубышкой, лежало только пятьдесят рублей, заработанных на переделке канатов в сетевязальной мастерской, а прежние, летние заработки она давно проела. Пятьдесят все-таки мало, – подумала она. – Надо просить аванс. Но когда одинокие женщины и жены фронтовиков тоже стали вносить по пятьдесят, семьдесят рублей, она решилась-таки объявить и свой взнос: пятьдесят целковых. Но добавила:
– Меня посылают на лесозаготовки. Там подработаю, так еще внесу.
К концу собрания набралась довольно внушительная по тем трудным временам сумма, девять тысяч. Да еще из колхозной кассы выделили шесть тысяч, и всего стало пятнадцать тысяч рублей.
На собрании Панькин заметил отсутствие Иеронима Марковича Пастухова, непременного участника всех заседаний. Уж не заболел ли? – подумал председатель и решил после собрания заглянуть к нему. Но засиделись в правлении допоздна и зайти на квартиру к Пастухову не пришлось. А утром дед явился к Панькину сердитый.
– Почему меня не позвали на собрание? – спросил он, обиженно насупившись.
– Видимо, курьерша забыла вас известить, Иероним Маркович. Извините.
Дед долго молчал. Панькин успел составить текст телеграммы в район о том, что люди вышли на путину пешком в сопровождении одной подводы и придут на Канин через четыре-пять дней.
– Слышал я, на танки деньги собирали, – начал дед, увидев, что Панькин поставил точку и положил перо. – А меня обошли. Как же так? Выходит, теперь я совсем и не патриот?
– Как же не патриот? Вы у нас самый главный патриот.
– А все-таки обошли.
– Иероним Маркович, я ж говорю: по оплошности не известили вас. Беру всю вину на себя. Простите. А что касается взноса на танковую колонну, то его можно сделать и не на собрании. Деньги мы примем в любое время и запишем в общую ведомость.
– Ладно, если так. – Иероним подумал, помялся. – Только бумажных кредиток у меня нету. Однако есть золото. Дал тебе кто-нибудь золото на танки?
Панькин удивился и подумал: Откуда у старого золото, если всего добра в избе – курица под печкой да старый сундук с рухлядью?
– Нет, золота никто не вносил.
– Ну вот! А я внесу.
Иероним осторожно стянул с левой руки варежку – Панькин теперь только заметил, что, обогреваясь, дед эту варежку не снимал, – тихонько вынул из нее колечко. Золотое, обручальное. Он бережно положил его на стол перед Панькиным.
– Вот! Литое кольцо, не дутое, самой высшей пробы. Знаешь, сколько оно стоит по нонешним временам? Золото не простое, червонное! Ты бы взял увеличительное стекло да с изнанки глянул на пробу-то. На это колечко можно для танка отлить пушку. Вот какая ему цена!
Панькин улыбнулся.
– Пожалуй, колечко ваше на пушку потянет. Никак не меньше.
– Да. И колечко дорогое, обручальное. Старухино. Свое-то я в море, со снастями работая, утопил, слезло с перста. А старухино уцелело. Вот я и принес с ее добровольного согласия.
– Ну спасибо, Иероним Маркович. Огромное спасибо. Только что мне делать с таким взносом! Деньги мы переводим через банк. А как колечко переведем? Сохранили бы вы его в память о молодости да о счастливом бракосочетании.
– Это мой добровольный взнос, и принять его ты обязан. Кто-нибудь поедет в банк, там и обменяет колечко на деньги. А деньги можно внести без труда.
– Разве так… Ну ладно. Оставьте колечко. И еще раз спасибо вам от имени колхоза за ваш золотой взнос. До свиданья, – Панькин встал, протянул руку, прощаясь.
– Мне бы, Тихон Сафоныч, расписку… Нет, нет, я тебе доверяю, однако для проформы мне нужна расписка. Перед старухой оправдаться.
– Хорошо, пожалуйста.
Тихон Сафоныч написал расписку и для большей убедительности поставил колхозную печать.
– Ну вот и ладно, – дед спрятал расписку в рукавицу. – Жене покажу. Пусть знает, что ее кольцо поступило в оборонный фонд.
Панькин вежливо проводил деда. А когда он ушел, подумал: Конечно, не так уж много стоит это кольцо, но для Иеронима оно-то великая ценность потому, что единственное и памятное. Вот и еще раз раскрылась душа русского человека. Словно шкатулка с самоцветами.
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
1Если в мирное время колхозный флот регулярно выходил в море на тресковый и сельдяной промыслы, а озерный, местный лов из-за малой его прибыльности был не в почете, то сейчас в округе не оставалось, пожалуй, ни одного озера, которое бы не облавливали рыбаки.
В середине мая звено Дмитрия Котовцева отправилось на оленьих упряжках на озеро Миньково. Теперь уже ни для кого не было необычным, что в рыболовецких бригадах работали только женщины, и на Миньково поехали Фекла Зюзина, Варвара Хват с дочерью, Авдотья Тимонина, Парасковья Мальгина и еще три средних лет колхозницы.
Привезли они с собой невод, продукты на первое время, обосновались в избушке, законопатили лодку-трехнабойку, служившую рыбакам уже третий сезон, и принялись кидать тони – ловить окуней и щук.
Рано утром выбирались рыбачки из тесной и душной избушки и, позавтракав, принимались за дело. Весь день они возились у невода, вытряхивали на вытоптанную лужайку рыбу из кутка [56]56
Куток или мотня – срединная часть тягового невода.
[Закрыть], солили ее в бочки, а часть прятали в яму со льдом. Дважды в неделю приезжала оленья упряжка и увозила улов.
Дмитрий Котовцев забрасывал невод с лодки. Ему помогала Фекла. Целый день она сидела в веслах, до мозолей на руках, до боли в пояснице.
Это озеро считалось добычливым. Каждый сезон тут колхозники брали до двадцати центнеров улова. Рыбачили и зимой подледным способом, если удавалось сколотить бригаду из мужиков.
Озеро имело два километра в длину. Широкое, с обрывистыми, черными от торфяников берегами, оно казалось диким, заброшенным в просторах тундры. Кое-где на берегах имелись отлогие песчаные косы, на которых и трясли снасть рыбаки. Кругом ни деревца, ни кустика. Только рос по кочкам черничник, морошечник да очиток. А по южному берегу стлалась по земле карликовая березка.
У большой отмели, на отлогом холме, стояла изба. Перед ней сколочены из досок стол и две скамьи. Тут в хорошую погоду рыбаки завтракали, обедали и ужинали. А когда шли дожди или донимал гнус, они забирались в избу, клали в камелек сырые ветки, чтобы было больше дыма, и ели здесь.
Фекла еще в селе, узнав, что на озеро едут Авдотья и ее зять Дмитрий Котовцев, сказала Панькину, что лучше бы отправилась в другое место. Но Панькин уговорил ее, и она, скрепя сердце, согласилась.
На озере Фекла сначала присматривалась к Тимониной и Котовцеву, но они не проявляли к ней открытой неприязни, и она было успокоилась.
Она сидела в лодке и быстро, но почти бесшумно работала веслами, налегая больше на левое. Лодка описывала на озере большой круг по длине невода. Котовцев стоял на корме и рассчитанно-привычно сбрасывал в воду невод с деревянными поплавками по верхней и глиняными грузилами по нижней кромке. Фекла гребла, торопилась, потому что вспугнутая движением лодки и шумом сбрасываемого невода рыба могла уйти на глубину. Рыжая шкиперская борода Котовцева горела огнем на скупом северном солнце, ветер трепал брезентовую куртку. Мелкие частые волны бились о борта. За кормой тянулась по воде изогнутая цепочка поплавков. Когда подъехали к косе, эта цепочка образовала почти правильной формы круг, разорванный только у самого берега. Котовцев молча выходил из лодки и, подтянув конец веревки от невода, передавал его женщинам-тяглецам. За один конец брались Соня, Варвара, Парасковья, за другой – Авдотья и еще две рыбачки. Они ровно вытягивали снасть, упираясь ногами в мокрую илистую землю: И р-рраз, и два! Еще! Еще! – повторяла про себя Фекла, помогая тяглецам, перехватываясь по мокрой тетиве.
Подходил куток. Он был тяжел – улов попадался хороший. Рыбаки вытаскивали его на берег подальше от воды и вытряхивали. Груда рыбы билась на песке. Ее собирали в двуручные корзины. Потом подбирали и выбрасывали в воду трепещущую мелочь и снова укладывали невод в лодку.
Котовцев и Фекла плыли в другое место. Женщины гуськом шли за ними по берегу. Приняли конец от крыла невода, и Фекла выгребала подальше, в глубь озера, а Котовцев опять сбрасывал тяжелую мокрую снасть. С его брезентовых штанов, с края куртки стекала вода. Резиновые сапоги натянуты до бедер, прихвачены ремнями к поясу. На голове небольшая по размеру шапка с вытертым бараньим мехом. Бородатое широкое лицо под ней казалось непропорционально огромным. Время от времени он говорил:
– Правым, правым больше! Теперь ровно!
Фекла ощущала на себе его прилипчивый взгляд, от которого ей делалось нехорошо. Здоров, как жеребец, – с неприязнью думала она. – Глазищи жадные, нахальные… Но скоро она перестала обращать на него внимание – привыкла, и ей стало безразлично, как смотрит на нее Дмитрий.
Однако молчаливое его внимание к Фекле не прошло незамеченным. У Авдотьи опять появилось подозрение. Женщина вздорная, способная сделать слона из мухи, она решила: Сговорились. Все в лодке ездят вместе. Зятек меня обманывает, а Фекла корчит из себя невинность.
Авдотья стала следить за Феклой и Дмитрием. Но повода для того, чтобы высказать в открытую свои подозрения, не было. Фекла на берегу старалась держаться подальше от звеньевого, и если ей случалось перемолвиться с ним словом, то лишь о деле и накоротке.
Однажды вечером, развешивая на колья невод для просушки, Фекла и Дмитрий замешкались у лодки, вытаскивая ее на берег, и вернулись вместе. Авдотья варила уху в котле перед избушкой. Пробуя варево, она обожглась, бросила ложку и вдруг разразилась бранью.
– Вместе ходите! Схлестнулись опять! Бога не боитесь! Меня сколько из за вас таскали в правление, натерпелась сраму!
Фекла вспыхнула:
– Ну вот что, Авдотья! Человек ты неблагодарный, очень подозрительный, все тебе кажется да мерещится. Садись теперь сама в лодку и греби. А я больше не хочу. С меня хватит.
Котовцев нахмурился, туча-тучей. На этот раз он был ни в чем не виноват: Уж и поглядеть на бабу нельзя!
– О чем речь? Не понимаю, – сказал он недовольно.
– Кобель несчастный! Договорились с Феклой… Недаром ее в звено взял на озеро! – накинулась на него теща.
– Да откуда вы взяли? Весь день мы в лодке, у всех на виду. Все ваши выдумки. Прекратите этот пустой разговор.
– Я же видела, как вы переглядывались! – не унималась Авдотья.
– Разве это человек? – Фекла собрала свой мешок, вскинула за плечи и пошла прочь от избушки Соня за ней. Догнала. Феня заплакала.
Всегда смелая, непреклонная, умевшая постоять за себя, на этот раз Фекла упала духом. Уломалась в работе, устала, нервы сдали. Соня ее уговаривала:
– Успокойся, Феня, вся эта история не стоит выеденного яйца. Пойдем обратно. Пора ужинать. Никто не ест, тебя ждут…
Фекла все же вернулась и услышала, как женщины бранили Авдотью на чем свет стоит. Увидя Феклу, все притихли.
– Давайте ужинать, – сказала она и стала разливать уху по мискам.
Когда поели, Котовцев подошел к ним и сказал:
– Вот что, бабоньки, прошу вас иметь в виду, что между мной и Феклой ничего предосудительного не было. Тещу мою не слушайте. И чтобы об этом больше ни слова. А кто, – он метнул на Авдотью сердитый взгляд, – кто будет мутить воду, того вывезу на середку озера и утоплю. Под суд пойду, в тюрьму сяду, а утоплю. Ей богу!
– Это меня-то утопи-и и-шь? – взвизгнула Авдотья, округлив глаза. – Ну, зятек, спасибо.
– Попрошу вас, Варвара Тимофеевна, с завтрашнего дня сесть в весла, – продолжал звеньевой. – А Фекча Осиповна будет тянуть невод со всеми.
– Так она, Авдотья-то, и к Варваре приревнует! – сказала Парасковья. – Она ведь вдовая…
Котовцев озадаченно поскреб затылок и растерянно глянул на Мальгину.
– Тогда кто же? – спросил он.
– А пусть Авдотья и гребет, – продолжала Парасковья. – А ты сдерживай слово, топи ее!
Женщины захохотали. Авдотья ушла в избушку и легла на нары.
До позднего вечера Котовцев бродил по берегу, курил и думал Конечно, я Феклой увлекался. И сам виноват, что теща злится, оберегая свою дочь. Бывало, сболтнул Анне сдуру лишнее, а она и рада стараться. Хватит! К добру это не приведет. Фекла теперь еще больше ненавидит меня. Так что я за мужик, если буду за ней волочиться? А в веслах ее надо сменить. Пусть в лодку сядет Варвара.
Придя к такому решению, он сказал женщинам:
– Завтра будет работать со мной Варвара Хват. Во избежание дальнейших недоразумений…
Рыбачки молча переглянулись. Лишь Авдотья подала в открытую дверь избушки непримиримо-злобный голос:
– Ну вот, теперь Варвару облюбовал.
– Да замолчи ты! – прикрикнул на нее вконец разозленный Дмитрий, и она умолкла.






