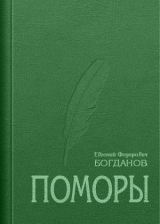
Текст книги "Поморы (роман в трех книгах)"
Автор книги: Евгений Богданов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 45 страниц)
Дорофей стал готовиться в путь. Получил на складе снасти, провиант, горючее и, вернувшись домой, велел жене и дочери истопить баню: вечером накануне отплытия он, как водится, собрался побаловаться веником на жарком полке на дорогу. А потом, по старинному обычаю полагалось собрать на отвально родичей и близких знакомых.
Густе Дорофей наказал:
– Родиона позови. Пусть знает, что я на него не серчаю.
– Ладно, батя, – сказала дочь.
Дорофей трижды брал приступом полок. Веник уже истрепался. Тело стало малиновым. Покряхтывая, Дорофей ворочался в жару на банном полке так, что доски под ним прогибались.
Отдышавшись в предбаннике, он надел чистое шуршащее белье, посидел на порожке, накинув верхнюю одежду.
Дома уже все было собрано на стол, и на лавках чинно сидели гости, ожидая хозяина. Родион шушукался в горенке с Густей. Услышав стук двери на кухне, Густя позвала его:
– Батя явился. Идем!
Еще с порога Дорофей, сняв кепку, низко поклонился гостям.
– Здравствуйте-тко, гости дорогие! Спасибо, что пожаловали. Прошу за стол!
Рассаживались за двумя составленными рядом столами, не торопясь, уступая друг другу место. В центре застолья – почетный гость, Панькин.
За последнее время Панькин несколько изменился внешне: вроде бы постарел, осанка стала солиднее, лицо пополнело. В торжественных случаях председатель теперь надевал рубашку с галстуком. Но внутренне Панькин оставался тем же, каким был, – беспокойным и решительным в делах. Обширное хозяйство колхоза доставляло ему массу хлопот. В конторе председателя застать было трудно: он то садился в моторный карбас и ехал по семужьим тоням, мерз там на ветрах по двое-трое суток, ночевал с рыбаками в тесных избушках, а иногда на той же моторке торопился вверх по реке осмотреть луга – не пора ли начинать покос: колхоз имел стадо коров, чтобы обеспечивать молоком детей рыбаков. Из Мезени и из Архангельска часто приходили грузы для артели. Их надо было спешно доставлять с парохода на берег. И еще требовалось считать колхозную копейку, разумно ее расходовать. Так что, если Панькин и был в селе, то домой приходил лишь поздним вечером. Жена с некоторых пор дала ему полушутя-полусерьезно прозвище Забота. Опять мой Забота к ужину не явился, – встречала она его, когда он, усталый, избегавшийся, еле переступал порог старой избенки. И, не очень рассчитывая на положительный ответ, шутливо предлагала: Ты бы, Заботушка, сегодня хоть выходной день устроил. А то совсем от дома отбился. Даже и не ночуешь. Где и у кого ты две ночки спал? Неужто люба какая завелась, разлучница?
Панькин, отшучиваясь, успокаивал жену. Прозвище Забота было домашним. Свято оберегая председательский авторитет, жена на людях его так не называла.
Что касается взаимоотношений с односельчанами, то для них Панькин оставался простодушным, шутливым, свойским, однако в делах был требовательным и порой резковатым на язык. Справа от Панькина сел хозяин, слева – Родион. Среди гостей были племянники Дорофея и Ефросиньи, зятья, сваты, братья, шурины, сестры.
Панькин встал, поднял чарку и провозгласил:
– Дорогие гости! Пожелаем Дорофею Никитичу и его команде попутного ветра, удачи в ловецком деле и благополучного возвращения!
– За поветерь! – дружно подхватили гости древний тост.
– С отплытием вас, Дорофей Никитич!
– В добрый час! Богатых уловов!
– Первую чару, благословясь! – поддержал и находившийся тут же дедко Никифор.
Иероним, его приятель, прихворнул и не мог прийти в гостеприимный дом кормщика.
Поглядывая на гостей, ставших веселыми, разговорчивыми, Родион вспомнил, как много лет назад, когда еще были живы дед и бабка, провожали на промысел отца, уходившего покрученником на купеческом паруснике.
– Чего пригорюнился? Вишь, как Густя старается для тебя! – сказал Дорофей Родиону.
Ефросинья и Густя то и дело меняли на столе кушанья.
Родион понял, что Дорофей забыл о недавнем неприятном происшествии со сплетней, и не обижался на кормщика.
– Жаль, не пришлось с вами идти, Дорофей Никитич, – сказал он. – Мама плоха нынче. Осенью отправлюсь на Канин.
– Не горюй! Сходим еще не единожды. Дорофей задумчиво улыбнулся, радуясь домашнему уюту и расположению к нему односельчан. Обычай проводов был соблюден. Завтра – в море!
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯРека Унда, по которой выходило в море много поколений рыбаков, как северная неторопливая песня струилась меж неприютных пустынных в низовьях берегов в Мезенскую губу. В верховьях по берегам росли ельники, ближе к устью – лишь травы, болотные мхи да мелкий кустарник-стланик. В приливы река, разбавленная морской водой, раздавалась вширь, в отливы мельчала, обнажая песчаные отмели и островки.
Верстах в трех от села вверх по реке был низинный луг с ласковым и поэтичным названием Оленница. Когда-то в этих местах стадами бродили дикие олени. В свадебные дни хоры ухаживали за важенками [25]25
Хор – самец-олень, важенка – самка.
[Закрыть], пили воду из ручья, струящегося из тундры, отгуливались за лето. Когда они выбирались к реке, берег, как живой, шевелился от множества спин животных. Разлив узорчатых рогов напоминал заросли старого вереска.
Теперь диких оленей не стало. Ненцы сбили их в большие стада, и на берега они выходили в сопровождении пастухов и косматых полярных лаек.
В середине лета ундяне запасали на Оленнице сено для скота. А сенокосной поре предшествовала заготовка дикого лука. Огородничество в этих краях не прижилось: лето короткое, холодное, солнца мало, частые заморозки губили все на корню. А без овоща, без зелени здесь, поблизости от Полярного круга, легко можно заболеть цингой. Потому-то жители и заготовляли на зиму дикий лук, засаливая его, словно капусту.
Откуда и как он здесь появился – неизвестно. Вероятно, произрастал издревле сам по себе, как морошка или клюква, никем не сеянный. Перья тонкие, как молодой хвощ, жесткие, а луковки – величиной с дольки некрупного чеснока. На вкус – лук как лук. Он рос в изобилии, как в других местах по берегам растет трава-осока.
В последнее перед поездкой на покосы воскресенье Родион собрался на Оленницу за луком. С ним поехал Тишка, уже давно отдыхающий от школьных забот на каникулах, и еще вызвалась в поездку Густя.
Столкнули лодку на воду. Ожидая девушку, Родион нетерпеливо посматривал в сторону деревни, а Тишка, сидя в корме, надраивал суконкой блесну у дорожки.
Наконец появилась Густя с бураком за плечом, и не одна, а с Сонькой Хват. Сбежали по тропке, остановились у воды. На ногах сапоги, на плечах старенькие кацавейки, на головах косынки, у Густи – синяя, у Соньки – розовая с цветками-ромашками.
– Ладно, поехали! – Родион оттолкнулся от берега и сел в весла. Напротив него на банке – Густя и Сонька, за ним, в корме, – Тишка с рулевым веслом. Как только отъехали от берега, он принялся разматывать шнур дорожки: Авось щучонка хватит!
Родион сначала греб сильно, рывками посылая лодку вперед. О борта плескались волны. Пригревало солнце. Вода блестела в его лучах, вспыхивала перламутром. Густя, закрыв глаза, подставила лицо солнцу, ласковому, теплому.
– Солнышко! – сказала она. – Так редко оно навещает нас!
Лодка ткнулась носом в кочковатый перегной берега. Все вышли из нее, взяв бураки.
Разбрелись по лугу, стали собирать лук. Девушки пели припевки:
Хорошо траву косить,
Которая зеленая.
Хорошо девку любить,
Которая смышленая.
Потом сели отдыхать, перекусили. Тишка предложил Родиону пойти в лес, поискать удилищ. А девчата легли на траву.
– Любишь Родьку? – спросила Сонька с оттенком зависти.
– А чего же не любить? – улыбнулась Густя.
– Баской парень, умница. Хороший будет мужик в дому, – по-взрослому сказала Сонька и вздохнула. – А мне так пока не нашелся хороший парень. Нашелся – так бы полюбила! Уж так полюбила-а! Да не скоро найдется. Не баская я: вишь, курносая, в детстве оспой переболела. На лице, говорят, будто черти горох молотили…
– Не горюй. Ведь молода еще. Все, что тебе сужено, – твое и будет. – Густя вытянулась на траве и глубоко и шумно вздохнула всей грудью. – А давай-ка пошутим над парнями!
– Как?
Густя встала, осмотрелась. Ребят не видно.
– Ищи камень поболе!
Девушки нашли увесистый камень-голыш, вытряхнули из бурака Родиона лук, положили камень на дно и опять набили бурак зеленью. Попробовали поднять – вдвоем еле оторвали от земли.
– Велик камень, – сказала Сонька. – Надорвется парень.
– Ничего. Поглядим, сколько у него силенки.
Ребята вернулись без удилищ – лес мелкий. Родион поднял бурак, удивляясь его непомерной тяжести, взвалил на спину, только витая ручка заскрипела.
– Что-то тяжел сей год лук, – сказал он, поглядев на девчат. Те засмеялись.
– Не знаю, почему тяжел, – ответила Густя, отводя взгляд.
Родион молча подошел к лодке, поставил бурак и стал выгребать лук,
– Каменья возить домой ни к чему, – вывалил камень, снова собрал лук и внес бурак в лодку. Девушки переглянулись и запели:
Ой, под горку ноги ходки,
Едет миленький на лодке.
В лодке два веселышка,
Весела беседушка.
Отмерцали тихие приполярные зори, отава на лугах потемнела, пожухла от непогоды. Скучные сентябрьские дожди назойливо царапались в избяные окна, низкие бахромчатые лохмотья облаков, гонимые восточными ветрами, волочили из океана серые космы влаги и туманы,
Рыбаки еще не вернулись с промысла. Те, кто оставался в деревне, сидели по избам, вязали сети из суровья, мастерили на поветях да в сараях к зимнему лову рюжи.
Родион и Федька готовились к поездке на Канин. Изба Мальгиных, заваленная обручами и сетной делью, смахивала на мастерскую.
Тишка в конце августа уехал в Архангельск. Он поступил в мореходное училище. Мать управлялась по хозяйству: готовила пойло скотине, возилась с горячей запаркой. Родион сидел на низенькой табуретке и, разложив на лавке перед окном все необходимое для работы, деревянной иглой вязал из пряжи крылья – длинные сетные полотна для рюжи, которыми рыба в воде направлялась в горловину снасти.
Волосы у него, чтобы не свисали на глаза, подобраны в сетку из шелковых крученых ниток, связанную Густей. В окошко бьется ветер, тянет свои заунывные песни. Плохо вмазанное стекло в раме позвякивает. Зябко дрожит на ветру еще не сброшенной потемневшей листвой корявая, приземистая – не выше изгороди – черемушка: вверх почти не растет, стелется, греется возле земли.
В избу вошел Федька Кукшин, сел на лавку, вынул из кармана тоненькую книжечку в серой невзрачной обложке.
– Вот тут про навагу описывают, – сказал он. – В правлении взял книжку. Почитаем? Надо знать, что будем ловить.
– Ну читай, – согласился Родион.
Федька придвинулся ближе к окну, раскрыл книжку и начал читать:
– Навага принадлежит к семейству тресковых рыб, куда относятся также треска, пикша, сайда и ряд других. По своему внешнему виду она имеет сходство с треской, отличаясь от последней в первую очередь своими меньшими размерами.
Родион покачал головой.
– И на треску похожа, и размеры меньше… Да это ясно и без книжки!
– Слушай дале, – Федька продолжал читать: – Не менее сложны взаимоотношения наваги с рыбой сайкой. Крупная навага охотно питается сайкой и поедает ее в немалых количествах.
– Что верно, то верно. Навага сайку ест. Но и сайка, в свою очередь, охотится за мелкой навагой. Обычно эти рыбы избегают друг друга. В этом, значит, и есть сложность взаимоотношений?
Родион положил иглу на лавку, зевнул, стал ходить по избе, расправляя спину, затекшую от долгого сиденья.
– Ты, видно, не в настроении? – промолвил Федька, пряча книжку в карман. – Уж не поссорился ли с Густей?
– Не-е, – протянул Родион. – Чего нам делить? Я о другом думаю… Тишка вот учится, а я на всю зиму на Канин пойду.
– Можешь не ходить. Валяй в Москву, в университет! Ломоносов, бывало, пешком ушел.
– С четырьмя-то классами? Какой, к лешему, университет!
– Да, брат Родя… У тебя теперь дорога одна: Густя тебя захомутает. Тишка вернется капитаном либо штурманом – к нему в команду пойдешь матросом. Ты скажи, когда свататься будешь?
Родион опять сел за вязанье.
– А ты что, сватом хочешь быть?
– Сватом не умею. Дружкой – могу.
– Дорофей не пришел с промысла. А нам скоро отправляться на Чижу, – уклончиво заметил Родион.
– Незавидная твоя судьба, – вздохнул Федька, и не понять было – сочувствует он Родиону или шутит. – А все-таки жениться-то хочется? Скажи по правде.
– Оставим эти пустые разговоры. Тут дело серьезное.
– Конечно, серьезное, – тотчас подхватил Федька. – Недаром говорится: Что весел? – Да женюсь. – Что голову повесил? – Да женился…
– Вон в ту мережку, что в углу лежит, надо поставить еще два обруча. Вицы под лавкой, – перевел на другое разговор Родион.
Федька озорновато блеснул глазами и, наклонившись, стал длинной рукой шарить под лавкой.
Семга, пройдя Зимнезолотицкий берег, вышла в горло Белого моря. До Унды оставалось около десяти часов ходу при спокойной волне. Порыбачили хорошо, направлялись домой.
В кубрике для команды рыбаки собрались обедать. С камбуза принесли большой бачок с наваристой ухой, широкий противень с горой нажаренных звенышков камбалы и морского окуня.
Рыба уже изрядно приелась команде: больше месяца питались дарами моря. И Дорофей принес из своих запасов к общему столу несколько кругов копченой колбасы, закупленной в поселке рыбокомбината. Рыбаки оживились. Гришка Хват, сдирая огромной рукой тоненькую кожуру с колбасного куска, похвалил капитана:
– Запаслив ты, Дорофей Никитич! А я дак то, что в рыбкоопе купил, давно уж съел. Одни обновы несъедобные жене да дочке оставил. Может, и по чарочке нальешь перед домом-то?
Григорий знал, что у Дорофея в заветном месте хранится жестяной бидончик со спиртом, взятым еще из Унды на тот случай, если кто-нибудь простудится или невзначай в шторм побывает за бортом.
Но Дорофей был тверд и стоек, как чугунный кнехт.
– Морской устав бражничать не велит. Не помните, что там сказано? Так напомню: Пьянство дом опустошит, промысел обгложет, семью по миру пустит, в долгах утопит. Пьянство у доброго мастера хитрость отымет, красоту ума закоптит. А что скажешь – пьянство ум веселит, то коли бы так, кнут веселит худую кобылу. Так что ешьте колбасу, а выпить нет. За борт вылил.
Рыбаки засмеялись. Хват взял из горки ломоть хлеба.
– Стоек, стоек, Дорофей Никитич. Морской-то устав есть, дак ведь он уж, поди, устарел? Ноне по новому уставу живем – рыболовецкой артели!
– Устав у помора единый, вечный и нерушимый, – отозвался Дорофей… – Я приметил: ветер что-то на восток забирает. Не дай бог штормяга к ночи навалится! Надо, чтобы головы были свежие, а руки послушные!
…Дорофей тревожился не напрасно. К вечеру стала разыгрываться непогодь. В горле Белого моря и так не бывало спокойно: тут всегда толкутся суматошные волны. Лохматые, сердито кипящие, они кидаются на каждое проходящее судно порой с самых неожиданных сторон. А тут к вечеру стал крепчать, свирепея, северовосточный ветер. Он затянул небо мглой, приволок низкие тучи с дождем. Бот стало трепать ненастьем, как бумажный кораблик под проливнем. Верхушка мачты с клотиком чертила в небе дуги. Сигнальный огонь, словно живой светляк, испуганно метался во все стороны.
Рыбаки, надев штормовки, придерживаясь за туго натянутые леера, проверяли, все ли надежно закреплено и ладно ли задраены люки. Дорофей у штурвала, напряженно вглядываясь в сумеречные волны, пытался найти линию горизонта. Но в небе не было ни единого просвета.
Дорофей позвал Григория Хвата:
– Проверь карбас на буксире. Не оборвало бы трос!
Пройдя в корму, Григорий высмотрел внизу за бурлящей кипенью волн карбас-неводник. Он был почти весь залит водой. Хват наклонился, пощупал толстый пеньковый канат у самого гакаборта [26]26
Гакаборт – обрез кормы.
[Закрыть]. Ничего не перетрется, – решил он и хотел уже повернуть обратно. Но тут судно резко накренилось, и Григория окатило водой, как из ушата. Волна накрыла его, захлестнула лицо, захватила дыхание, леер выскользнул из рук. Хват ударился о фальшборт и в ту же секунду провалился в бездну. В последний момент случайно вцепился в буксирный канат за кормой и, собрав силы, отфыркиваясь, подтянулся.
Григорий оказался за бортом у обреза кормы. В голове мелькнуло: Не угодить бы под винт! Обрубит ноги. Вися на канате, который то натягивался, то ослабевал, он подобрал ноги в тяжелых бахилах к животу.
Эк не повезло! На палубе никого нет, никто не видит моей беды… Хват попробовал, перебирая руками по тросу, схватиться за борт, но не дотянулся. Одежда намокла, тяжелые бахилы были полны воды. Долго на канате не провисеть. Григорий крикнул:
– Э-э-эй! Мужики-и-и!
Бот рывками пробирался вперед, корпус под ударами волн переваливался с боку на бок, как воз с сеном на ухабах. Григория снова накрыло водой. Слабея, он закричал во всю мочь.
Звякнула рында. По палубе загрохотали каблуки. За борт спустили веревочную лестницу.
Выбравшись на палубу, Григорий в обнимку с Анисимом дошел до кубрика и там, немного отдышавшись, переоделся во все сухое. Анисим принес дорофеевский бачок со спиртом, налил в стакан и подал пострадавшему.
– Вот теперь пей. Недаром просил-то!
Рыбаки негромко, так, чтобы не обидеть Григория, засмеялись.
Затем его положили на койку, накрыли одеялами.
В остальном ночь прошла благополучно, если не считать того, что рыбаки почти не спали, опасаясь, как бы не отказал двигатель. Родионов провел всю ночь в машинном отсеке, помогая механику нести вахту.
Иероним Пастухов и Никифор Рындин дружили с детства. А затем вместе плавали на Мурман и в Норвегию, ходили на зимно с ромшей [27]27
3имно с ромшей – промысел тюленей со льдин винтовками в зимнее время.
[Закрыть]и семгу ловили поплавями в реках Мезенской губы. Оба вырастили сыновей, выпестовали внуков.
В молодости это были ядреные, ловкие поморские мужи, а к старости их, понятно, начали одолевать всяческие немощи, что сблизило их еще больше. Дня не мог прожить Иероним, чтобы не повидать Никифора, и тот тоже тосковал, если не слышал близ себя тихого, дребезжащего баска старого друга. Деревенская осенняя скукота тянула их друг к другу, словно магнит.
– Чтой-то ноги тоснут [28]28
Тоснуть – ныть, болеть.
[Закрыть]в коленях. Ой, как тоснут! Будто кто жилы вытягиват, – жаловался Иероним. – И шерстяны чулки не помогают. Опять к ночи сиверик налетит воровским подлетом! Теперича не только дождика, а и снега уже пора ждать…
– И не говори, Ронюшка! – отвечал Никифор. – У меня всю ночь крестец ломило, абы кто бревном стукнул. До утра мешочек с горячим песком с Фоминского наволока держал на пояснице. Теперь малость отпустило.
– А у меня болит. Ходить могу только с батогом.
В пастуховской избенке было тепло. Иероним и Никифор сидели на лавке в красном углу. Старательно выскобленный и вымытый стол блестел, словно в праздник. Супруга у Пастухова хоть и сварлива, однако чистоплотна. Жены приятелей сидели за прялками, расписанными красными мезенскими конями да рогатыми олешками, дергали из пучков овечью шерсть на пряжу для чулок и исподок [29]29
Исподки – варежки.
[Закрыть]. Веретенца тихонько жужжали.
– Знаешь что, Никеша, – сказал Пастухов. – Выйдем-ко на улицу, подышим ветерком. В избе воздух шибко спертый.
– Чего ж, подышать можно… Дождя вроде нету, – отозвался Рындин, поглядев в окно. – Пойдем.
– Потепляя оболокемся. – Иероним, кряхтя, стал вылезать из-за стола. Никифор – за ним.
Жены, как по команде, перестали прясть. Веретенца застыли в сухоньких руках.
– Эт-то куды собрались, доброхоты? – властно спросила старуха Рындина.
– Известно куды, – скороговоркой подхватила старуха Пастухова. – У них одна дорога – в рыбкооп!
– Постыдились бы, матушки, – с обидой ответил Иероним. – В карманах ни полушки. Какой там рыбкооп? Вот дали бы на четвертинку – расцеловал бы!
– И верно, бабоньки, выдайте хоть под вексель по рублику. Надоумили! Я уж, грешный, забыл, когда последний раз чарку держал, – сказал Никифор.
– Вот вам. Шиш! Подите так. Проветритесь маленько.
Веретенца зажужжали снова, но уже громче и раздражительней, чем прежде, словно им передалось беспокойство хозяек.
Приятели обиженно повздыхали, потоптались, надели полушубки и ушанки и степенно пошли к двери.
– Ладно уж, обойдемся без выпивки, – успокоил Иероним старух.
Но те, как только мужья вышли, прильнули к окошку, чтобы уследить, в какую сторону они двинутся: если налево – то к магазину, если направо – то просто так, на прогулку. Одно утешало поморских женок: деревня почти пуста, рыбаки не вернулись с промыслов, стало быть, старикам занять не у кого, и никто задаром чарку не поднесет.
Но как знать! Хитры бестии! Захотят – найдут денег и в прошлогоднем сугробе. И старухи метали тревожные взгляды за окно. Успокоились лишь тогда, когда потертые полушубки проплыли мимо окна направо.
Миновав пастуховскую избу и отойдя от нее на почтительное расстояние, приятели остановились у изгороди и дружно принялись шарить в карманах. Но нашли только жалкие медяки.
И тут провидение ниспослало им благо в образе председателя Тихона Панькина. Тот шел от конторы домой обедать. Поравнявшись со стариками, спросил:
– Куда путь держите, ветераны?
– А прогуляться вышли, – ответил Пастухов.
– Сухо, дождика нет, – дедко Рындин глянул в небо, потом в серые веселые глаза Панькина. – Какие новости, Тихон Сафоныч? – деловито осведомился он. – Скоро ли рыбаки домой придут?
– Семгу ждем завтра. Сейнер пришел к причалу в Мурманске. Есть радиограмма.
– Так-так. Значит, Дорофеюшко уж на подходе! Каково он порыбачил?
– Очень удачно. В Кандалакшской губе взял много селедки. План дали с перевыполнением.
– Слава богу! А, Тихон Сафоныч, – обратился Рындин к Панькину просительно, но с достоинством, – нельзя ли у тебя испросить аванец в счет моей работенки? В понедельник приволоку две рюжи на склад. Дела осталось – пустяк.
– Что ж, можно. Зайди после обеда в контору. Бухгалтер выпишет, кассир выдаст.
– Да мне бы самую малость… хоть бы рубля два. Может, без выписки, сейчас позволите? На предмет…
Рындин не договорил. Панькин достал из кармана и подал ему трешницу.
– Вот, пожалуйста. На какой предмет – можете не объяснять. Дело мужицкое, понимаю. Только вы соизмеряйте свои силы, не шибко увлекайтесь, а то от женок достанется! Горячие они у вас…
– Спасибо! Все будет в лучшем виде. А деньги эти пусть запишут на мой счет, – повеселел Рынцин. – Обедать пошли? Приятного вам аппетиту.
Старики переглянулись и резво зашагали проулком на задворки, а там, минуя пастуховские окошки, поспешили к магазину.
Панькин, продолжая путь, только ухмылялся, удивляясь резвости старых приятелей.
Купив в магазине рыбкоопа четвертинку – не для пьянства, а для поднятия духа и против болезней, друзья распили ее в доме рядом с магазином и в благодушном настроении двинулись опять на зады, чтобы, пройдя там, обмануть бдительных жен.
В холодной голубизне неба плыли рыхлые серые облака. Ветер освежал лица. Иероним в приливе хорошего настроения запел:
Вечо-о-ор я в ожиданье мило-о-ой
Стоял у сретенска моста-а-а…
Никифор вежливо и мягко увещевал:
– Не пой, Ронюшка, не надоть! До бабьих ушей дойдет – будет нам выволочка.
– Ладно, не буду. Ты понимаешь, Никеша, севодни вроде бы праздник. Ей-богу. Только не могу вспомнить, какой… – он остановился, оперся на посошок и стал глядеть в холодное, высвистанное ветром небо.
– Какой же праздник?
– А! – воскликнул Рындин. – Да ить севодни по-старому первое сентября! А первого, известно, какой праздник: Семенов день! День Семена Летопроводца!
– Верно! Золота голова! А я дак не мог вспомнить.
Друзья в еще более приподнятом настроении продолжили путь к пастуховской избенке. Выйдя на то место, где повстречали Панькина, старики степенно пошли посередке улицы. Их обогнала Фекла, возвращавшаяся из магазина. Иероним окликнул:
– Феклуша, здравствуй-ко! Куды торопишься-то? Погоди-ко…
Фекла остановилась, обернулась.
– Здрасте, – холодно, но довольно учтиво отозвалась она. – В лавку бегала. Домой иду.
– Чего купила-то? – поравнявшись с ней, Иероним вежливо взял ее за локоток.
С другой стороны к девушке, как старый, трепанный штормами карбас, подвалил Никифор.
– Флакон духов купила. Дешевеньких… – ответила Фекла, стараясь высвободить руки.
– Ухажеры-ти не покупают духов-то? – спросил Иероним. – Самой приходится? Погоди, Феклуша, не торопись. Дай-ко мы тя проводим. Уж разреши нам проводить. С тобой весело идти: сам вроде моложе делаешься.
Фекла кинула с высоты своего роста взгляд на одного, на другого, хотела было отделаться от стариков, но раздумала. Лицо ее озарилось озорной улыбкой.
– Миленькие вы мои! Ухажерчики! – Она дала приятелям возможность взять ее под руки. – Вам вместе-то сколько годиков будет?
Она пошла медленно, плавно, чуть покачиваясь, приноравливаясь к шагам стариков.
– Дак ить, Феклуша, дело-то не в годах! Дело-то в сердечном расположении! Мы к тебе всей душой! Одна ты у нас в Унде красавица! – льстил Иероним.
– Одна! Это уж так. Боле такой баской нету, – подтвердил Никифор и даже махнул рукой. – Нету!
– Ну, спасибо на добром слове. Да вот замуж-то никто не берет! Посватались бы хоть вы, что ли?
Иероним переглянулся с товарищем, вздохнул. Вздохнул и Никифор. Но тотчас отозвался:
– Когда сватов-то засылать? Я бы всей душой рад.
– А супругу куда денете?
– Дык супругу-то можно и побоку!
– Ох, глядите, ухват о бока обломает!
– Дак ить нас никто не слышит, – озираясь, сказал Иероним.
– А вы не ответили на мой вопросик-то.
– Насчет годиков-то? Уж так и быть откроем этот секрет. Откроем, Никифор?
– Да уж открывай. Куда денешься-то!
– Вместе нам скоро будет полтораста годков. Но ты на лета не смотри! Мы еще мужи ядреные. В силе…
– Вижу, вижу, – рассмеялась Фекла, чувствуя, что мужи чуть ли не виснут у нее на руках. – Ну, ладно. Вот я и дома. Благодарствую, что проводили.
– А в гости не пригласишь? Пригласила бы… – неуверенно промолвил Никифор.
– В другой раз. Будьте здоровы!
Фекла быстро нырнула в проулок, направляясь к крыльцу.
Приятели постояли посреди улицы, потом взялись за руки и повернули обратно.
– Роскошна девка! – сказал Иероним. – Эх, скинуть бы этак годиков сорок…
– Да хоть бы тридцать, и то ладно, – тихо сказал Никифор.
– Нда-а-а! А как ни бодрись, мы, брат, свое теперь уж отжили.
– Да-а-а!
Оставшуюся до дома дорогу приятели прошли молча.






