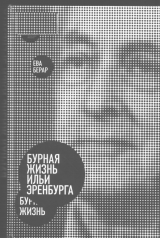
Текст книги "Бурная жизнь Ильи Эренбурга"
Автор книги: Ева Берар
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 26 страниц)
Советская миссия в отеле «Гэйлорд»
В Мадриде – городе, окруженном героическим ореолом, стойко противостоявшем атакам франкистов (благодаря, прежде всего, интербригадам и советским танкам), – тон задавали «мексиканцы» – так, строго соблюдая конспирацию, называли здесь советников из Москвы. Когда 6 ноября 1936 Кабальеро принимает решение об эвакуации республиканского правительства из Мадрида на юг, в Валенсию, местная власть оказывается в руках коммунистов и «мексиканцев», которые назначают командующим силами обороны генерала Миаху. Душой этого мини-переворота был «Мигель Мартинес» – Михаил Кольцов [351]351
См.: Thomas H.The Spanish Civil War. P. 477, 533.7
[Закрыть]. Двадцать первого декабря Сталин направляет письмо Ларго Кабальеро, советуя избегать революционных крайностей – экспроприации земель и капитала, разрыва с либеральными республиканцами. А «Правда» предостерегает: «Что касается Каталонии, уничтожение троцкистов и анархистов уже началось и будет продолжаться так же решительно, как и в СССР» [352]352
Правда. 15 декабря.
[Закрыть]. Вдруг оказывается, что Эренбургу, другу анархистов, больше нечего делать на Арагонском фронте. Он бросает свой агитгрузовик и отправляется в Мадрид, где и заканчивается его политическая карьера на испанской войне.
По некоторым свидетельствам, за это время Эренбург возглавлял всю республиканскую прессу; сам он ни слова не скажет на эту тему в своих воспоминаниях [353]353
Soter M.A., Schneider L.M.El Congreso internacional de escritores antifascistas 1937. Barcelona, 1978. Vol. 1. P. 95.
[Закрыть]. Однако такое предположение хорошо объясняет его свободу передвижения по испанским фронтам: после Арагона он едет в Гвадалахару, Теруэль, Пособланко, Хаэн. В Валенсии он встречается с Андре Мальро, руководившим эскадрильей добровольцев, которую, тем не менее сочли недостаточно «надежной» и не включили в состав интербригад. Эренбург вместе с Хемингуэем и Йорисом Ивенсом работает над фильмом «Земля Испании» – его планировалось показывать в разных странах в ходе кампании по сбору средств в поддержку республиканцев.
Несмотря на всю его активность и страстную преданность Испании, далеко не все симпатизируют Эренбургу. Его портрет, нарисованный Хемингуэем в романе «По ком звонит колокол», мало привлекателен: «Человек среднего роста, у которого было серое обрюзгшее лицо, мешки под глазами и отвислая нижняя губа, а голос такой, как будто он хронически страдал несварением желудка». Хемингуэй заставляет его изъясняться ходульными выспренними фразами: «Сама Долорес сообщила ту новость. <…> Звук ее голоса убеждал в истине того, о чем она говорила. Я напишу об этом в статье для „Известий“. Для меня это была одна из величайших минут этой войны, минута, когда я слушал вдохновенный голос, в котором, казалось, сострадание и глубокая правда сливаются воедино. Она вся светится правдой и добротой, как подлинная народная святая. Недаром ее зовут la Passionaria». Эту патетику саркастически прерывает его соотечественник Карков: «Запишите это <…> и не тратьте на меня целые абзацы. Идите сейчас же и пишите» [354]354
Хемингуэй Э.По ком звонит колокол. М.: Правда, 1988. С. 357–358.
[Закрыть]. Прототипом Каркова являлся Михаил Кольцов, который, не в пример Эренбургу, сумел завоевать всеобщую симпатию: герой романа Хемингуэя Роберт Джордан вспоминает о Каркове в самые тяжелые моменты. Кольцов, разумеется, не был ангелом во плоти: советник Сталина, несгибаемый коммунист, умелый и циничный манипулятор, он выполнял в Испании важнейшую секретную миссию и был фигурой даже более важной, чем официальный посол СССР. Его имя, а точнее, псевдоним Мигель Мартинес, ассоциировался с рядом зловещих акций (например, массовыми казнями политических заключенных в Мадриде зимой 1937 года). Вместе с тем цельность его натуры, чувство ответственности и юмор располагали к нему многих. Не был исключением и Эренбург, охотно признававший превосходство своего коллеги: «Ко мне он относился дружески, но слегка презрительно, любил с глазу на глаз поговорить по душам, пооткровенничать, но, когда шла речь о порядке дня двух конгрессов, не приглашал меня на совещания. Однажды он мне признался: „Вы редчайшая разновидность нашей фауны – нестреляный воробей“» [355]355
Эренбург И.ЛГЖ. Кн. 4. С. 510.
[Закрыть]. «Нестреляный воробей», сорвавшаяся с крючка рыба, человек, которого ни разу не задел меч пролетарской Фемиды, – Эренбург действительно был таким. Кольцов знал, о чем говорил.
Советская миссия расположилась в «Гэйлорде» – одном из самых элегантных отелей Мадрида. Изолированная от населения города, отрезанная от войны миссия жила своей особой жизнью. Здесь ели икру и осетрину, пили шампанское, причем все чаще и чаще, ибо члены миссии все чаще отзывались в Москву, и каждый их отъезд «обмывался». Среди прочих уехали военные советники Горев и Львович, корреспондент ТАСС Мирова. Густав Реглер, немецкий политкомиссар интербригад, был приглашен на один из таких банкетов: «Я был поражен атмосферой, царившей в этом зале: ни следа той подозрительности, что витала в московском воздухе; фашистские бомбы заставили позабыть о выстрелах в затылок и арестах ГПУ. Здесь обо всем говорили свободно, здесь революция порождала дух доверия» [356]356
Regler G.La Glaive et le Fourreau. Paris: Pion, 1960. P. 326.
[Закрыть]. Каков же был его ужас, когда из уст Кольцова он узнал, что инженер, которого провожали с такой теплотой, был арестован сразу по возвращении. «Эта наша общая участь, – добавил советский журналист и, видя озадаченность своего иностранного друга, пояснил: – Я знаю, европейцу нелегко привыкнуть к азиатским нравам».
Конгресс писателей в защиту культуры
6 мая 1937 года в Барселоне вспыхивает братоубийственная бойня среди республиканцев: анархисты и «поумовцы» сражаются против отрядов каталонского Генералитета и коммунистов ПСУК. Эренбург в это время находится на южном фронте, и репортажи в «Известия» посылает Антонов-Овсеенко. Некогда приверженец Троцкого, он теперь яростно клеймит «троцкистских предателей», «троцкистских фашистов», «пятую колонну». 14 июня, по распоряжению НКВД вопреки протестам испанских коммунистов, он отдает приказ окружить штаб «поумовцев» в Барселоне, арестовать руководителей, среди которых Андрес Нин (впоследствии он будет убит). В своих репортажах «Известиям» Эренбург обойдет молчанием все эти события.
Его внимание в тот момент полностью поглощено приближающимся Вторым международным конгрессом писателей в защиту культуры. Конгресс должен открыться в Валенсии в июле. Для советских властей Конгресс пришелся как раз кстати: арест Андреса Нина в Испании и обнаруженные «доказательства» его сговора с фалангистами, процесс против верхушки Красной Армии в СССР, обвиненной в измене в пользу немецкого фашизма, – все это подкрепляло новые призывы к бдительности и борьбе против «врагов народа». Единственная помеха – Андре Жид: большинство писателей, присутствовавших на Втором конгрессе, еще помнят, что он был одной из главных фигур парижского антифашистского конгресса 1935 года. Затем этот горячий сторонник СССР отправился в «страну будущего», где его постигло жестокое разочарование: он вернулся, потрясенный царящей там фальшью и несправедливостью. Его «Возвращение из СССР» поступает на книжные прилавки как раз к моменту открытия конгресса; даже Мальро в личной беседе замечает, что лучше было бы опубликовать эту книгу уже после победы над франкистами. Кольцов, возглавлявший советскую делегацию, высказывается совершенно однозначно: «Я перелистал – это уже открытая троцкистская брань и клевета» [357]357
Кольцов M.E.Испанский дневник // Кольцов M.E. Избранные произведения: В 3 т. М.: Художественная литература, 1957. Т. 3. С. 499.
[Закрыть]. Что же касается Эренбурга, его отнюдь не приводит в восторг состав советской делегации: Всеволод Вишневский, претендовавший на московскую квартиру Эренбургов, Александр Фадеев, в свое время состоявший в руководстве РАППа, Алексей Толстой, минувшим летом со страстью неофита принимавший участие в разгроме «троцкистско-зиновьевского блока»; именно он задает тон выступлений советской делегации: «Троцкизм должен быть уничтожен во всем мире. Он должен быть разоблачен и вырван с корнем, как в СССР. <…> Троцкий и его агенты твердо намерены наполнить свои ветхие мехи, прогнившие от ложно понятого интернационализма, горячей кровью женщин и детей, разрубленных на куски фашистами» [358]358
Soler М.А., Schneider L.M.El Congreso internacional… Vol. 3. P. 29.
[Закрыть]. В репортаже для «Известий» Эренбург так резюмирует эту речь: «Алексей Толстой с негодованием разоблачил троцкистов, пособников фашизма». Но одурачить редакцию ему не удалось: «Известия» напечатают полный текст выступления Толстого. Тогда Эренбург вообще перестал комментировать выступления советских делегатов. Спустя три дня после открытия конгресс переехал в Мадрид. Эренбург должен был выступать вместе с Кольцовым, Мальро, Пассионарией и Рафаэлем Альберти, но из-за недостатка времени ему пришлось произнести свою речь 10 июля, когда конгресс снова вернулся в Валенсию. В отличие от прочих советских делегатов, он ни словом не упоминает ни Андре Жида, ни «врагов народа», ни «генералов-предателей», предпочитая говорить о другом – о необходимости возобновить наступление на фронтах, что мало согласовывалось с занятой в то время СССР позицией. Братья-писатели из СССР дружно выразили ему свое недоверие. Он, со своей стороны, стыдится их штампованной пропагандистской риторики, ему отвратительны их развязные попойки, прогулки в роллс-ройсах – словом, поведение захватчиков в завоеванной колонии: так, во время наступления на Брунете Всеволоду Вишневскому, автору сценария «Мы из Кронштадта», и Владимиру Ставскому, новому председателю Союза писателей, захотелось понюхать пороха, и они пожелали, чтобы Эренбург устроил им «экскурсию» на фронт… По окончании конгресса Эренбург пишет Кольцову: «Я не был согласен с поведением советской делегации в Испании, которая, на мой взгляд, должна была, с одной стороны, воздержаться от всего, что ставило ее в привилегированное положение по отношению к другим делегатам, с другой – показать иностранцам пример товарищеской спайки, а не деления советских делегатов по рангам. Я не мог высказать своего мнения, так как меня никто не спрашивал и мои функции сводились к функциям переводчика» [359]359
И. Эренбург – M. Кольцову. 16 июля 1937 г. // Письма. Т. 2. С. 250.
[Закрыть]. Все указывает на то, что ему отвели подчиненную роль, как будто он принадлежал к местному обслуживающему персоналу. Человеку, который провел немало времени среди сражающихся, такое унижение было трудно перенести, и Эренбург отказывается от предложенного ему ответственного поста в Ассоциации писателей: «При таком отношении ко мне – справедливом или несправедливом – я считаю излишним выборы меня в секретари Ассоциации, тем паче, что отношение ко мне советской делегации ставит меня в затруднительное положение пред нашими иностранными товарищами» [360]360
Там же.
[Закрыть].
После конгресса, уставший, разочарованный, он вместе с Любой укрывается в Пиренеях. Там он пишет «Что человеку надо» – неудачную повесть об испанской войне, отдыхает, приходит в себя и… очень скоро начинает тосковать по Испании. Через несколько недель он снова там.
Террор в Москве
Друзья и знакомые рассеялись кто куда: Хемингуэй, Ивенс и Мальро уже давно покинули страну; Антонов-Овсеенко, Розенберг и его преемник Л.Я. Гайкис отозваны в Москву, Кольцов отбыл в СССР 6 ноября. Из тех, кто был отозван раньше, ни один не вернулся. Оставался только тихий и скромный Овадий Савич, старый знакомый Эренбурга по Парижу. Преданный друг и настоящий эрудит, Савич приехал в Испанию, поддавшись уговорам Эренбурга, и под его руководством осваивал ремесло журналиста. Однако работы становилось все меньше: неудачи республиканцев побудили Сталина свернуть пропаганду. Иностранная колония в Мадриде обескуражена и разочарована, но ведь не спасения от тоски, не развлечений искал Эренбург в Москве, куда он решает вскоре отправиться в декабре 1937 года. В своих воспоминаниях он сообщает, что устал быть военным корреспондентом, «захотелось передохнуть, отвлечься», встретить Новый год в Москве, так что полученное им приглашение в Тбилиси на пленум писателей было как нельзя кстати. Этому объяснению верится с трудом. Неужели он действительно считал себя неприкосновенным под защитой «самой демократической в мире» конституции, принятой в 1936 году, автором которой был его друг Бухарин? Скорее наоборот: в январе 1937-го, на процессе «правотроцкистского блока», Радек, Пятаков и Сокольников дали обвинительные показания против Бухарина и Рыкова. На пленуме ЦК, собравшемся через месяц, Сталин требует их ареста как «наемных убийц, вредителей и диверсантов, находившихся на службе фашизма» [361]361
Коэн С.Бухарин. С. 438.
[Закрыть]. Принимая приглашение из Тбилиси, Эренбург прекрасно понимал, что отказаться от него – значит обнаружить свой страх и тем самым подтвердить подозрения. Он решил обмануть судьбу. Показания Исаака Бабеля на допросах в НКВД подтверждают, что Эренбург понимал, что он рискует: «…Эренбург приезжал в Москву в 1936 и 1938 годах. В связи с прошедшим процессом над зиновьевцами и троцкистами выражал опасения за судьбу своего главного покровителя – Бухарина <…> В последний его приезд разговор наш вращался вокруг двух тем: аресты, непрекращающаяся волна которых, по мнению Эренбурга, обязывала всех советских граждан прекратить какие бы то ни было сношения с иностранцами, и гражданская война в Испании» [362]362
Шенталинский В.«Прошу меня выслушать…» // Огонек. 1989. Сентябрь № 39.
[Закрыть].
Разумеется, в Испании Эренбург читал советские газеты, слушал рассказы вновь прибывших о борьбе с «врагами народа». Ему было известно, что происходит в СССР, и все-таки, едва ступив на московскую землю, он понял, до какой степени его представления были далеки от реальности. «Мы приехали в Москву 24 декабря. На вокзале нас встретила Ирина. Мы радовались, смеялись; в такси доехали до Лаврушинского переулка. В лифте я увидел написанное рукой объявление, которое меня поразило: „Запрещается спускать книги в уборную. Виновные будут установлены и наказаны“. „Что это значит?“ – спросил я Ирину. Покосившись на лифтершу, Ирина ответила: „Я так рада, что вы приехали!..“ Когда мы вошли в квартиру, Ирина наклонилась ко мне и тихо спросила: „Ты что, ничего не знаешь?“» [363]363
Эренбург И.ЛГЖ. Кн. 4. С. 558.
[Закрыть]. На каждом шагу его поражают подобные иероглифы, которыми отмечена вся советская действительность; он быстро выучился понимать их скрытый смысл. Он пытается навести справки о тех, кто был с ним в Испании, – в большинстве случаев безуспешно. Он надеется на радостную встречу со старыми друзьями в Тбилиси – «средневековыми принцами» Табидзе и Яшвили, которые привечали его во время его поездки в голодном 1920 году. Но встреча не состоялась: 22 августа Паоло Яшвили застрелился из ружья, не желая подписывать донос на Тициана Табидзе, но тот все равно был арестован. Он хочет повидаться с Ниной, женой Тициана, но оказывается, та передала, «чтобы мы ее не искали, – не хочет нас подвести» [364]364
Там же. С 559.
[Закрыть]. На ней уже стояло клеймо жены «врага народа».
Эренбург почти физически ощущает страх, которым пропитана вся советская жизнь. Наконец неясная угроза материализуется: он узнает, что вопрос о его возвращении в Испанию подлежит «рассмотрению» ответственных товарищей, что такие решения быстро не принимаются и ему надлежит набраться терпения и пробыть в Москве еще пару месяцев. Растерянный, озадаченный, он пытается понять, что скрывается за этим пугающим вердиктом. Он внимательно прислушивается к рассказам Исаака Бабеля, который давно знаком с женой Ежова, порой ходит к ней в гости, наблюдая вблизи зловещего сталинского наркома, оператора «великой чистки»: «Однажды, покачав головой, он сказал мне: „Дело не в Ежове. Ежов старается, но дело не в нем…“» [365]365
Там же. С. 565.
[Закрыть]У Эренбурга вскоре тоже появится возможность увидеть своими глазами и с близкого расстояния, как работает адская машина: в марте 1938-го он получит пропуск в зал суда, где будет проходить процесс над так называемым «правотроцкистским блоком»; главным обвиняемым на этом процессе будет не кто другой, как его старый друг, сверстник и покровитель Николай Бухарин.
Процесс над Бухариным
Пожалуй, немного найдется в жизни Эренбурга таких страшных дней. Нам не дано узнать, как он их пережил. В Октябрьском зале на скамье подсудимых он увидел восемнадцать человек, измученных, со следами пыток, с блуждающим взглядом, с запавшими глазами. Он оказался лицом к лицу со своей юностью, со своим прошлым – и с тем, что угрожало стать его близким будущим. Он слушает обвинительное заключение, чудовищное по своей абсурдности: Бухарин обвиняется в заговоре с целью убийства Сталина и его соратников, а также в замысле убийства Ленина в 1918 году, в открытии границ Советского Союза для Германии и Японии и продаже советской территории другим державам, в подмешивании битого стекла в детское питание, в попытках восстановления капитализма и в экономическом саботаже. Чтение обвинительного акта прокурор Вышинский заключил, называя Бухарина «проклятой помесью лисы и свиньи». Американский журналист, присутствовавший на процессе, сообщал: «Один Бухарин, который, произнося свое последние слова, очевидно, знал, что обречен на смерть, проявил мужество, гордость и почти что дерзость. Из пятидесяти четырех человек, представших перед судом на трех последних открытых процессах по делу о государственной измене, он первым не унизил себя в последние часы процесса» [366]366
Цит. по: Коэн С.Бухарин. С. 449 (сообщение Denny Н. в «The New York Times», 13 March 1938).
[Закрыть].
Наверное, у Эренбурга поведение Бухарина вызывало не меньшее уважение. Но главным его чувством, скорее всего, был страх. Какую судьбу готовит ему Великий Организатор публичных казней? При выходе из зала суда главный редактор «Известий» предлагает ему написать отчет о процессе. Эренбург отказывается. В таких обстоятельствах молчание само по себе есть акт мужества. Но с этого момента молчание станет его позицией, от которой он не откажется до конца жизни. До оттепели он никогда не скажет публично ни одного слова, чтобы почтить память друга, ни разу не упомянет о нем. Когда после смерти Сталина он попытается вставить имя Бухарина в свои воспоминания, то наткнется на твердое «нет» Хрущева.
Чтобы представить себе масштаб опустошения, произведенного великой чисткой среди его коллег по работе, ему достаточно было пройтись по редакционным кабинетам «Известий». Вскоре беда обрушилась на другого товарища Эренбурга по двадцатым годам – Всеволода Мейерхольда, корифея театрального авангарда. 8 января 1938 года театр Мейерхольда был закрыт как «чуждый советскому искусству», а за великим режиссером установили слежку.
Во время предыдущего приезда Эренбурга в Москву, в 1936 году, Мейерхольд репетировал пушкинского «Бориса Годунова». Драма Пушкина привлекла режиссера своей трагической развязкой: как известно, в свое время царская цензура заставила поэта изменить финал, в котором народ восторженно приветствует царя-самозванца; он ограничился знаменитой ремаркой «Народ безмолвствует». Спустя сто лет Мейерхольд вновь обращается к теме безмолвия потрясенного народа: «Когда он (Пушкин) по требованию цензуры заменил возглас народа „Да здравствует царь Димитрий Иванович!“ знаменитой ремаркой „Народ безмолвствует“, то он перехитрил цензуру, так как не уменьшил, а усилил тему народа. Ведь от народа, кричащего здравицу то за одного, то за другого царя, до народа, молчанием выражающего свое мнение, дистанция огромная. Кроме того, Пушкин задал русскому театру будущего интереснейшую задачу необычайной трудности: как сыграть молчание, чтобы оно вышло громче крика?» [367]367
Гладков A.Мейерхольд говорит. Записи 1934–1939 гг. // Гладков А. Театр. Воспоминания и размышления. М., 1980. С. 302.
[Закрыть]Сталину пришелся не по душе красноречивый эпизод с «безмолвствующим народом», репетиции «Бориса Годунова» были прерваны.
Гораздо позже, в шестидесятые годы, Эренбург в своих мемуарах напишет о «заговоре молчания», который, словно круговая порука, связывал людей в те жуткие годы. Он признает, что никогда не верил абсурдным обвинениям против людей, чья невиновность была очевидна, – и однако молчал вместе с миллионами соотечественников, понимая бессмысленность любого протеста, заведомо бессильного остановить ход чудовищной машины репрессий. Погубить и себя самого – вот единственное, чего можно было добиться протестами. Но каждая эпоха выдвигает своих прокуроров – и в шестидесятые Эренбурга станет изобличать Л. Ильичев, член хрущевского ЦК: он поставит писателю в упрек, что тот изобрел «теорию молчания», чтобы снять с себя лично всякую ответственность. Однако Эренбург будет настаивать на том, что молчание было в 1930-х годах единственной формой протеста, на который решались далеко не все. Ибо и молчать в те годы было опасно. Но существовал ли на самом деле «заговор молчания»? Безмолвствовал ли народ? «Простой народ» – рядовые москвичи, рабочие, служащие – разражался криками и «бурными аплодисментами, переходящими в овацию», при каждом упоминании имени Сталина. А «творческие работники»? О том, что происходило с творческой интеллигенцией, вспоминает Надежда Мандельштам: «Растерянные люди метались, и каждый говорил, что ему взбредало на ум, и спасался, как может. Испытание страхом – одна из самых страшных пыток, и после нее человек уже оправиться не может» [368]368
Мандельштам Н.Вторая книга. Воспоминания. С. 358.
[Закрыть]. И даже те, кого машина уже раздавила, не умели хранить молчание: они давали показания, обвиняли, доказывали свою невиновность. В папке писем, полученных писателем во время публикаций «Люди, годы, жизнь», находится и такое письмо: «Напрасно Вы дописываете свою книгу, Илья Григорьевич. Поставить бы Вам точку на середине 30-х гг.? а остальное все равно допишут другие. <…> В историю вошли писатели Золя и Толстой, которые не могли молчать, и писатель Эренбург, который молчал. Писал романы, анализировал, обобщал, выступал на радио и в прессе, на родине и за границей, говорил громко, на весь мир – и молчал» [369]369
Част. Собр. И.И. Эренбург.
[Закрыть].
Вернемся в 1938 год. Похоже, Эренбургу была предоставлена отсрочка: он отказался писать репортаж о процессе над Бухариным, он не желал ни произносить здравицы в честь Ежова, ни проводить параллели между «пятой колонной» в Испании и теми, кого в СССР называли «врагами народа». Ему удалось отстоять самое главное. Но все-таки он по-прежнему оставался журналистом и продолжал выполнять свою работу «агитатора-пропагандиста»: за те пять месяцев, что он пробыл в Москве, у него было пятьдесят выступлений о войне в Испании на разных заседаниях и встречах. Так что его «обет молчания» нарушался не раз.
Дамоклов меч временно завис над его головою, но в московской атмосфере ему угрожала другая смерть – от удушья. Оказывается, к вечному страху, постоянному ожиданию ареста, исчезновению знакомых, к непрекращающимся процессам привыкнуть невозможно. Эренбург был едва ли не единственным человеком в Москве, который еще помнил, что такое свобода, еще был в состоянии помышлять о бегстве. Он мог питать какие-то надежды, взвешивать шансы и уповать на тот вес, который он приобрел за границей, в Париже. Несмотря на возражения родных, в состоянии почти отчаянья, он вновь решает идти ва-банк и пишет письмо Сталину, чтобы сказать, что его место там, где проходит фронт борьбы с фашизмом. Две недели спустя Эренбурга вызывает главный редактор «Известий» и возвращает его к реальности: вопреки высказанному пожеланию ответственные товарищи полагают, что его место здесь, в Советском Союзе. Вердикт сопровождается заботливостью, которая в тридцатые годы понималась однозначно – ее объект никогда не покинет пределы родины: «У вас, наверное, в Париже вещи, книги? Мы можем устроить, чтобы ваша жена съездила и все привезла…» [370]370
Эренбург И.ЛГЖ. Кн. 4. С. 566.
[Закрыть]
Что делать рядовому москвичу, которому только что недвусмысленно объявили подобный приговор? Некоторые поспешно покидали дом и родных, в надежде затеряться среди необъятных просторов страны, уповая на хаос, царивший в сверхраздутом бюрократическом механизме. Другие собирали чемодан с двумя сменами теплого белья. Были и такие, кто предпочитал томительному ожиданию самоубийство. Эренбург же настолько ощущал свою особость, что осмелился бросить вызов неизбежному: как выразилась его дочь Ирина, он решил «Сталину жаловаться на Сталина» [371]371
Там же.
[Закрыть]. В безумной надежде добиться пересмотра принятого решения, Эренбург отправляет вождю второе письмо. Ожидание ответа превращается в пытку: он не встает с постели, отказывается принимать пищу. И вдруг наступает драматическая развязка: в последних числах апреля ему сообщают, что их с Любой паспорта готовы, он должен прийти их забрать. Они могут уехать, они свободны!
Через несколько дней Эренбурги из Ленинграда отправляются в Хельсинки. Ожили воспоминания о том, как они покидали Россию в марте 1921-го. Однако тогда Илья уезжал из страны, мечтая поведать всему миру о русской революции, ее ужасах и завоеваниях. Теперь он едет, замкнув рот на замок: он знает, что ни слова не скажет о том, что увидел. Там, в Москве, остались друзья, дочь Ирина, ее муж. Каждое прощальное слово звучало, как погребальный звон. Он попрощался с Осипом Мандельштамом, которого вскоре арестуют прямо в больнице трое чекистов. Он сказал «прощай» этому странному братству, которое возникло в московских полушепотах, – братству гонимых, обреченных, исковерканных людей, сознающих свое падение и свое безумие. Не лучше ли ему было среди них? Здесь, по другую сторону границы, его ждет одиночество, груз зловещей тайны и бомбы, градом сыплющиеся на Барселону. Возвращаясь в Испанию, Эренбург знал, что дело республиканцев проиграно: натиск фашистов сдерживать дольше невозможно. Но, по крайней мере, ему удалось сохранить жизнь, надолго ли? Так или иначе, в первых числах июня 1938 года Эренбург снова в Барселоне.








