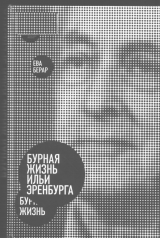
Текст книги "Бурная жизнь Ильи Эренбурга"
Автор книги: Ева Берар
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 26 страниц)
Ева Берар
Бурная жизнь Ильи Эренбурга
ПИСАТЕЛЬ ТРЕХ КУЛЬТУР
Быть сыном своего века совсем не обязательно значит быть «героем своего времени». Героем XIX века, несомненно, стал Наполеон Бонапарт, а детьми столетия были Жюльен Сорель, Раскольников, Растиньяк. Сын века вовсе не должен поражать нас своими достоинствами или какой-то особой красотой, но он вбирает в себя характерные черты своей эпохи.
Илья Эренбург был посредственным писателем и слабым поэтом, его многотомную автобиографическую книгу, работе над которой он посвятил последние годы жизни, никак нельзя назвать образцом жанра: она носит следы спешки и не дает чувства удовлетворения читателю, который находит там больше вопросов, чем ответов, множество слишком эскизных портретов, легковесных суждений, необоснованных, сомнительных выводов, заставляющих порой усомниться в честности и добросовестности автора. И тем не менее именно Эренбург – настоящий сын своего века. И это ярко демонстрирует его биография, написанная Евой Берар.
Начало его жизни ознаменовалось участием в революционной борьбе, сотрудничеством с марксистскими журналами. Эренбург распространял большевистские листовки, провел шесть месяцев в тюремном заключении, словом, прошел путь, типичный для молодого социалиста. Затем он вынужден был уехать в эмиграцию, где поначалу тоже больше занимался политикой, нежели культурой. Он попадает в Париж накануне Первой мировой войны, в разгар «прекрасной эпохи», в Париж, который стал столицей авангарда. Жизнь в Париже приобщала политических эмигрантов к утонченному эстетизму, к религиозным поискам, к современному искусству. Это была поразительная смесь декадентских умонастроений, мистических озарений, общественных устремлений и эротических соблазнов, как духовных, так и плотских. Эренбург жадно впитывает этот сладкий яд, он дышит этим отравленным воздухом; и вот русский еврей превращается в европейца. С этого момента жизнь его проходит в бесконечных метаниях между Москвой, Парижем, Берлином, Мадридом. Но везде его преследует ностальгия: в России он скучает по Франции, во Франции тоскует по России. Всюду на него смотрят как на чужака: еврей для русских и французов, католик для евреев, еретик для христиан, коммунист для европейских буржуа, «буржуй» для победившего в России пролетариата, для партийных функционеров и для собратьев по цеху – советских писателей. Конечно, в Советском Союзе ему многие завидовали: он был едва ли не единственным из советских граждан, кто мог безнаказанно пересекать границу и проводить не меньше времени на Западе, чем в СССР.
Бурная деятельность была для Эренбурга средством преодолеть неотступную внутреннюю раздвоенность, перестать ощущать себя человеком без корней. Его жизнь – это постоянное возвращение: из Франции – обратно в Россию, из России – обратно в Европу, из эмиграции – снова на родину, которую он любил несмотря ни на что и которая, тем не менее, была для него хуже, чем чужбина: ведь она так и не признала родным сыном этого еврейского интеллектуала с его скептическим складом ума, всегда предпочитавшего слову «да» слово «нет». Это было «нет» еврея, отрицавшего принадлежность к иудейскому народу; «нет» мистика, тяготевшего к материализму; русского, не имевшего ничего общего с патриархальной крестьянской Россией; «нет» человека, превыше всего ценящего свободу и все-таки оставшегося вместе с соотечественниками нести иго деспотического сталинского режима. Он не решился на эмиграцию, как многие его современники, как, например, нелюбимый им Иван Бунин или обожаемый им Евгений Замятин: Россия влекла его к себе неодолимо, без русского языка он не смог бы творить, он потерял бы душу.
Вместе с тем он не мог оторваться и от Франции, ставшей для него второй родиной. Франция была для него колыбелью европейской культуры, перед которой он преклонялся, столицей мировой живописи, оплотом свободы. Одной из последних работ Эренбурга стали очерки, посвященные его любимым писателям – русским и французским. Первый очерк посвящен Чехову: Эренбург понимал его глубоко, русским умом, и в то же время находил этого писателя «странным», потому что мог взглянуть на персонажей чеховских рассказов и пьес «со стороны», увидеть их глазами иностранца. Другой его герой – Стендаль – был соотечественником Эренбурга-парижанина, но этот галломан смотрел на Фабрицио дель Донго и Жюльена Сореля с позиции русского писателя Льва Толстого. Была еще и третья точка зрения, связанная с «еврейским духом» – с еврейским юмором, иронией, скептической мудростью; носителями этого духа были и предки, и современники Эренбурга, вечно преследуемые, везде и повсюду гонимые, тщедушные, хрупкие и вместе с тем удивительно стойкие. И если Эренбург ненавидел узколобый религиозный фанатизм хасидов, то именно потому, что ощущал себя евреем.
Случай Эренбурга и впрямь из ряда вон выходящий: его принадлежность к двум совершенно разным, во многом противоположным культурам, его способность видеть одну культуру сквозь призму другой поистине граничит с чудом. Но именно здесь и проявляется черта, присущая XX столетию, в котором ссылка и эмиграция стали распространенным явлением. Эта черта иногда определяет личность, как, например, у Набокова, Вальтера Беньямина или у Башевиса Зингера, а иногда остается чем-то внешним, поверхностным, как в случае Анри Труайя или Стефана Цвейга, но так или иначе, это – отличительная черта нашей эпохи. Илья Эренбург с его тройственной культурной принадлежностью – еврей в России, русский во Франции, француз в России – поистине сын своего века.
Важнейшие события эпохи проходят через его жизнь: он был не только свидетелем, но в большинстве случаев и участником исторических катаклизмов: Первой мировой войны, трех русских революций – 1905 года, Февральской и Октябрьской 1917 года. Он видел белый и красный террор, нэп. В двадцатые годы он жил в России и в Германии, где на его глазах уничтожалось культурное разнообразие и насаждался тенденциозный «реализм» – «социалистический» и «национал-социалистический». Он наблюдал подъем фашизма, нацизма и формирование коммунистического режима, создание сталинской тоталитарной бюрократической империи. Затем – тридцатые годы: сталинский «большой террор» и «коричневая чума». Гражданская война в Испании, падение Парижа, мюнхенский сговор и подписание советско-германского пакта о ненападении и, наконец, Великая Отечественная, ужасы геноцида. Новые надежды, которые пробудила эта кровавая и величественная битва, и крушение этих надежд, утрата последних иллюзий. После войны была «ждановщина», апогей советского шовинизма, когда погромные антисемитские настроения превращаются в борьбу с «безродным космополитизмом» и «дело врачей». Атака на еврейскую культуру – убийство Михоэлса, уничтожение еврейских писателей и всей литературы на идише. Смерть Сталина и последовавшая за ней хрущевская оттепель принесли возрождение надежд и новые разочарования – отставку Хрущева и ужесточение режима.
Илья Эренбург неизменно оказывался в центре событий. Опираясь на его романы, стихи, статьи, очерки, письма, можно в подробностях воссоздать историю этих пяти десятилетий. Он писал романы один за другим, но они не были макулатурой и однодневками, они – свидетельство проницательного наблюдателя, неутомимого путешественника, настоящего бойца, страстно отстаивавшего свою правду. Это был репортер, создавший летопись своего века, видевший все своими глазами и написавший обо всем, что видел. Как свидетель и очевидец Илья Эренбург не имеет себе равных.
Его «Исповедь сына века» не всегда до конца искренна. Порой Эренбургу приходилось кривить душой. Он воспевал индустриализацию в романе «День второй», в других романах тридцатых годов утверждал преимущества социалистического образа жизни; будучи на Западе, в своих выступлениях отрицал существование «еврейского вопроса» в СССР, воспевал Отца народов, клеймил американский империализм. Но он был убежден, что такая ложь – во имя социального прогресса, мира во всем мире, сплочения всех передовых людей, торжества интернационализма и защиты культуры.
Эренбург был вынужден постоянно лавировать, пытаться отстоять главное, пожертвовав второстепенным, – и в этом он тоже был сыном своего века, страшной эпохи вынужденных сделок и компромиссов, эпохи мюнхенского сговора и Ялтинской конференции. Появление типа «человека лавирующего» стало прямым следствием красной и коричневой диктатур. Когда речь идет о положении интеллигенции в гитлеровской Германии или сталинском Советском Союзе, обычно говорят о страхе – но это заблуждение. Страх всегда связан с неопределенностью: если я скажу правду, то меня могут арестовать… пытать… наконец, расстрелять. Тоталитаризм же уничтожает всякую неопределенность. И Эренбург это прекрасно знал: его бы уничтожили, если бы он сказал хоть слово правды, например, о товарище своей юности Николае Бухарине. В таких условиях говорить правду было равносильно самоубийству: доказательство тому – участь, постигшая Мандельштама. Эренбург хотел выжить – чтобы видеть и осознавать происходящее вокруг, участвовать в жизни и по мере сил защищать тех, кому он в состоянии помочь. Он молчал о преступлениях, которые мог бы разоблачить, – в этом его позже неоднократно упрекали. Он не отрицал того, что молчал в те страшные годы, и считал это наименьшим из своих грехов. Эренбург воспевал верность и считал ее высшим достоинством человека. «Верность – зрелой души добродетель», – писал он в своих стихах 1939 года. Восхищение способностью человека хранить верность вопреки бесчеловечной реальности – еще одна черта эпохи: чем острее честный человек ощущает свое бессилие изменить окружающую действительность, тем более непроницаемой становится стена, ограждающая его внутренний мир от мира внешнего.
Эренбург всегда оставался оптимистом. Он надеялся, что его вера в грядущие перемены в России не является утопией. Он хотел дожить до этого дня, увидеть их торжество. Самоубийство может быть возвышенным и впечатляющим, но в конечном итоге оно всего лишь театральный жест, который только на руку режиму. Эмиграция – еще один вид капитуляции, отказ выполнять свой гражданский долг. Единственный путь представлялся ему плодотворным – трудиться на ниве культуры, повышать культурный уровень в России; культура была единственной дорогой к свободе.
Автобиографическая книга Эренбурга «Люди, годы, жизнь» стала реализацией этой идеи; создавая свои мемуары, Эренбург стремился придать смысл своей собственной жизни. Он рассказывает молодым соотечественникам, какой была культура в годы его юности – великая культура, раздавленная тиранией и уже позабытая к тому времени, когда Эренбург начал писать свои воспоминания. Он рассказывает о поэтах, художниках, режиссерах, ученых, писателях. Он упоминает убитых, уехавших в эмиграцию, оболганных и высланных из страны; впервые за несколько десятилетий вновь звучат запрещенные имена. Эренбург сражается с цензорами, бдительными реакторами, здравомыслящими и осторожными доброжелателями и почти всегда выходит победителем. Он выполняет свой долг – пробуждает национальную память.
Однако есть еще и зарубежная культура. Сталинизм отрезал Россию от Запада: долгое время все деятели культуры, которые не были коммунистами, огульно шельмовались как прислужники империалистической реакции. Эренбург рассказывает о своей дружбе с европейскими писателями, художниками, политикам не из тщеславия, не для того, чтобы показать, что он был принят в интеллектуальную элиту века, но чтобы познакомить соотечественников с теми знаменитыми людьми, чьи имена запрещалось произносить. Его воспоминания представляют художников разных национальностей: русских, французов, итальянцев, немцев. Все они внесли вклад в мировую культуру.
Всемирную известность принесла Эренбургу его публицистика военных лет. Его статьи появлялись почти ежедневно и были, как говорили тогда, «действеннее автомата». Их успех у тогдашних читателей не знал себе равных: их читала вся армия, они заучивались наизусть всеми – от маршала до пехотинца, они доходили и до штабов, и до самых дальних окопов. Эренбург не пытался упрощать, когда писал для солдат. Он утверждал: наша армия, сражаясь с фашистами на Волге, защищает не только сокровища Эрмитажа или Третьяковской галереи, но и Сикстинскую капеллу Ватикана, и Прадо, и Пинакотеку. И хотя он перечислял музеи «буржуазной» Европы, его понимали рабочие и колхозники, надевшие солдатские шинели. Он обладал почти волшебным даром подбирать такие слова, которые находили дорогу к сердцу и обеспечивали ему любовь бесчисленных читателей. Эренбург-журналист в своей военной публицистике предстает как самый яркий выразитель эпохи; риторический дар он унаследовал от великих французов – таких мастеров политической речи, как Демулен и Мирабо, Виктор Гюго и Жан Жорес. Ораторское искусство француза сочеталось у Эренбурга с патриотизмом русского и темпераментом библейских пророков.
Ефим Эткинд1991
Благодарности
Выражаю благодарность всем, кто в восьмидесятые годы брежневского СССР помогал мне в работе над этой книгой советами и материалами, в первую очередь покойной Ирине Ильиничне Эренбург.
В архиве дочери писателя находились материалы из личного архива Б.Я. Фрезинского и других исследователей жизни и творчества И.Г. Эренбурга, которыми я воспользовалась. Б.Я. Фрезинский и И.В. Щипачева любезно предоставили ряд ценных фотографий для настоящего издания.
Ева Берар
Глава I
ДЕТСКИЕ ГОДЫ: ЕВРЕЙСКИЙ МАЛЬЧИК В ЦАРСКОЙ РОССИИ
Киев: ребенок с двумя именами
Как крошка мускуса наполнит весь дом, так малейшее влияние юдаизма переполняет целую жизнь. О, какой это сильный запах!
Осип Мандельштам. «Шум времени»
Чудный и удивительный город Киев, что привольно раскинулся на холмах вдоль широкого русла Днепра! Над городом возвышается величественный собор – София Киевская, построенная по образцу Константинопольской Софии и не уступающая ей по красоте. Город утопает в садах, здесь и там виднеются барочные церковки, на просторных шумных улицах звучит разноязычная речь – русская, польская, украинская, еврейская. Киев, «матерь русских городов», вовсе не похож на торжественные и важные столичные города– Санкт-Петербург или Москву. Тем не менее именно здесь в X веке произошло крещение Руси и началось собирание русских земель. С начала XIX века «третья столица» империи превратилась в столицу российского еврейства: в Киевском университете процент студентов-евреев был самым высоким во всей России. Колыбель русского православия стала колыбелью еврейской интеллектуальной элиты.
Чета Эренбургов жила в центре Киева, что свидетельствовало о привилегированном положении семьи, ее состоятельности и ассимиляции. Киев со времен Екатерины Великой являлся крупнейшим городом в черте оседлости: доступ в другие большие города был евреям в принципе воспрещен. За исключением особых случаев, таких как служба в армии или получение высшего образования, евреям, иноверцам и инородцам воспрещалось покидать черту оседлости и менять место жительства. В 1893-м евреев начинают гнать и из деревень; лишившись своего имущества, они устремились в малые городишки и на окраины городов. Еврейские кварталы и местечки стали синонимом скученности и нищеты. При этом наиболее состоятельным евреям, таким как промышленник Лев Бродский или Григорий Эренбург – служащий его завода, – уровень благосостояния позволял жить в комфортных условиях в центре Киева. В отличие от обитателей местечек и городских окраин, этот слой еврейского населения ассимилировался быстрее, хотя и здесь далеко не все отказывались от еврейского жизненного уклада или получали светское образование.
Биография Ильи Эренбурга началась с недоразумения – первого, но далеко не последнего в его жизни. Сын Герша Эренбурга родился в Киеве 14 января 1891 года, и его назвали не Илья, а Элий: согласно законам Российской империи евреям запрещалось носить русские имена. Ильей Эренбург стал лишь позже.
Он был желанным ребенком: в семье уже было трое дочерей, и родители очень хотели мальчика. Говоря о себе, Эренбург любил вспоминать русскую пословицу: «Я родился в рубашке», – и добавлял: «А другой у меня и не было» [1]1
Бахрах А.Павел Савлович. Русская мысль. 1980. 5 июня.
[Закрыть]. Он был младшим ребенком в семье, его обожала мать и боготворили сестры, так что детство его было безоблачным, быть может, даже и слишком. Он рос в окружении четырех женщин и вынужден был чуть ли не с рождения бороться за свою индивидуальность. Эренбург, которого впоследствии друзья называли «стопроцентным умницей», быстро понял всю выгоду своего положения и постоянно отравлял семейную жизнь своими капризами и озорством.
Элий Эренбург рос в покое и довольстве. Отец его также носил два имени: одно еврейское – Герш, второе, русское – Григорий. Григорий Григорьевич был колоритной фигурой. В юности он вызвал страшный гнев своего отца тем, что пошел учиться в русскую школу. Отец проклял Григория, среди «гоев» он оставался чужаком, но, несмотря на это, ему все же удалось вырваться из замкнутой еврейской среды. При этом Григорий Эренбург завещал собственному сыну никогда не отрекаться от своих корней: «Отец мой, будучи неверующим, порицал евреев, которые для облегчения своей участи принимали православие, и я с малых лет понял, что нельзя стыдиться своего происхождения» [2]2
Эренбург И.Люди. Годы. Жизнь*. Кн. 1 / Сост., подгот. текста Б. Сарнова и И. Эренбург. Вступ. ст. Л. Лазарева, коммент. Б. Фрезинского // Собр. соч.: В 8 т. М.: Художественная литература, 1990–2000**. Т. 6. С. 355.
* Далее – ЛГЖ. Книга 1 – том 6; книги 2–5 (главы 1—13); том 7; книги 5 (окончание) – 7; том 8.
** Далее это издание – Соч.
[Закрыть]. Дед Эренбурга был уважаемым членом киевской еврейской общины. В доме Эренбургов мебель была обтянута бархатом, мать Ильи, урожденная Анна Аренштейн, играла на фортепиано Чайковского. Эта робкая, хрупкая, слабая здоровьем женщина не возражала в открытую против ассимиляционистских устремлений мужа, но каким-то образом умудрялась сохранять в доме тот самый «мускус иудейства», воспетый Мандельштамом. В семье Эренбургов говорили только по-русски – Илья и его сестры не знали идиша; однако мать старалась почаще отправлять детей к своим родителям, где их учили чтить еврейские обычаи. «Она никогда не забывала ни о Судном Дне на небесах, ни о погромах на земле» [3]3
Там же. С. 352.
[Закрыть]. «Добрая, болезненная и суеверная» [4]4
Там же. С. 353.
[Закрыть], всегда в окружении бесчисленной родни, она почти не покидала своей комнаты и строго соблюдала бесчисленные предписания иудаизма. Она раздражала своего мужа, который предпочитал обществу супруги мужскую компанию и частенько покидал дом, чтобы провести вечер в кафе или в ресторане.
Так рос маленький Элий в буржуазной еврейской семье, в «третьей столице» Российской империи, с детства оказавшись на перепутье, на перекрестке культур: с одной стороны – прошлое еврейского народа, его национальные и религиозные традиции; с другой – современное русское общество, настоящая terra incognita, то ли земля обетованная, сулившая богатство и общественное признание, то ли земля изгнания, куда в наказание сослал свой избранный народ грозный библейский Бог.
Москва. Лев Толстой и рабочее движение
В 1896 году Григорий Григорьевич Эренбург получил место управляющего на Хамовническом пивоваренном заводе, и вся семья переехала на север, в Москву. Это был неслыханный подарок судьбы: прошло менее пяти лет с тех пор, как великий князь Сергей Александрович, генерал-губернатор Москвы, отдал приказание очистить город от евреев. Число выселенных тогда достигло десятков тысяч. Однако, как оказалось, переезд в Москву положил начало и новым трудностям, которые в конечном счете привели к разрушению семьи: материальные условия ухудшились, положение отца было ненадежным, его отлучки стали более частыми. Григорий Григорьевич дорожил московскими светскими знакомствами: он стал членом закрытого Охотничьего клуба, ездил туда играть в вист, завязал дружбу с журналистом В.А. Гиляровским, который вручил ему свою знаменитую книгу «Москва и москвичи» с дарственной надписью: «Дорогому Гри Гри на память о многом…» Пока отец находился в постоянной погоне за «многим», мать по-прежнему старалась, чтобы ее дети воспитывались в духе еврейской традиции. Каждую весну она отправляла Элия и девочек в Киев, к дедушке и бабушке. «Дед по матери был благочестивым стариком с окладистой серебряной бородой. В его доме строго соблюдались все религиозные правила» [5]5
Там же. С. 354.
[Закрыть]. Маленький Элий восставал против этих строгостей: «Дед был набожным евреем, он жил среди семисвечников, талесов, молитвенников. У него я все делал невпопад: писал в субботу, задувал не те свечи, снимал фуражку, когда надо было ее надеть» [6]6
Эренбург И.Книга для взрослых. Соч. Т. 3. С. 538.
[Закрыть]. Но при этом Элий подспудно усваивал ортодоксальные религиозные обычаи, уклад повседневной жизни, вкус к еврейскому юмору, рассказам и историям: «Я подражал: молился, раскачиваясь, вдыхал запах гвоздики, которым пах флакон с серебром» [7]7
Он же.Писатели о себе // Новая русская книга. Берлин, 1922. № 4.
[Закрыть].
Ребенок подрастал, но оставался все таким же капризным и непослушным: «Меня избаловали, и, кажется, только случайно я не стал малолетним преступником» [8]8
Эренбург И.ЛГЖ. Кн. 1. Соч. Т. 6. С. 354.
[Закрыть]. Вместе с тем Илья быстро осознал, что его привилегированное положение скоро кончится, если он станет пренебрегать учебой. В десять лет он должен был держать государственный экзамен: число евреев, которым разрешалось получать среднее образование, определялось в соответствии с «процентной нормой». Таким образом, Эренбург мог надеяться на поступление в гимназию только в том случае, если бы он получил отличный балл. Несмотря на то что через несколько дней после экзамена процентная норма была пересмотрена и снижена, Илья блестяще сдал экзамен и поступил в престижную московскую гимназию. Однокашники обзывали его «жидом пархатым», изводили разными обидными кличками и дразнилками. Так ли он представлял себе встречу с Москвой? «Слово „еврей“ я воспринимал по-особому: я принадлежу к тем, кого положено обижать; это казалось мне несправедливым и в то же время естественным» [9]9
Там же. С. 355.
[Закрыть]. Несмотря на буржуазную семью, частных учителей, поездки на воды в Эмс, в Германию, несмотря на ощущение собственной значимости, в нем неизбежно возникает обжигающее чувство смятения, страха, стыда и гнева, знакомое каждому еврею, заведомо обреченному на униженное положение в обществе. Вскоре к этим чувствам прибавятся еще гнев и жажда сопротивления. В 1903 году разнеслась ужасная весть о кишиневском погроме: во время главного иудейского праздника Песах при попустительстве полиции в гетто была учинена кровавая расправа. В первый раз Эренбург узнал о насилии, вызванном юдофобством: «Помню рассказы о кишиневском погроме, мне было двенадцать лет; я понимал, что произошло нечто ужасное, но я знал, что повинны в этом царь, губернатор, городовые…» [10]10
Там же.
[Закрыть]Дома родители бурно обсуждают произошедшее. Отец поручает Илье переписать текст Льва Толстого, который тайно ходил по Москве: знаменитый «еретик» (писатель не так давно был отлучен от церкви Священным Синодом) обвинял правительство, церковь и чиновников в том, что они портят русский народ, разлагают нравы. Илья был горд тем, что их знаменитый сосед (Эренбурги жили в Хамовниках, неподалеку от дома Толстого) оказался их союзником и единомышленником. Позже, в своих воспоминаниях «Люди, годы, жизнь» Эренбург, не без укора в адрес современников, напишет: «…антисемитизма в те времена интеллигенты стыдились, как дурной болезни» [11]11
Там же.
[Закрыть].
В отличие от Санкт-Петербурга – холодной мраморной столицы, где находились императорский двор и европейски образованная элита, в отличие от многонациональной мозаики Киева, купеческая Москва с ее деревянными церквями была городом патриархальным и истинно русским. Дом, где жили Эренбурги, и завод, на котором работал отец, находились возле Садового кольца, так что Илья ходил пешком в гимназию, расположенную напротив Храма Христа Спасителя. Пивоваренный завод стоял возле дома Льва Толстого: часто можно было видеть, как граф разъезжал верхом по окрестным улицам и переулкам. Когда Толстой приезжал из Ясной Поляны в Москву, у него бывали журфиксы, и можно было слышать, как у дверей его дома звучали громкие имена: здесь собирались сливки тогдашнего русского общества. Как-то раз Лев Толстой посетил Хамовнический пивоваренный завод граф полагал, что пиво может оказаться эффективным средством в борьбе с водкой и поможет справиться с пьянством, разлагающим народ. Московские рабочие в большинстве своем были из крестьян, приехавших в город на заработки, у многих в деревнях оставались семьи. Народную жизнь Илья наблюдал каждый день. Вокруг заводских построек, в убогих лачугах рабочих, в заводском дворе – всюду ему открывался жестокий неизведанный мир, в котором он прижился в качестве писца: «Я писал под диктовку рабочих письма в деревню, писал про харчи, про болезни, про свадьбы и похороны» [12]12
Там же. С. 359.
[Закрыть].
«Рабочий вопрос» был одним из самых злободневных. Студенты и гимназисты с горящими глазами обсуждали запрещенные сочинения Плеханова и Каутского. Пресловутый вопрос «Что делать?» был у всех на устах, однако отнюдь не все, как Ленин, вкладывали в него конкретное политическое содержание; чаще он звучал как голос юного поколения, размышляющего об ответственности и задачах русской интеллигенции.
Но был ли «рабочий вопрос» единственным обстоятельством, толкнувшим Эренбурга на путь, приведший его в 1906 году в большевистскую ячейку РСДРП – Росийской социал-демократической рабочей партии? В самом деле, ощущал ли себя этот мальчик, «лишь по случайности не ставший малолетним преступником», частью интеллигенции, мучившейся неизбывным чувством вины перед народом, стремившейся трудиться на благо простых тружеников? Обладал ли он характером профессионального революционера?








