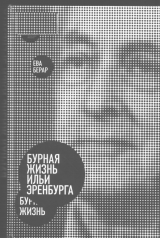
Текст книги "Бурная жизнь Ильи Эренбурга"
Автор книги: Ева Берар
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 26 страниц)
Романтическая ирония Лазика Ройтшванеца
И тут происходит нечто странное. Эренбург оставляет исторический жанр, забывает свои притязания на модернистскую прозу и начинает сочинять… еврейский роман. «В Париже я начал сатирический роман „Бурная жизнь Лазика Ройтшванеца“ и довел его до половины. Здесь надеюсь кончить. <…> Для чего окружал себя хасидами, талмудистами и пр. Это – современность глазами местечкового еврея. Метод осмеяния – чрезмерная логичность» [250]250
И. Эренбург – Е.Г. Полонской. 25 июля 1927 г. // Письма. Т. 1. С. 542.
[Закрыть], – пишет он Елизавете Полонской в июле 1927-го. Пять месяцев спустя роман был закончен. Лазик – уменьшительное от имени Лазарь; на вопрос, почему героя зовут именно так, автор отвечал каламбуром: «Я сказал себе: „лезь, Лазик“, – и я лезу» [251]251
И. Эренбург – Е.Г. Полонской. 24 сентября 1927 г. Там же.
[Закрыть]. Что же касается фамилии героя, читатели и без объяснений понимают, что речь идет о «красном хвостике».
И все-таки почему «Лазик»? Надо сказать, что свой замысел автор вынашивал в течение долгого времени. Достаточно прочесть его переписку с Лизой Полонской, чтобы понять, до какой степени Эренбург был заворожен «еврейской особостью», неподражаемым миром еврейских местечек уникальным опытом, языком, особой философией и стилем жизни людей, которые, оставаясь в России, сохраняют свою глубокую самобытность. Этого «еврейского духа» в Париже Эренбургу не хватает: здешняя русская колония, в отличие от берлинской, была слишком… русской. Во время своих поездок по СССР, в Москве, а особенно на Украине – в Харькове, Одессе, Киеве, он с радостью убедился, что еврейский дух здесь по-прежнему неистребим. Он упивается им, общаясь с Исааком Бабелем.
Мужской портной Лазик Ройтшванец был родом из Гомеля, белорусского города, где синагог было больше, чем православных церквей, раввинов, больше, чем попов, а евреев – больше, чем русских, белорусов и украинцев. Жил-поживал себе мирно Лазик, занимался своим благородным ремеслом и был безответно влюблен в красавицу Фенечку… «Вся бурная жизнь Лазика началась с неосторожного вздоха» [252]252
Эренбург И.Бурная жизнь Лазика Ройтшванеца. Соч. Т. 3. С. 7.
[Закрыть]. Дело в том, что он «жалобно, громко, с надрывом» вздохнул перед траурной афишей, сообщавшей о смерти «испытанного вождя гомельского пролетариата» [253]253
Там же. С. 12.
[Закрыть]. С этого рокового момента и началось столкновение Лазика с Историей. «Когда гуляет по улицам стопроцентная история, обыкновенному человеку не остается ничего другого, как только умереть с полным восторгом в глазах». Вооруженный «романтической иронией», Лазик умудряется до поры до времени лавировать среди многочисленных опасностей и ловушек, которые расставляют «бедному еврею» то ли злые люди, то ли слепая сила государственной власти. Судьба забрасывает Лазика в разные края, и всюду он приспосабливается, «держа нос по ветру»: в этом ему помогает мудрость предков, которую он вынес из родного Гомеля. Когда наконец он прибывает на историческую родину, в Палестину, у него только одно желание: возвратиться назад, домой, в СССР: «…там плохо и там трудно. Там нет никакой ровной температуры, а только смертельный сквозняк. Но там люди что-то ищут. Они, наверное, ошибаются. Может быть, они летят даже не вверх, а вниз, но они куда-то летят, а не только зевают на готовых подушках» [254]254
Там же. С. 205.
[Закрыть].
«Лазика» часто сопоставляют с «Похождениями бравого солдата Швейка», с рассказами Бабеля и, конечно же, с «Хулио Хуренито». Но прошло шесть лет, и безжалостная язвительность, с которой Учитель судил современный мир, его блестящие провокации сменились смиренной мудростью, всепрощающей добротой нищего еврея, героя хасидских рассказов и Агады. Четкая лаконичная речь Великого Провокатора уступает место безудержному потоку слов, сопровождаемых буйной жестикуляцией. Лазик говорит по-русски, но при этом он все время нарушает правила русского синтаксиса и сочетаемости слов: эта неправильность придает его речи неповторимую интонацию и наделяет слова неожиданным смыслом. Комический эффект усиливается благодаря «чрезмерной логичности», особенно когда Лазик вторгается в область советского «новояза». Вот как Лазик объясняется с представителем группы «Бди» («Бдисты» как две капли воды похожи на «напостовцев» 1927 года):
«– Имя? Год рождения? Состоите на учете? Хорошо. Теперь объясните мне, кто вы, собственно говоря, такой?
– Я? Надстройка.
– Как?
– Очень просто. Если вы база, то я надстройка. Я говорю с вами как закоренелый марксист» [255]255
Там же. С. 80.
[Закрыть].
Обладая даром имитатора, Эренбург великолепно воспроизводит язык и строй местечкового мышления, лично для него чуждые, но знакомые с раннего детства. Он погружается в этот мир, воссоздает его на страницах книги, ищет в нем убежища от той враждебности, которая окружает его во Франции – стране, которую привык считать своей. «Лазик Ройтшванец» – последняя книга, до «Оттепели» 1953 года, в которой доброта и милосердие оказываются главными ценностями; «отбросы Истории» еще не выброшены на свалку, и человеческая жизнь еще важна сама по себе: «Вы думаете, если убить человека и припечатать его вопиющей печатью, как будто это не живой труп, а только дважды два замечательного будущего, кровь перестанет быть кровью?» Эта книга – последняя дань непокорной юности, последнее слово писателя перед тем, как превратиться в «посланца Страны Советов», как он станет себя называть. Понимал ли это сам Эренбург?
Во всяком случае он твердо знает одно: чтобы сбылись честолюбивые планы, с которыми он приехал в Париж в 1921 году, чтобы его признали и в Париже, и в Москве, необходимо заручиться доверием советской столицы. Эренбург не был наивен: за плечами у него были три года, прожитые при большевиках, и долгая игра в прятки с цензурой. Он сознает, что прежде чем получить признание, ему придется представить весомые доказательства преданности новой власти: он должен будет осудить анархистский индивидуализм, высмеять мелкобуржуазную интеллигенцию, заклеймить гнилой Запад, и, разумеется, прежде всего, отчитаться о своем прошлом.
На дворе осень 1927 года. По иронии судьбы, интерес французов к советской литературе пробудился как раз в тот момент, когда она стала терять связь с жизнью. Среди иностранцев, посетивших в этом году страну Советов, был Вальтер Беньямин, который, возвратившись в Берлин из Москвы, напишет: «Независимый писатель практически исчез, так как интеллектуалы превращаются в правящий класс» [256]256
Benjamin W.Gesammelte Schriften. Suhrkamp Verlag, 1991. Bd. II. 2. P. 743–744.
[Закрыть]. Для немецкого писателя это – открытие; для Эренбурга это уже стало очевидностью. Возможно, он полагает, что начавшееся ужесточение литературной политики вызвано только фанатизмом его врагов, «пролетарских писателей» – рапповцев? Он с ними на ножах – в «Лазике Ройтшванеце» он их безжалостно высмеял (и это, скорее всего, определило судьбу книги, которая так и не была опубликована в СССР при жизни автора). Пока еще Эренбург убежден, что партийное руководство не поддерживает лозунги пролетарских писателей и что его друг Бухарин им прямо враждебен. Конечно, он в курсе того, что тираж журнала «Новый мир», где появилась «Повесть непогашенной луны» Бориса Пильняка, пущен под нож, поскольку писатель рискнул предположить, что Сталин уничтожает своих товарищей по партии. Но разве Пильняк не был неисправимым славянофилом? И главное – разве Сталин не остается единомышленником Бухарина? Он знает также, что Александр Воронский, главный редактор журнала «Красная новь», собравшего под свое крыло «попутчиков», вынужден уйти в отставку; однако этот инцидент вполне мог объясняться дружбой Воронского с Троцким. Тревожные признаки надвигающегося конца эпохи получали разумное объяснение и не слишком тревожили Эренбурга: все это «трудности роста». Ему казалось, что он хорошо понимает логику событий.
Еврей советского исповедания
Действительно, вскоре новый редактор «Красной нови» Федор Раскольников предлагает ему «социальный заказ»: речь идет о серии репортажей из Германии, Чехословакии и Польши. Весь 1927 год проходит у Эренбурга под лозунгом «Лезь, Илья, лезь!», и вот ему предоставляется уникальная возможность «пролезть» в ряды официально признанных советских писателей. Неужели в Москве вспомнили, что имеют дело с талантливым журналистом, автором «Лика войны»? Как бы там ни было, предложение это как нельзя более кстати: измученный долгим бездействием, Эренбург готов к новым приключениям: у него появился шанс стать советским Альбером Лондром и послужить правому делу. Альбер Лондр, французский журналист, один из первых иностранных корреспондентов как раз отправляется в такую же поездку – быть может, это совпадение было неслучайным. В своих репортажах Лондр будет писать об Ostjude – восточноевропейских евреях, «вечных жидах». Эренбург уезжает в командировку в ноябре; в его статьях речь тоже будет идти не только о «великой семье славянских народов», но и о еврейских общинах Центральной Европы. Действительно, совпадений немало. Но какая разница!
Поражает не только стремительность, с которой писатель откликается на полученный заказ. Поражают тон, манера. На рукописи «Лазика Ройтшванеца» еще не высохли чернила, а Эренбург уже отправился писать об «униженных и оскорбленных» евреях с издевкой, с насмешкой, с презрением. «Этот моралист был, как это часто бывает, аморален, – заметит об Эренбурге польский поэт Александр Ват. – Его мир был раздвоен: двойные чувства, двойные слова, двойная вера» [257]257
46 Wat A.Mon siècle, Entretiens avec Cz. Milosz. Paris: L’Age d’Homme, 1989.
[Закрыть].
Репортажи из Германии просто великолепны. Конечно, советская критика упрекнет автора в том, что он слишком мало внимания уделяет классовой борьбе, но легкий импрессионистский стиль, ирония, прекрасное знание темы, некое чувство превосходства, льстившее русскому читателю, сразу завоевали симпатию публики. Репортажи из Польши менее блестящи, но они также не проходят незамеченными: «Но вот, например, печатал я польские очерки. Их у нас всячески расхвалили, разумеется, не за литературные достоинства» [258]258
И. Эренбург – В.Г. Лидину. 5 января 1929 г. // Письма. Т. 1. С. 582.
[Закрыть]. В самом деле, «нелитературные», то есть пропагандистские достоинства его публицистики настолько бросались в глаза, что в ходе подготовки отдельного издания Эренбургу пришлось здорово почистить текст. Очерк «В Польше» вошел в книгу «Виза времени», которая была выпущена вначале в Берлине (1930), а затем в Москве (1931). Позже, уже после войны, когда готовилось к печати собрание сочинений Эренбурга, было решено не включать туда эти статьи.
Читая эти статьи сегодня, в первую очередь поражаешься тону, о котором Эренбург пишет о положении евреев в пограничных Советскому Союзу странах. Автор свято убежден, что он – мессия, призванный обратить их в советскую веру: «Положение евреев в Польше донельзя просто – это голодная смерть осажденных. Ждать помощи со стороны наивно. Только вылазка может спасти население зачумленной крепости. Но для вылазки нужна иная воля» [259]259
Эренбург И.В Польше. Соч. Т. 4. С. 148. (Впервые опубл. в: Красная новь. 1928. № 4.)
[Закрыть]. «Помощь со стороны», которую напрасно ожидают несчастные, – это сионистское движение. «Иная воля», которая является необходимым условием спасения, – это страстное стремление к образованию молодых евреев Варшавы. Им надо помочь вырваться из гетто. Но ни литература на идише, слишком молодая и скудная («Еврейская литература чрезвычайно молода. Молод язык – идиш» [260]260
Там же. С. 149.
[Закрыть]), ни тем более «локальная» польская литература с ее «узостью, ее подлинной местечковостью» [261]261
Там же.
[Закрыть]сделать это не в состоянии. Духовные запросы евреев, которые «доросли до действительного ощущения всечеловеческой культуры», может удовлетворить только русская литература: «Русская литература – это прежде всего литература общечеловеческая. <…> Мечтатели еврейских местечек находят в этой российской широте надежду и опору. Наша литература в библиотеках Белостока, Радома или варшавских Напевок – это клочок лазури арестанту» [262]262
Там же.
[Закрыть]. Необходимо вырвать еврейскую молодежь из гетто, открыть ей глаза на убожество жизни еврейской общины. Не зря в Москве выбрали для поездки в Польшу именно Эренбурга, автора стихотворения «Еврейскому народу». Ведь ему пришлось всего лишь позаимствовать некоторые идеи из собственного прошлого: разве он с детства не ненавидел дух еврейских гетто? Разве он не отвергал идею сионизма? Разве его Лазик не погиб, преследуемый богатыми палестинскими евреями? Разве его программная статья об «иудейском духе» не была обращена к европеизированным, ассимилированным евреям, которые раз и навсегда отказались от засаленных лапсердаков? Так что Эренбург, можно сказать, никого не предал и остался верен самому себе. Когда-то, в Париже и Берлине, он создал идеальный образ еврея «с элегическими глазами, классическими глазами иудея, съеденными трахомой и фантазией» [263]263
Эренбург И.Ложка дегтя. Т. 4. С. 552–553.
[Закрыть]; в Польше он обнаружил только трахому – и это вызывало у него отвращение. Он в недоумении и ужасе при виде этих «несгибаемых», обрекших себя на нищету и отверженность. Нет, он не с ними! Вместо «соли земли» перед ним грязные, прожорливые, тупые и жадные существа: «На лицах библейский экстаз. Куда они торопятся? В синагогу? Молиться? Бить себя в грудь? Нет, Лодзь не Стена Плача. Несутся они вот к этому окошку, где вывешены биржевые бюллетени. Глаза, привыкшие справа налево читать высокие слова о добре и пальмах, слева направо читают названия подлых и заманчивых бумаг». Эренбург, цивилизованный, ассимилированный еврей, испытывает жгучий стыд, он глубоко потрясен: в Польше «существуют сотни, якобы „тайных“, хедеров, где еврейские мальчики с утра до ночи изучают Талмуд, где они не изучают вовсе ни польского языка, ни арифметики, ни начальной географии. Я побывал в таких хедерах. Тесная темная комната. Вонь. Духота. Грязный, невежественный рэби (учитель). В его руке недвусмысленная линейка. Ею наводит он румянец на чересчур бледные лица мальчишек. <…> Ни один католический монастырь, где монахини щиплют девочек, не может потягаться с хедером. Хедеры следует показывать туристам наряду со средневековыми темницами или с „музеями пыток“. Приведите в хедер европейца, он негодующе воскликнет: „но ведь евреи самый отсталый народ!“» [264]264
Он же.В Польше//Красная новь. 1928. № 4. С. 172, 178. (Этот фрагмент отсутствует в перепечатках очерка. – Е.Б.)
[Закрыть]При подготовке репортажей к отдельному изданию этот пассаж будет исключен из книги.
Прибыв в Варшаву, Эренбург представился евреем «советского исповедания» [265]265
Там же. См. также: Erenburg w Warszawie // Wiadomosci Literackie. 1927. № 51. 18 grudnia.
[Закрыть]. В советском паспорте национальная принадлежность стала указываться только с 1936 года, так что формулировка, изобретенная Эренбургом, предвосхищала это нововведение. Конечно, уже не первый год евреи «советского исповедания» клеймят своих братьев по крови, особенно если те упорно продолжают посещать синагогу, советоваться с раввином и изучать Талмуд. Эренбург даже написал на эту тему в 1928 году рассказ «Старый скорняк»: герой рассказа, молодой еврей, комсомолец, объясняет старому дядюшке, почему его «бога» (слово это на революционный манер Эренбург первый раз печатает с маленькой буквы) нужно выбросить на свалку истории. Но дело в том, что сам Эренбург отнюдь не был молодым рьяным коммунистом. С момента, когда он принял решение «пролезть» в советские писатели, и до официального признания его в качестве такового он будет постоянно смывать с себя клеймо своего прошлого. В книгах и статьях, которые в эти годы с поразительной скоростью сыплются из-под его пера, он малюет черной краской прежде всего тех, кого любил, – евреев и Европу. Только Россия остается для него чем-то заветным и неприкосновенным, его святая святых.
Честно говоря, если бы автор этих сочинений не носил фамилию «Эренбург», их смело можно было бы отнести к разряду антисемитской литературы. [266]266
Приблизительно в то же время, в 1930 году, появляется в Берлине книга Theodor Lessing «Der jüdlische Selbsthass». Лессинг станет одной из первых жертв Гестапо.
[Закрыть]«Шоковая терапия» мстит за себя. По возвращении из Германии и Польши Эренбург пишет роман «Единый фронт» (1929) – книгу, преисполненную отвращения к самому себе. Два главных героя романа – капиталисты, которые борются за мировую монополию спичек: швед Свен Ольсон и богатый еврей «Вильям, он же Вульф Вайнштейн», сын старьевщика из Лодзи, ставший тузом американской военной промышленности. Собратья-капиталисты считают Вайнштейна агентом «мирового еврейского заговора», вероломным космополитом, предателем. Он предал свой класс, свой народ и открыто презирает «жидов». Но отвращение, которое внушает читателю Вайнштейн, объясняется не только его социальным положением. Омерзительно все его существо. Он – ходячее воплощение антисемитских стереотипов: рыжий еврей Вайнштейн хитер, и умен, и безумно самоуверен. Он беспрерывно в движении, «его еврейские икры» заставляют его «много ходить, даже бегать» [267]267
Эренбург И.Ложка дегтя. Сон. Т. 4. С. 553.
[Закрыть]. Он обожает деньги и власть, но ни то ни другое не спасает от смертельной скуки, охватывающей его, как только он останавливается: «Вайнштейн зевает; он зевает громко, надрывно, так зевают только старые еврейки в Витебске, с тоской, право же, тысячелетий, отчаянно, до тошноты, до спазм, до смерти». Именно смерть пожирает его душу: «…воспоминание о рыжем человеке заставляло Карнаухова (советский служащий. – Е.Б.) болезненно морщиться. Он как бы чувствовал во рту привкус гнили; безукоризненно чистая комната лондонского отеля наполнялась сладковатым запахом падали; воротничок жал шею». От Вайнштейна исходит «еврейский запах» – стереотип стереотипов самого дремучего антисемитизма, – который символизирует разложение его души, прогнившей от алчности, подлости и… сексуальной извращенности. Вот что говорит он, обращаясь к проститутке: «Как же, женат. Супруга. Благородного происхождения. Каждый день подмывается и Рембрандты. Потом – сыночек. Лео. Сопля. <…> Ненавижу этот семейный уют! Ты вот такая харя, что с души воротит, а я с тобой спать пойду. Инспирация! Нельзя же употреблять жену, как лакрицу, на сон грядущий, чтобы сюда не подступало! <…> Я, может быть, тебя сегодня высеку. Ты не кривись: набавлю сто крон. Какой-нибудь швед скажет: „садист“. Наука! А я, кстати, попросту Вульф. Можем и поменяться: ты меня поколотишь. Я ведь это только со скуки. Не то сдохну. Я когда зеваю, самому страшно: лопнет…» [268]268
Он же.Единый фронт. Берлин, 1930. С. 280, 250, 236–237.
[Закрыть]
Его развращенность поистине не знает границ. В конце романа Вайнштейн в обществе двух девиц, раздевшись догола и став на четвереньки, истошно лает под ударами ремня [269]269
Там же. С. 294.
[Закрыть].
Заметим, что, по иронии судьбы, Вульфа Вайнштейна постигла та же участь, что и Лазика Ройтшванеца: «Единый фронт», опубликованный в 1930 году в Бердине, так никогда и не будет издан в СССР.
Новая любовь и «производственные романы»
«Ни любви, ни денег», – жаловался Эренбург Лизе Полонской в 1925 году, когда он, без особой, впрочем, охоты, поддался чарам «абсолютнейшей дуры мулатки Нанды». Теперь денег по-прежнему не хватает, но зато появляется любовь. Под силу ли ему это переживание? Его любовью стала Дениз Монробер, французская актриса, жена Бернара Лакаша, председателя Международной лиги по борьбе с антисемитизмом (LICA). «Она напоминала маленькую птичку и очаровала меня своей любезностью и фантазией, – вспоминал Нино Франк, повстречавший ее в „Куполе“. – Ее треугольное болезненное личико оживляла чудесная улыбка, напоминавшая чем-то улыбку Эренбурга, изредка мелькавшую на его нахмуренном лице» [270]270
Frank N.10.7.2. et autre portraits. P. 239.
[Закрыть]. Эренбург был отчаянно влюблен и глубоко несчастен. При той епитимье, что он на себя наложил, он должен был безжалостно душить это запретное чувство: действительно, его перо не оставит нам ни одного свидетельства этой любви. У него как у писателя были в тот момент другие задачи. Позже он напишет в своих воспоминаниях: «Часто мне хотелось писать не о бирже, а о больших человеческих чувствах, но я сердито себя обрывал» [271]271
Эренбург И.ЛГЖ. Кн. 3. Соч. Т. 7. С. 304.
[Закрыть]. Все его творческие силы направлены на «изучение» мирового капитализма и изображение мира, населенного отвратительными монстрами. Дениз появится на страницах его произведений гораздо позже, в 1940 году, в образе трогательной и хрупкой Мадо в романе «Падение Парижа», когда он окончательно покинет Францию.
За несколько дней до отъезда в эту журналистскую командировку Эренбург поделился с Лидиным новым проектом: «Сейчас собираюсь поступить на автомобильный завод, чтобы написать прозкнигу всурьез, не халтуря» [272]272
И. Эренбург – В.Г. Лидину. 21 ноября 1928 г. // Письма. Т. 1. С. 577.
[Закрыть]. Подробнее он объясняет свой план в письме к Замятину: «Сейчас я готовлю нечто вроде кинохроники нашего времени: историю автомобиля, т. е., вернее, его создания и человеческих трагедий, которые он при этом сглатывает. Входит сюда нефть, каучук и прочие мировые „этуали“. Вещь документальная, т. е. без сюжета и без „выдуманного“. М.б., это неправильно, но романы мне как таковые надоели» [273]273
И. Эренбург – В.Г. Лидину. 3 марта 1929 г. Там же. С. 584.
[Закрыть].
Замысел Эренбурга не отличается оригинальностью. На Западе такие писатели, как Эптон Синклер, Пьер Амп, Джон Дос Пассос, уже работали в жанре «документальной прозы», да и в СССР идея литературы факта, «биографии вещи» лефовца Сергея Третьякова уже готовит очередную атаку на «буржуазный психологический роман» [274]274
Morel J.-P.Le Roman insupportable. P. 332.
[Закрыть]. Прием кинематографического монтажа Эренбург позаимствовал, как уже было сказано, у Блеза Сандрара; этот «телеграфный» метафорический стиль был близок Эренбургу-журналисту, он всегда оставался главным козырем в его литературной карьере.
Итак, он заставляет себя изучать «статистику производства, отчеты акционерных обществ, финансовые обзоры; беседовать с экономистами, с дельцами, с различными проходимцами, знавшими подноготную мира денег» [275]275
Эренбург И.ЛГЖ. Кн. 3. Соч. Т. 7. С. 304.
[Закрыть]. Он отказался от мысли наняться рабочим, но посещал заводы, рабочие кварталы, слушал объяснения о работе сборочных конвейеров, о перегонке нефти. Между 1928 и 1932 годами он создал четыре производственных романа, составивших цикл «Хроника наших дней». Последовательно выходят «10 л.с.» – об автомобильном заводе «Ситроен», уже упомянутый «Единый фронт» – о спичечных королях, «Фабрика снов» – анатомия фото– и киноидустрии, «Хлеб наш насущный» – о массовом уничтожении зерна и кофе во время мирового кризиса. Много шума наделал очерк-памфлет «Король обуви» о чешском предпринимателе Томасе Бате и принес автору неслыханную популярность. Батя подал против Эренбурга иск по обвинению в «диффамации» [276]276
Там же. С. 309.
[Закрыть]и потребовал два миллиона марок за моральный ущерб. Эренбурга поддержали рабочие заводов Бати. Процесс, впрочем, так и не начнется: Батя погибнет в авиакатастрофе по дороге в суд. В том же 1932 году настоящий «спичечный король» Ивар Крейгер, единственный, кто появляется у Эренбурга в «Хронике» под другим именем, покончит с собой выстрелом в голову. Секретарь Крейгера сообщит, что накануне самоубийства он видел на столе своего патрона книгу Эренбурга. «После самоубийства Крейгера французские критики сочли Эренбурга настоящим пророком», – напишет Д. Марион, корреспондентка «La Nouvelle Revue Française» [277]277
Marion D.«Europe – société anonyme» d’l. Ehrenbourg // NRF. 1932. Decembre.
[Закрыть].
Без сомнения, Эренбург заворожен всеми этими «королями», настоящими «self-made men», определявшими облик современного мира, его безумный динамизм. Советская печать не преминула отметить, что, несмотря на всю ненависть к капитализму, писателя мало занимают «противоречия системы». Дело не только в том, что Эренбурга не интересует участь эксплуатируемых классов (в своих романах он отделывался от этой темы несколькими дежурными сентиментальными оборотами), хуже другое: отправляясь в крестовый поход против царства машин, он забывает, что в советской экономике тот же самый «поточный конвейер» играет не менее важную роль, только здесь он должен иметь человеческий смысл и помогать расцвету личности. Французская критика (так как он по-прежнему переводится во Франции), напротив, высоко оценила модернизм его романов: «Русский писатель, – читаем в „La Nouvelle Revue Française“, – сумел отказаться от изображения любви и прочих психологических коллизий и нарисовать реальный портрет нашего времени. <…> Большинство романов появляется по инерции. Эренбург попытался сказать нечто новое. Он смотрит в корень, и ему удалось разворошить муравейник» [278]278
Pozner V.1 °C.V. par I. Ehrenbourg // NRF. 1930. Decembre.
[Закрыть]. «Лазик Ройтшванец» смог снискать своему создателю разве что репутацию созерцателя обреченного мира на манер Йозефа Рота с его персонажами-призраками. Напротив, «документальные романы» сразу выдвинули Эренбурга в авангардисты.
Выпады против «мирового капитализма» принесли Эренбургу и некоторые огорчения. За год до «дела Бати» писателя снова выпроваживают из Франции из-за его материала о Колониальной выставке. К счастью, теперь не 1921 год, и он уже не беззащитный советский гражданин без знакомств и покровителей. В 1924-м в его досье Министерства внутренних дел, в графе «гаранты» стояло всего две фамилии: писатель Пьер Мак-Орлан и художник Альберт Глез. В 1932-м за него поручились и Гастон Бержери, депутат радикальной партии, и Анатоль де Монзи, сенатор и министр образования. Де Монзи был горячим сторонником дипломатического признания советской России буквально с первых часов ее существования. При Пуанкаре он возглавлял Комиссию по российскому внешнему долгу и на этом посту познакомился с Кристианом Раковским. Де Монзи живо интересовался Россией. Богатый, блестяще образованный человек, он ценит в Эренбурге достойного собеседника. Именно он возьмет писателя под свою защиту, когда у того начнутся осложнения с полицией.
Неплохо было бы заручиться таким же сильным покровителем и в Москве. Ибо там над ним уже сгущались тучи.
Советское издание «Лазика Ройтшванеца» заморожено: Главлит требует замены названия и купюр в тех местах, где рассказывается о похождениях Лазика в стране Советов. Эренбург идет проторенной дорожкой – пишет Бухарину: «Я не прошу Вас о какой-либо исключительной мере. Но если Вы найдете запрет несправедливым, Вам легко будет снять его: предисловием или как-нибудь иначе» [279]279
Письмо И. Эренбурга // Вопросы литературы. 1999. № 1. С. 305. (И. Эренбург – H.И.Бухарину. 22 февраля 1928 г. Письма. Т. 1. С. 559.)
[Закрыть]. Ответ он получит нескоро, причем в самой неожиданной форме. Бухарин, к которому обращается Эренбург, публикует в «Правде» (он же главный редактор газеты) статью «Чего мы хотим от Горького». Максим Горький, живущий в эмиграции с 1921 года, должен приехать в СССР. Бухарин приветствует его и призывает создавать, наряду с другими советскими писателями, «широкие полотна великой эпохи» и перестать «скулить»: «Собачьи переулки, Проточные переулки, Лазики Ройтшванецы (последний роман Эренбурга) – дышать нельзя! <…> Это не борьба и не творчество, и не литература; это – производство зеленой скуки для мертвых людей» [280]280
Бухарин Н.Чего мы хотим от Горького // Правда. 1928. 29 марта. Цит. по: Попов В., Фрезинский Б.Илья Эренбург. Т. 2. С. 253.
[Закрыть].
Эренбург не верит своим глазам. Ведь он еще не знает, что его другу в Москве приходится туго. С 1928 года Бухарин теряет влияние. Сталин решает расправиться с деревней, положить конец «саботажу на селе», задушить НЭП и ускорить индустриализацию – приоритет «производства средств производства». В мае 1929 года, невзирая на возражения Бухарина, генеральный секретарь навязывает стране первую пятилетку. В печати начинают открыто писать о «правой оппозиции», и сталинские пропагандисты во все горло клеймят Николая Бухарина за «мелкобуржуазную и прокулацкую позицию» и «гнилой либерализм» [281]281
Коэн С.Бухарин. Политическая биография. 1888–1938 / Пер. с англ. М.: Прогресс, 1988. С. 398–399.
[Закрыть]. Загнанный в угол Бухарин вынужден уйти с поста главного редактора «Правды» и покинуть пост председателя Коминтерна, сохранив за собой только членство в Политбюро.
В декабре 1929 года Сталин берет курс на коллективизацию всей страны и «ликвидацию кулачества как класса». Однако прежде чем ринуться в наступление на крестьянство и затеять «третью русскую революцию», ему необходимо убедиться, что он твердо держит бразды правления и что «идеологические рычаги» в его руках. Творческой интеллигенции отводится важнейшая роль: она должна мобилизоваться для решения поставленных стране задач. Сталину нужны преданные поэты, романисты, кинорежиссеры, художники, чтобы натравить коммунистов на кулаков, убедить общество в необходимости террора, пробудить героический энтузиазм в рабочих. Эпоха гражданского мира в литературе подходит к концу. Летом 1929 года центральная печать начинает травлю трех писателей: Бориса Пильняка – председателя Московского союза писателей, Евгения Замятина – бывшего председателя Союза писателей Ленинграда и Ильи Эренбурга. Все трое обвиняются в публикации за границей в эмигрантских издательствах антисоветских произведений. Обвинения эти откровенно беспочвенные: берлинский издательский дом «Петрополис», выпустивший «Красное дерево» Пильняка и эренбурговского «Рвача», с 1921 года издавал писателей, живущих в России. Роман Замятина «Мы» был написан в 1920-м и выпущен в Праге без ведома автора уже два года тому назад. Но все попытки объяснений оказались бесполезны: газеты буквально смешали их с грязью, инкриминируя «политическое лицемерие», «литературный саботаж», «белогвардейщину» и т. д. Маяковский сравнил их поведение с «дезертирством с поля боя». Впрочем, имя Эренбурга быстро сходит со страниц газет: он слишком далеко, чтобы являть собой подходящую мишень. Однако сказанного не воротишь: именно в тот момент, когда он думал, что Москва его признала, оказалось, что его снова занесли в список эмигрантов. Похоже, нужно было все начинать сначала.
Травля писателей, развернутая летом 1929 года, ознаменовала кардинальный поворот в советской литературе: отныне каждый писатель знал, что он обязан подчиняться «социальному заказу», что в Советском Союзе все произведения принадлежат государству, что любое из них может быть объявлено «идейно вредным».
Несколько месяцев спустя, в апреле 1930 года, Владимир Маяковский покончит с собой выстрелом из пистолета. Эренбург пишет своему другу Лидину: «Выстрел Маяковского я пережил очень тяжело, вне вопроса о нем. Помните наш разговор в „кружке“ о судьбе нашего поколения?.. Ну вот» [282]282
И. Эренбург – В.Г. Лидину. 27 апреля 1930 г. // Письма. Т. 1. С. 594.
[Закрыть]. В июне 1931 года Евгений Замятин обращается с личным письмом к Сталину: он объясняет, что для писателя невозможность писать равнозначна смертному приговору, и просит заменить «смертную казнь» ссылкой, т. е. высылкой из СССР. Он ссылается на пример Эренбурга, который, «оставаясь советским писателем, давно работает главным образом для европейской литературы – для переводов на иностранные языки» [283]283
Замятин Е.Избранные произведения. М., 1999. Т. 2. С. 408.
[Закрыть].
Генеральный секретарь милостиво разрешает Замятину выехать из Советского Союза, и вскоре Эренбург будет встречать его в Париже. В истории русской литературы Маяковский и Замятин фигурируют как полярные противоположности. Маяковский с первого дня революции «шагал левой», поддерживал все решения власти, безжалостно преследовал ее врагов; Замятин после 1917 года вышел из партии большевиков, не уставал повторять, что для писателя единственная революция – литературная, и призывал не смешивать революцию и государственную власть. Общим же у них было только одно – чувство собственного достоинства, уважение себя и литературного своего дела, которым ни тот, ни другой не хотели поступиться. Эренбург это знал и понимал. Но его самого уже ничто не могло остановить на пути, который он для себя выбрал.
В 1931 году Илье Григорьевичу исполнилось сорок лет. Он пытается угнаться за «локомотивом истории», он бежит без передышки, хотя время от времени возникает впечатление, что это история гонится за ним по пятам. Он не знает ни минуты покоя, колесит по европейским столицам: то в Берлин, где оказывается, что толпа нацистов состоит в основном из безработных; то в Испанию, где его горячо принимают как первого советского писателя; снова в Берлин, в Прагу, в Вену, в Женеву… Он пишет статьи и репортажи («Испания, рабочая республика»), успевает составить фотоальбом «Мой Париж», заканчивает очередной производственный роман «Фабрика снов» и берется за новую повесть о судьбе советского художника, живущего в Париже, – «Москва слезам не верит». Он вступает в яростную схватку со временем: если он ее проиграет, ему останется только ледяной ад эмиграции (говоря словами Анри Труайя), безумие, нищета. В мае 1932 года Париж потрясен: некто Павел Горгулов, русский эмигрант, страдавший манией преследования, выстрелил в президента Франции Поля Думера. Ставка на отчаянье: выстрел Горгулова звучит для Эренбурга громче и страшнее, чем выстрел Маяковского.








