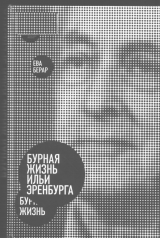
Текст книги "Бурная жизнь Ильи Эренбурга"
Автор книги: Ева Берар
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 26 страниц)
Глава VI
СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ: С «ЧЕРНОЙ» ДОСКИ НА «КРАСНУЮ»
А век поджидает на мостовой
Сосредоточен, как часовой.
Иди – и не бойся с ним рядом встать.
Твое одиночество веку под стать.
Оглянешься – а вокруг враги;
Руки протянешь – и нет друзей;
Но если он скажет: «Солги», солги.
Но если он скажет: «Убей», убей.
Эдуард Багрицкий. «ТВС»
Призрак Горгулова
Убийство президента Франции Поля Думера посеяло панику среди эмигрантов: многие забаррикадировались у себя дома, готовясь к самому худшему. Через знакомых французов Эренбург сумел получить пропуск во Дворец правосудия. Ошеломленный случившимся, он в течение трех дней присутствует на процессе, слушает заявления обвиняемого и пытается понять причины его безумного поступка. Потрясение, видимо, было таким мощным, что тридцать лет спустя он посвятит этому делу целую главу в своих воспоминаниях. Горгулов завладел его воображением: это было явление призрака, поскольку задолго до того, как Горгулов оказался на скамье подсудимых, в 1922 году, Эренбург написал рассказ «Бегун» – историю обычного бухгалтера, поддавшегося антибольшевистскому психозу, который неожиданно для себя оказывается в чужой стране и становится убийцей. Он не может найти постоянную работу, его мучает тоска по родине, он страдает от своего изгнанничества и в один прекрасный день втыкает вилку в спину посетителя деревенского кафе – не ради денег и не во имя идеи, а потому, что не может больше выносить самодовольных, благополучных французов, которых, как ему кажется, никогда не касалось смертоносное дыхание истории [284]284
Эренбург И.Бубновый валет и компания. Петроград, 1925.
[Закрыть]. Эмигрантский синдром, которым страдал Горгулов, – ненависть, страх, горечь, отчаяние – был хорошо известен Эренбургу. «Горгуловская тема» не отпускает его и после процесса. Видимо, он задумывал снять фильм об этом деле. В досье парижской префектуры, заведенном на Эренбурга, содержится такая запись: «Существуют неподтвержденные сведения о том, что Илья Эренбург будет автором сценария о жизни Горгулова, который должен быть опубликован в декабре в разных журналах, как французских, так и иностранных» [285]285
Préfecture de Police de Paris. Direction de la Police générale, côte Ea. 186.
[Закрыть]. Далее в досье уточняется: «По нашим данным, советское руководство отказалось от съемок фильма». Значит, было от чего отказываться, проект сценария, видимо, существовал.
Однако, как бы ни был Эренбург поглощен делом Горгулова, он не упустил случая воспользоваться новым поворотом Истории (и на сей раз в нужную ему сторону): «Известия» – вторая по значимости после «Правды» газета в СССР – предложила ему пост постоянного корреспондента в Париже. Статус журналиста и европейца наконец узаконен. Теперь его проживание за границей вне подозрений.
Все страхи (отнюдь не вымышленные!), терзавшие его в 1929 году, рассеялись. Он обрел почву под ногами, и можно продолжать «лезть» наверх. Все переменилось: те, кто его преследовал, сами попали в ловушку. Что же произошло? Предложение «Известий», разумеется, не было случайностью. Оно отражало очередной изгиб «таинственной кривой ленинской прямой» (И. Бабель). Коллективизация и ускоренная индустриализация погрузили страну в пучину голода и хаоса. Сталин не может позволить, чтобы государственный корабль продолжал и дальше крениться влево. Рапповцы, которых уже открыто именуют «неистовыми ревнителями», начинают раздражать его своей крикливой воинственностью и бесконечными склоками. Генеральному секретарю необходимо заручиться широкой поддержкой лучших русских писателей, каковых, разумеется, он не собирается искать среди рапповцев. Двадцать третьего апреля 1932 года была принята резолюция ЦК о роспуске всех литературных объединений, группировок и организаций, в том числе и РАППа. Создается единый Союз писателей, открытый для всех, кто «поддерживает программу советской власти и хочет участвовать в строительстве социализма». Главный редактор «Известий» И. Гронский назначен председателем оргкомитета будущего Союза. Было решено, что знаменем новой организации должен стать Максим Горький – величайший пролетарский писатель, беспартийный, бывший эмигрант, а ныне горячий патриот. Когда-то непримиримый враг Октября, а теперь союзник Сталина, Горький воплощает политику открытости, справедливости, примирения, провозглашенную Генеральным секретарем. Союзу писателей (и Гронскому) нужны были и другие подобные фигуры, пусть меньшего масштаба. Эренбург идеально подходил на эту роль. Не имеет значения, что только что вышедшая из печати Малая советская энциклопедия называет Эренбурга «одним из наиболее ярких представителей новобуржуазного крыла в литературе» [286]286
Эренбург И.ЛГЖ. Кн. 3. C. 369.
[Закрыть]. Времена изменились, и теперь уже бывший руководитель РАППа, написавший эту статью, дрожит от страха, а Эренбург наконец может вздохнуть с облегчением.
Благодарные писатели, раз и навсегда уверовавшие в мудрость вождя, особенно «попутчики» и беспартийные, наперебой спешат с изъявлениями преданности, всячески демонстрируя свое передовое сознание. Кто поодиночке, кто в составе делегаций, они отправляются на стройки, ездят в раскулаченные деревни, чтобы окунуться в живую жизнь, соприкоснуться с трудящимися массами и потом одарить социалистическую родину романами, достойными «великого перелома». Эренбург не остается в стороне. Как только закончился процесс над Горгуловым, он садится в поезд, идущий в СССР.
«День второй»
В течение трех месяцев Эренбург колесит по России, посещает великие стройки первой пятилетки. В конце концов выбор его падает на два сибирских города – Томск и Новокузнецк, где буквально на голой земле возводятся мартеновские печи Кузнецкого металлургического комбината. В старом Кузнецке венчался ссыльный Федор Михайлович Достоевский. Именно этот город делает Эренбург местом действия своего романа «День второй».
Позже в своих воспоминаниях Эренбург так пояснял замысел романа: «По библейской легенде, мир был создан в шесть дней. В первый день свет отделился от тьмы, день от ночи; во второй – твердь от хляби, суша от морей. Человек был создан только на шестой день. Мне казалось, что в создании нового общества годы первой пятилетки были днем вторым: твердь постепенно отделялась от хляби» [287]287
Там же. С. 382.
[Закрыть]. В романе ощущается эпическое дыхание, здесь рвутся наружу ярость и боль страны, корчившейся в родовых муках: падающие от усталости рабочие, голодающие крестьяне, дети и родители, доносящие друг на друга, сосланные кулаки, фанатики-коммунисты, карьеристы и спекулянты, ударники, ютящиеся в землянках: «У людей были воля и отчаянье, они выдержали. Звери отступили. <…> Люди жили как на войне. Они взрывали камень, рубили лес и стояли по пояс в ледяной воде, укрепляя плотину. Каждое утро газета печатала сводки о победах и о прорывах, о пуске домны, о новых залежах руды, о подземном туннеле, о мощи моргановского крана. <…> В тифозной больнице строители умирали от сыпняка. Умирая, они бредили. Этот бред был полон значения. Умирая от сыпняка, люди еще пытались бежать вперед. На место мертвых приходили новые» [288]288
Эренбург И.День второй. Соч. Т. 3. С. 215, 218, 220.
[Закрыть]. На войне как на войне – такова мораль революции: «Революция одних людей родила, других убила <…>. На то она и была революцией» [289]289
Там же. С. 240, 242.
[Закрыть].
На таком апокалиптическом фоне разворачивается история героя, который воплощает драму русской интеллигенции.
Этой драме уже не один десяток лет; Октябрьская революция лишь ускорила развязку. Некоторые, например Александр Блок, восприняли гибель своего класса с чувством горького ликования. Другие – среди них Горький и Эренбург – били тревогу и пытались докричаться до тех, кто мог их услышать; уничтожая культурную элиту страны, революция роет могилу и себе самой, и России. Десять лет спустя «великий перелом», объявленный Сталиным, окончательно прикончит русскую интеллигенцию. Тот, кто пройдет горнило испытаний и сможет «перековаться», превратившись в советского «работника умственного труда», получит пропуск в светлое царство социализма. Остальные исчезнут.
Главный герой романа, молодой человек Володя Сафонов, уроженец Томска, «сибирских Афин» [290]290
Там же. С. 244.
[Закрыть], вырос на чеховских ценностях: уважении к личности, любви к литературе, верности профессиональному долгу. Однако для советского гражданина такие установки – лишний груз. Володя бросает учебу и вместе с молодыми рабочими отправляется в Кузнецк, на стройку, в надежде стать вровень со своей великой эпохой. Напрасные усилия! Его «гипертрофированное» сознание не позволяет ему увидеть действительность «в исторической перспективе», освободиться от индивидуализма и от презрения к окружающим его невежественным энтузиастам. Володя ведет дневник, где безжалостно издевается над «новым человеком», – прием, позволяющий Эренбургу привести целый набор аргументов, которые он черпает как из собственных книг, так и из книг своих друзей. Автор предусмотрел все возможные возражения. «Новое племя» создает новую культуру? Володя возражает: «После Платона, после Паскаля, после Ницше – не угодно ли: Сенька-шахтер заговорил! Причем ввиду столь торжественного события обязаны тотчас же и навеки замолчать все граждане, которые умели говорить до Сеньки. <…> Вы установили всеобщую грамотность и столь же всеобще невежество. После этого вы сходитесь и по шпаргалке лопочете о культуре. Но это еще не основа культуры» [291]291
Там же. С. 293, 337.
[Закрыть]. Коллективное начало возьмет верх над вымирающим индивидуализмом? «Муравьиная куча – образец разумности и логики. Но эта куча существовала и тысячу лет тому назад. Ничего в ней не изменилось. Существуют муравьи-рабочие, муравьи-спецы и муравьи-начальники. Но еще не было на свете муравья-гения. <…> У них есть куча, и они работают. <…> Они много честнее вас: они не говорят о культуре» [292]292
Там же. С. 337–338.
[Закрыть]. Новый человек будет свободен от пороков, присущих классовому обществу? Володя иронизирует над самоуверенностью своих товарищей, берет в союзники Достоевского: «Вместо жалости у нас „классовая солидарность“. Мы уничтожаем не личностей, а класс. Конечно, при этом гибнут и людишки, но разве это важно? Важно то, что мы перегоним Америку» [293]293
Там же. С. 384.
[Закрыть]. Не забывает он и западную интеллигенцию, преклоняющуюся перед «новым человеком»: «Бернард Шоу (недавно посетивший СССР. – Е.Б.) от восхищения давится икрой, а потом спешит в Лондон. Там он сможет говорить, не считаясь с Сеньками» [294]294
Там же. С. 293.
[Закрыть].
Иной раз возникает ощущение, что проницательного, умного Володю на самом деле зовут Илья, что он – alter ego автора. Но нет, автор романа Илья Эренбург тут как тут, он только ждет удобного момента, чтобы преподать читателю урок истории: сопротивление Володи бессмысленно; вместо того чтобы придать ему сил, оно превращает его в маргинала, в изгоя, в «несвоевременный феномен» [295]295
Там же. С. 298.
[Закрыть], который вот-вот окажется на свалке истории. И действительно, Володя обречен исчезнуть. Быть может, он был честен, но он проиграл, и Эренбург заставляет своего героя покончить с собой.
Страх перед Историей и одновременно обожествление ее – вот пафос этой книги. В отличие от большинства своих современников Эренбург не исповедует марксизм. Его терзает другое – страх уничтожения, которым вновь и вновь угрожает ему история. Володя понимает свою обреченность независимо от законов «диамата» о роли личности в истории: его культура, его интеллектуальные запросы и индивидуализм сами по себе являются разрушительной силой. Один-единственный раз возникает у Володи проблеск надежды, а именно на комсомольском собрании, когда он вдруг слышит тот самый внутренний голос, который вдохновлял его на сочинение стихов. Но когда он выходит на трибуну и начинает говорить, слова, которые срываются с губ, оказываются чужими, а его голос – голосом масс. «Я хочу быть со всеми <…> Я твердо говорю это слово: „Мы“». Спустя два года, на Первом съезде советских писателей Эренбург повторит найденное им магическое заклинание: «Позвольте же мне, товарищи, с полным правом говорить здесь „мы“» [296]296
Там же. С. 570.
[Закрыть].
Однако, как метко заметят Ильф и Петров, «надо не только любить советскую власть, надо сделать так, чтобы и она вас полюбила» [297]297
Ильф И., Петров Е.Любовь должна быть обоюдной // Правда. 1934. № 108. 19 апреля. С. 4.
[Закрыть]. В 1932 году советская власть еще не полюбила Эренбурга. Издательство «Советская литература» возвращает ему рукопись романа «День второй» с пометкой «плохая и вредная вещь». Момент критический: Эренбург чувствует, что ему надо идти ва-банк, бороться за свой роман, иначе говоря, открыть свой собственный «единый фронт». Его отношения с Гронским и роль в создании Союза писателей дают ему на это некоторые права. Возросли и организационные возможности Эренбурга: с 1932 года у него появился личный секретарь – Валентина Ароновна Мильман. Находясь в Париже, он поручает ей предлагать отдельные главы из романа газетам и журналам, в случае отказа добиваться объяснений и держать его в курсе происходящего в Москве.
Наученный опытом, Эренбург организует поддержку из Парижа. Он готовит французское издание «Дня второго», а в январе 1933 года «La Nouvelle Revue Française» публикует большую (около тридцати страниц) подборку материалов, собранных им во время поездки по стройкам Сибири и Урала в 1932 году. Эренбург признает во введении, что это редкий случай, чтобы писатель предавал гласности материалы, использованные им для создания художественного произведения; однако в данном случае речь идет о документах особого рода. Это письма и дневники молодых рабочих Кузнецкстроя, это «голос поколения, определяющего судьбу нашей страны и, возможно, всей нашей цивилизации» [298]298
Ehrenbourg I.Jeunesse russe. Entretiens, lettres, journaux intimes // NRF. 1933. Janvier.
[Закрыть]. Неважно, что документы поражают невероятной банальностью; важно другое – благодаря Эренбургу рассказ о советской «новой цивилизации» попал на страницы самого престижного и элитного французского журнала. Удар нанесен метко, остается закрепить успех. И тут наш кандидат на звание советского писателя прибегает к гениально простому средству: он организует что-то вроде «самиздата». Он печатает за свой счет в Париже четыреста нумерованных экземпляров романа и посылает их в Москву различным влиятельным лицам. «Вопрос о романе меня продолжает очень волновать. Если что-либо положительное выяснилось, очень прошу Вас, протелеграфируйте. Я уже писал Вам, насколько это важно для меня. Хочу приехать к выходу <книги>» [299]299
И. Эренбург – B.A. Мильман. 2 июня 1933 г. // Письма. Т. 2. С. 88.
[Закрыть]. Надежды чередуются с разочарованиями. <…> «Я думал, что его читали уже верхи» [300]300
И. Эренбург – В.А. Мильман. 30 июня 1933. Там же. С. 92.
[Закрыть]. <…> «ИВ книгу я послал давно, до других. Что теперь делать, не знаю» [301]301
И. Эренбург – В.А. Мильман. 5 сентября 1933 г. Там же. С. 97–98.
[Закрыть]. Кто другой, кроме Иосифа Виссарионовича Сталина, может скрываться за инициалами ИВ? Французский перевод романа готов, автора тепло поздравляет Ромен Роллан: «Только что прочитал Ваш „День второй“. Это самая прекрасная, самая содержательная, самая свободная из книг, прочитанных мною о новом советском человеке – созидателе». Письмо это, впрочем, было не просто непосредственным откликом: Роллан не забывает подчеркнуть, что «было бы полезно, если бы она (книга. – Е.Б.) одновременно вышла и по ту сторону Горнила. Она рассеет немало недоразумений, как у нас, так и у вас» [302]302
Письмо 31 августа 1933 //Я слышу всё… Почта Ильи Эренбурга. 1916–1967* / Сост. Б. Фрезинский. М.: Аграф, 2006. С. 53–54.
* Далее – Почта.
[Закрыть]. Теперь следовало позаботиться о том, чтобы мнение и пожелание великого писателя стало достоянием гласности. Уговорить Барбюса, редактора «Le Monde», оказалось не так легко, но в конце концов в декабре письмо Роллана появляется в газете. Шаг за шагом «единый фронт» одерживает победы и в Москве. Эренбург принимает все навязанные ему цензурой купюры, и в апреле 1934 года «День второй» выходит в свет. Как раз вовремя: через три месяца должен открыться Первый всесоюзный съезд советских писателей. В своих воспоминаниях Эренбург точно определит исключительное значение этого события: с выходом романа «День второй» в Москве имя его в советской литературе переходит с «черной доски» на «красную» [303]303
Эренбург И.Люди. Годы. Жизнь. 1990. Т. 2. С. 37–38.
[Закрыть].
Мальро и Эренбург
Они познакомились в 1921 году в редакции журнала «Action», куда Эренбург принес стихи об измученной революцией России. В 1932 году они встретились вновь. Устроив праздник по случаю приезда в Париж Евгения Замятина, Эренбург пригласил к себе писателей из «La Nouvelle Revue Française». Среди них был и Мальро. Нино Франк, также присутствовавший за столом, удивлялся: чем объяснить дружбу между «этими двумя противоположными людьми, этот невозможный союз Гарина (герой романа Мальро „Завоеватели“. – Е.Б.) и Хулио Хуренито?» [304]304
Frank N.10.7.2. etautres portraits. P. 251.
[Закрыть]Действительно, что могло быть общего между Мальро-Гариным, холодным рационалистом, упоенным своим превосходством, шествующим по истории как завоеватель, и Хулио Хуренито, он же Лазик Ройтшванец, вечная жертва истории, который противостоит «завоевателям» лишь житейской мудростью да иронией, смешанной со страхом? Тем не менее у них есть общее – это страсть к риску, даже если первый идет навстречу всем ветрам элегантно и беспечно, а второй – с головой, набитой выкладками о кризисе мировой экономики, вечно озабоченный, «ответственный и сознательный» (по меткому определению Жоржа Сименона) [305]305
Ж. Сименон оставил портрет Эренбурга, выведя его в романе «La tête d’homme» («Голова человека»), 1931, под фамилией «Радек».
[Закрыть], постоянно барахтается в бюрократических силках, хлопоча о въездных и выездных визах. Но самое главное, их сближало то, что оба одинаково чувствовали нерв современности и болезненно ощущали краткость отпущенного им срока. Далеко не признавая творчества друг друга («Роман был бы прекрасен, если бы только не было Гарина», – шепчет Эренбург сидящему рядом Нино Франку [306]306
Frank N.Memoirs brisées. Calmann-Levy, 1967. P. 283.
[Закрыть]), каждый из них, тем не менее, отдает должное достоинствам другого. И какое-то время им было по дороге.
Мальро не был ни коммунистом, ни анархистом. Если он и был бунтарем, то умным, расчетливым, сознающим последствия. Он симпатизировал советскому искусству и доказал это, отстаивая фильм «Броненосец Потемкин» Эйзенштейна и память Маяковского. На страницах «La Nouvelle Revue Française» он вступил в полемику о китайской революции с самим Троцким. Можно предположить, что Эренбург следил за этой дискуссией со смешанным чувством превосходства и зависти: обнаружив полную неосведомленность в вопросах революционной борьбы, Мальро, тем не менее, настолько сумел ввести своего оппонента в заблуждение, что Троцкий принял его чуть ли не за лидера восстания.
В декабре 1932 года, за несколько дней до выхода романа «Удел человеческий» и за несколько недель до прихода к власти Адольфа Гитлера, Андре Мальро стал членом Международного бюро революционных художников (МБРХ) – французского отделения Международного объединения революционных писателей (МОРП), созданного Коминтерном. МБРХ, появившееся в конце 1931 года, приглашало в свои ряды всех писателей, «активно участвующих в революционном движении французского пролетариата и борьбе с фашизмом и социал-фашизмом, поддерживающих борьбу с колониализмом и выражающих солидарность с СССР» [307]307
Morel J.-P.Le Roman insupportable. P. 411.
[Закрыть]. При этом писатель мог и не быть членом коммунистической партии. На митингах МБРХ, где Эренбург появляется уже в качестве признанного советского писателя, Мальро, а за ним Андре Жид и другие писатели, прежде совершенно далекие от коммунизма, громогласно заявляют о своей поддержке Советского Союза как единственной силы, способной противостоять немецкому нацизму. Андре Жид, например, поясняет, что нацистский террор – «наследие самого отвратительного прошлого», в то время как «строительство социалистического общества дарит безграничную надежду на будущее». Где найти лучшую иллюстрацию этой «безграничной надежды на будущее», если не в материалах о советской молодежи, опубликованных Эренбургом в «La Nouvelle Revue Française»?
Эренбург без особого труда завоевывает авторитет среди своих французских друзей. У него всегда свежие сведения, он в курсе того, что происходит в Москве, для него нет каверзных вопросов, он заранее предвидит все возражения, у него всегда готов ответ. Именно он представляет французским литераторам Замятина, высланного из СССР, и добивается, чтобы те же французы приняли приглашение на учредительный съезд Союза советских писателей. Он ведет с ними беседы о великой русской литературе, особенно о Достоевском, убеждает в необходимости опубликовать письма молодых комсомольцев. (Впрочем, если бы эти комсомольцы прочитали его книги, они не преминули бы призвать его к ответу, как это вскоре сделает критик Шкловский.) Эренбург вместе с Мальро выступает на антифашистских митингах – после одного такого митинга он демонстрирует Мальро искореженный редакцией «Известий» текст своего выступления. Одним словом, перед нами снова Хулио Хуренито в окружении учеников. Артур Кестлер, венгерский коммунист, живший в Париже на положении эмигранта, публикует в 1933 году «Дневник Ульриха», историю молодого человека, исключенного из коллектива и живущего в разладе со временем. Ульрих обретает утешение, читая повесть Эренбурга «Москва слезам не верит», написанную в 1932 году: он видит себя таким же новым Вертером, «умирающим от любви к пролетариату» [308]308
Koestler A.Hiôroglyphes. Paris, 1978. Vol. 2. P. 128.
[Закрыть].
В первой половине года Эренбург публикует в СССР ряд статей, посвященных современной французской литературе: в мае выходит его статья о Мальро. Роман «Удел человеческий» принес автору успех и Гонкуровскую премию, но тем не менее самое большое значение он придает статье Эренбурга о своей книге [309]309
Lacouture J.Malraux, une vie dans le siècle. Seuil, 1976. P. 130.
[Закрыть]. О чем же эта статья? О том, что Мальро – «писатель переходного времени» [310]310
Эренбург И.Андре Мальро. Соч. Т. 4. С. 567.
[Закрыть]: его трагедия в том, что ему не под силу выбрать между прошлым, насыщенным культурными комплексами, и будущим, несущим «простоту, если угодно, известную примитивность», так как «культура молодого класса неминуемо отличается монолитностью, которую, отталкиваясь от нее, можно выдать и за грубость» [311]311
Там же. С. 561, 563.
[Закрыть].
Насколько серьезно сам Эренбург относится к советам, которые он так охотно дает Мальро? Готов ли он сам приобщиться к «божественной простоте» пролетарской культуры? Читая его статью о сюрреалистах, можно, пожалуй, в это поверить. Поэты-сюрреалисты представлены в ней как компания сексуальных извращенцев, практикующая онанизм, педерастию, фетишизм, эксгибиционизм, даже скотоложство; а их сочинения не что иное, как опусы умалишенных; «Я не знаю, больные эти люди или только ловкачи, которые работают под сумасшедших» [312]312
Эренбург И.На западном фронте. 3. Сюрреалисты //Литературная газета. 1933. № 28. 17 июня. С. 2. I. Ehrenbourg, Duhamel, Gide, Malreaux, Mauriac, Morand, Romains, Unamuno vus par un écrivain d'URSS. Paris: Gallimard, 1934.
[Закрыть]. Парижские сюрреалисты никогда не отличались деликатностью выражений, и их полемика в 1933 году с «L’Humanite», Барбюсом и Арагоном была на редкость грубой. Но тот, кого именуют теперь «голосом советских писателей», намного их перещеголял; он, что называется, «переходит на личности». Помнит ли он при этом, как всего десять лет назад в Берлине некий He-Буква, эмигрантский критик и журналист, объявил его самого душевнобольным? И как этот самый He-Буква судом чести немедленно был исключен из литературного сообщества? Другие времена, другие нравы. В Париже статьи Эренбурга нравятся. На следующий год его эссе о французских писателях, включая и филиппику против сюрреалистов, выйдут в издательстве «Галлимар».
Движение интеллектуалов против войны возникло в 1932 году в Амстердаме по инициативе Анри Барбюса и Ромена Роллана. В 1933 году оно набирает силу. Приход к власти немецких нацистов, аутодафе на берлинских улицах уничтожили последние сомнения. Европейский антифашистский конгресс, проходивший в Париже в зале Плейель, стал его апофеозом. В нем участвовали как различные антифашистские течения, так и левые партии. Солидарность с СССР была не просто статьей в уставе МБРХ; сочувствие делу освобождения труда и восхищение революционными достижениями Советского Союза стали краеугольным камнем сопротивления нацистскому варварству, условием защиты демократии.
Русская литература находится в большом почете. Эренбург пишет Лидину: «Я ждал Вас здесь. Надеюсь, что скоро соберетесь. Хорошо, если приедете в Париж, так как здесь теперь настроения благоприятные, и я полагаю, что приезд совписателей во всех отношениях полезен» [313]313
И. Эренбург – В.Г. Лидину. 4 марта 1933 г. // Письма. Т. 2. С. 68.
[Закрыть]. Ситуация благоприятна и лично для него. Его очерки о Германии и Франции привлекли внимание в Москве. В марте 1934 года после подавления рабочего восстания в Вене, возглавленного социал-демократами, Эренбург сумел пробраться в столицу Австрии, а оттуда переправиться в Чехословакию, где нашли убежище многие шуцбундовцы. Однако внимание, которым он пользуется в Москве, вовсе не подразумевает полного доверия: «В Чехо-Словакии я работал день и ночь: опросил детально множество участников австрийских событий, потом написал цикл статей. Всего написал листа три. Эти статьи уже переводятся на французский, английский и чешский. Я придаю им значение, так как наша информация в данном случае не стояла на высоте. Очень будет обидно, если Гр. Е. <Цыпин, редактор „Известий“> их напечатает в сокращенном виде» [314]314
И. Эренбург – В.А. Мильман. 3,9 марта 1934 г. Там же. С. 122–123.
[Закрыть].
Чем больший вес приобретает Эренбург, тем больше правят, подчищают и дополняют его статьи; но тем решительнее и он отстаивает свое мнение. Он сделал свой выбор, он стал солдатом на службе государства, борцом за дело Советов, он готов подчиняться военной дисциплине, царящей в лагере социализма, но внутри этого лагеря он требует свободы и уважения. Перековавшийся, связанный по рукам и ногам, принявший все условности советского стиля, он тем не менее борется за свою независимость: «Мое категорическое условье применительно к этой статье – ничего не выкидывать: статья и так на грани возможного по отношению к стране [315]315
Речь идет о статье «Последние византийцы» (Известия. 1933. № 141. 4 июня. С. 2), посвященной французским писателям.
[Закрыть]. Поэтому ничего не выкидывать „хорошего“ о Франции – особенно конец. <…> Итак, если статья не может пойти в таком виде, то пусть ее не печатают вовсе. Вы понимаете сами, почему я так настаиваю: во-первых, я живу в Париже, во-вторых, я считаю, что сейчас неуместны к<акие>-л<ибо> чрезмерные нападки на Францию» [316]316
И. Эренбург – В.А. Мильман. 11 мая 1933 г. // Письма. Т. 2. С. 82.
[Закрыть].
Поездка Мальро в Берлин по поручению Комитета защиты Димитрова и Гонкуровская премия, полученная за роман «Удел человеческий», сделали его фигурой первого плана. Эренбург настойчиво добивается приезда Мальро на Первый всесоюзный съезд советских писателей. В то время как Андре Жид долго колеблется, тянет с ответом и в конце концов отклоняет приглашение, Мальро сразу его принимает. Более того, он соглашается принять участие в подготовке платформы «широкого фронта», которая должна противостоять «узкому фронту», возглавляемому Карлом Радеком, членом исполкома Коминтерна. Эренбург часто приглашает французских друзей в свою шумную двухкомнатную квартирку на улице Котантен, только что снятую им с помощью одного из друзей, Анатоля де Монзи. Константин Федин, бывший член «Серапионова братства», элегантный, образованный, настоящий европеец, будучи проездом в Париже, присутствует на одной из таких встреч, где рассказывает собравшимся, что с 1932 года в литературной жизни Советского Союза произошли колоссальные перемены; однако догматиков еще немало, и их предстоит убрать с дороги. Борьба разных направлений действительно имела место, и Эренбург еще не один раз ловко использует свои связи среди западной интеллигенции, чтобы несколько обуздать узколобый фанатизм советских руководителей. С другой стороны, он сумел внушить своим французским друзьям (нужно было еще добиться, чтобы его правильно поняли), что отнюдь не обязательно превращаться в рьяных большевистских идеологов, чтобы внести свой вклад в общее дело. И вот Андре Мальро настойчиво советует Андре Жиду более твердо выразить свою приверженность индивидуализму в обращении к писательскому съезду в Москве: «У меня есть основания полагать, что Эренбург не будет на вас в претензии за вашу поддержку: благодаря ей он сможет придать дополнительный вес своим идеям и усилить позиции той группы писателей, которая явно не принадлежит к большинству» [317]317
Cahiers de la Petite Dame, 1929–1937. Paris: Gallimard, 1974. P. 389.
[Закрыть].








