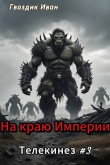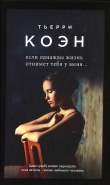Текст книги "Господин посол"
Автор книги: Эрико Вериссимо
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 27 страниц)
Гленда вынула из кармана пижамы желудочную таблетку и положила ее в рот. Пабло Ортега и... как там дальше? Она не могла запомнить. Все-таки какая кровь течет в его жилах? Индейская и испанская? 0н не был похож ни на индейца, ни на негра... Но мавры занимали Иберийский полуостров в течение столетий. Должно быть, у Пабло мавританская кровь. А мавры – африканцы... Но что ей до происхождения секретаря латиноамериканского посольства? Ни у кого нет чистой крови, люди осквернились телом и душой. Все люди. О боже! Нужно чем-то заполнить еще один вечер. Программы телевидения невыносимы. Почитать книгу? Но теперешние книги тоже полны грязи: гомосексуализм, расовые преступления, злоба, отчаяние. Они написаны либо неграми, либо евреями. А эти расы ненавистны любому белому американцу.
Гленда решила было позвонить приятельница. Но о чем говорить? Она могла бы сесть в машину и поехать покататься вдоль берега Потомака, а вернувшись, принять снотворное и постараться заснуть... И почему бы не принять сразу полсотни таблеток, чтобы заснуть навсегда?
Самоубийство разрешит все ее вопросы. Но была ли эта мысль искренней? Нет. Она убьет себя только тогда, если будет уверена, что внутри нее, подобно ядовитому цветку, разрастается рак.
Гленда еще теснее прижала к животу подушку.
В тот же вечер, около десяти часов, в квартире Клэр Огилви зазвонил телефон.
– Алло! Кто говорит? – спросила она с досадой, так как пришлось оторваться от любимой телевизионной программы.
– Мишель.
– Что случилось?
– Мисс Огилви, – тихо сказал мажордом, – это совершенно конфиденциально...
– Говорите громче! О чем вы?
– Я попал в затруднительное положение, мисс. Дело касается приема, намеченного на пятницу... Простите, но я не рискнул говорить с вами об этом в посольстве. – Клэр услышала характерное покашливание мажордома. – Bien , как вам известно, уже десять лет нашими поставщиками были "Братья Бошан". Солидная фирма, первоклассные продукты, в общем, обслуживание безупречное...
– Знаю, Мишель, знаю. Но в чем дело?
– Случилось нечто весьма достойное сожаления. На этот раз генерал Угарте вторгся в мою сферу, взял на себя заботы о продуктах и винах для приема и заключил договор с фирмой "Паркер энд Беккер".
– Может быть, на более выгодных условиях? – предположила Клэр, правда, не очень уверенно. Она не отрывала глаз от экрана телевизора, который приглушила, прежде чем подойти к телефону.
– Какое там, мисс Огилви! На двадцать процентов дороже. И не мне вам говорить, кто положит в карман эти денежки.
– Спокойнее, Мишель. Пострадает от этого лишь казначейство республики Сакраменто. Очень сожалею, но я ничем не могу помочь вам...
– Но, мадемуазель, войдите в мое положение! Я уже договорился с "Братьями Бошан"! C"est calamiteux!
Клэр не терпелось вернуться к телевизору. Она представила себе лицо мажордома: длинный нос нависает над розовыми губами, мигающие глазки смотрят не то просяще, не то злобно.
– Да, Мишель. Действительно, беда! Ведь на этот раз вы теряете свои десять процентов, не так ли?
В тот же вечер, около восьми часов, машина посольства Сакраменто остановилась перед подъездом резиденции посла. Альдо Борелли открыл дверцу машины, из которой вышла Росалия Виванко в платочке, завязанном под подбородком, поднятый воротник пальто закрывал половину ее лица. Она позвонила – Мишель открыл дверь, и Росалия вошла в особняк. Шофер вернулся на свое место, и дама, оставшаяся в машине, приказала ему: «Поезжайте теперь потихоньку в парк Рок Крик». Альдо Борелли повиновался, однако ему стало не по себе... Поведение генеральши за последние недели не оставляло у него никаких сомнений насчет намерений этой толстой коровы, развалившейся на заднем сиденье. Она и надушилась-то, наверное, так, чтобы соблазнить его. Вот влип! А ведь он и не думал изменять жене и мечтал только о том, чтобы подкопить деньжат да выписать из Италии младшего брата... Если бы генеральша была молодой и красивой – другое дело, стоило бы рискнуть, несмотря на генерала, который может застать их на месте преступления.
– Хороший вечер, Альдо!
– Отличный, сеньора.
Итальянец взглянул в зеркало, в котором отражалась пассажирка. Своей дородностью и усиками она напоминала сицилийских и калабрийских женщин. Но у тех обычно высоко развито чувство чести и собственного достоинства. Они хранят верность своим мужьям. В Сицилии и Калабрии бесчестье смывается кровью.
В парке машин было немного. На перекрестке Альдо притормозил.
– Куда прикажете, сеньора?
– Давайте полюбуемся вишневыми деревьями. Поезжайте вдоль берега, потом мимо памятника Джефферсону к обелиску.
Ассоциация, которую вызвал у Нинфы обелиск, была под стать ее настроению. Да, она рискует, но риск этот так приятен. Одна из подруг как-то сказала ей, что охота дает самое острое наслаждение, подстрелить дичь – это уже совсем не то.
– Вы женаты, Альдо?
– Да, сеньора.
– Сколько лет вашей жене?
– Двадцать восемь.
– Она красива?
– Как будто, мадам.
– У вас есть дети?
– Двое, сеньора. Мальчик и девочка.
Нинфа как зачарованная глядела на крепкий затылок молодого итальянца.
Когда "мерседес-бенц" проезжал мимо памятника Джефферсону, Нинфа похвалила красоту американской столицы. Бывал ли Альдо в Сакраменто? Нет? Жаль! Он должен побывать в их стране. Серро-Эрмосо расположен в зеленой долине. Климат очень приятный. А город со своими старинными особняками колониальных времен прямо восхитителен. Собор – Dios mio! – потрясающе красив. Настоящее барокко. ("Если он заинтересуется, что это такое, я пропала".)
Когда они снова оказались на берегу Потомака, шофер спросил:
– Куда теперь, сеньора?
– Нам некуда спешить, Альдо. Я обещала заехать за подругой в половине двенадцатого. Давайте в Вирджинию!
"Madonna! – мысленно воскликнул Альдо Борелли. – Если генерал Угарте узнает об этом, я могу потерять место да еще получить по морде..."
Они переехали через реку по Мемориал-Бридж и направились по дороге в Александрию. Когда показались синие огни аэропорта, Нинфа приказала:
– Остановите машину поближе к берегу.
Проклятая старуха! Альдо съехал с шоссе и подвел машину к самому берегу. От аэропорта высоко в небо поднимался фиолетовый луч.
Нинфа Угарте заерзала на сиденье, затем, кряхтя, открыла дверцу и вышла. Против воли Альдо охватило волнение от предчувствия того, что сейчас произойдет... Вся эта история начинала ему казаться не только опасной, но и смешной. Он представил, как будет рассказывать жене, когда вернется домой: "Подумай только, Антониетта, генеральша заставила меня остановить машину в пустынном месте, на берегу реки, и..." Его мысли были прерваны звуком открывшейся передней дверцы, затем Альдо почувствовал рядом с собой пышущее жаром, массивное, надушенное тело Нинфы Угарте.
– Отсюда, – сказала она, как бы оправдываясь, – я смогу лучше видеть самолеты.
В самом деле, самолеты то и дело приземлялись или поднимались в воздух, очень низко пролетая над водой. Альдо Борелли крепко сжимал руль, мускулы его лица застыли.
– Такой мужчина, как вы, Альдо, – прошептала Нинфа, положив свою полную руку ему на колено, – не должен довольствоваться профессией шофера. Вы могли бы стать артистом кино или телевидения.
К аэропорту с шумом пролетел самолет.
Альдо, сжав зубы, молчал, уставившись на воду, в которой отражались береговые огни. Тяжело дыша, чувствуя, что сердце ее бьется все чаще и сильнее, Нинфа Угарте торопливо и жадно расстегнула молнию на брюках Альдо Борелли...
Билл Годкин вернулся к себе на улицу R около половины двенадцатого. Прежде чем лечь в постель, он решил выкурить трубку и, усевшись в гостиной, обвел взглядом комнату. "Охотник за дикими зверями, – размышлял он, – украшает стены головами тигров, львов, пантер, вепрей... Охотник же за людьми вроде меня хранит портреты своих «жертв». Стены гостиной были увешаны окантованными фотографиями знаменитостей, которых Годкин проинтервьюировал за три десятилетия своей журналистской деятельности. Здесь были портреты с автографами Гомеса, президента Венесуэлы, Сандино, Карденаса, Переса Хименеса, Варгаса, Убико, Сомосы, Сантоса Дюмона, Габриэлы Мистраль... Он встал и с особым вниманием принялся изучать увеличенную фотографию Хувентино Карреры в окружении своего штаба. Этот снимок Билл сделал сам в 1925 году, на вершине Сьерра-де-ла-Калавера. С фотографии на него смотрели заросшие бородой люди в широкополых шляпах, с пулеметными лентами через плечо, с кинжалами и револьверами за поясом. Взгляд Билла остановился на самом высоком из них. Даже на моментальной фотографии, пожелтевшей от времени, можно было заметить, что именно у Габриэля Элиодоро наиболее выразительное лицо.
Билл снова сел. Его квартира была полна сувениров из латиноамериканских стран, где он побывал. Над камином висело "Дерево жизни", приобретенное у индейского художника в Мексике, – наивная пестрая картина, на которой были изображены птицы, цветы, дети и ангелы. Жука-носорога из Пукарá, висевшего рядом с "Деревом жизни", подарил ему Айя де ла Торре в день, когда Билл впервые его проинтервьюировал. Болеадейры он получил от уругвайского политического деятеля. Изделия из черной керамики привез из Чили, марака – из Колумбии. Перуанские, мексиканские и эквадорские ковры украшали гостиную и спальню – и каждый имел свою историю. У кресла, в котором Билл сейчас сидел, на круглом столике рядом с большой пепельницей поблескивал серебряный нож с инкрустированными ручкой и ножнами. Этим ножом, подарком Жетулио Варгаса, он разрезал бумаги.
Выкурив трубку, Годкин направился в спальню, надел пижаму, затем пошел в ванную и начал чистить зубы. ("Восемь человек из десяти, – подумал он, – когда чистят зубы, кладут левую руку на пояс...") Билл старался не смотреть на лицо, которое зеркало настойчиво показывало ему. И все же, когда человек в зеркале заговорил с ним, Биллу пришлось ответить.
"Что нового?" – спросил тот. – "Ничего, – отозвался Билл, – ровным счетом ничего. Жизнь идет по-прежнему, и лучше об этом не толковать".
Годкин принялся рассматривать себя, свой широкий, грубо очерченный рот, с уголков которого стекала зубная паста. Если бы бог наградил его внешностью, которая нравится женщинам, как, например, у Пабло Ортеги... или Орландо Гонзаги, сложилась бы его жизнь иначе? А если бы у меня был рост метр девяносто и лицо, как у идолов майя, лицо Габриэля Элиодоро? Точнее сказать, если бы в нем бушевали те же страсти, порывы и отвага, что в новом после Сакраменто, – был бы он сегодня одиноким вдовцом, шефом латиноамериканского бюро Амальпресс?
Он вспомнил покойную жену. Бедная Рут! Что она нашла в нем? Почему согласилась на смущенное и неуместное предложение, которое он сделал на террасе отеля, стоящего на берегу Карибского моря? Бедная девочка! Она была миссионеркой по призванию, и ей очень шла форма Армии спасения. Билл улыбнулся. Он часто вспоминал Рут, распевающую под аккомпанемент маленького барабана на одном из углов нью-йоркского Вест-сайда... И каждый раз чувствовал себя растроганным.
Билл снова критически уставился на свое изображение. Рыжие, уже поредевшие волосы, розоватая, усыпанная веснушками кожа. Светлые, невыразительные, как у статуй, глаза. Он вспомнил, что кто-то ему говорил, будто он похож на Микеланджело. Потом в памяти всплыло путешествие в Европу, которое для Рут было прощальным. Во Флоренции в церкви Санта Мария дель Фиоре он был потрясен бессмертным творением итальянца. Увидев "Пьета" Микеланджело, Билл, прежде равнодушный к искусству, почувствовал, будто его ударили в грудь, дыхание перехватило, на глаза навернулись слезы. Рут нежно сжала его руку и прошептала: "Как похож на тебя человек, который держит мертвого Христа!" Большое счастье иметь нос, как у Микеланджело Буонаротти!
Годкин улегся и принялся просматривать вечернюю газету. Шум вокруг Фиделя Кастро продолжался. Доминиканский диктатор угрожал кубинскому революционному правительству. Даллес находился в безнадежном состоянии, ожидали назначения нового государственного секретаря. Дуайт Эйзенхауэр заявил в совете НАТО, который собрался в Вашингтоне, что члены совета должны приготовиться к постоянной напряженности и спорам с Советским Союзом. Красный Китай вторгся в Тибет. Прекрасный мир! Чудесный мир!
Годкин перешел к прочим новостям. Автор одной из заметок сообщал о новом, очень популярном среди студентов всех стран – от Южной Африки до Калифорнии – соревновании: "Сколько человек может поместиться в кабине телефона-автомата?" Мировой рекорд установил колледж св. Марии в Калифорнии: в кабину сумели втиснуться 22 студента. Билл покачал головой, проворчав: "Неужели им нечего больше делать?"
Дальше он прочел, что миссис Элеонора Рузвельт купила в Израиле за семьдесят семь долларов верблюда в подарок своей внучке, но департамент земледелия не разрешил ввоз животного в Соединенные Штаты ввиду того, что оно может оказаться переносчиком ящура. Well!.. Впрочем, еще не все потеряно. Накануне вечером шестьдесят миллионов американцев смотрели по телевидению церемонию вручения премий Оскара за 1958 год, которая транслировалась из одного голливудского кинотеатра. Шестьдесят миллионов! Билл бросил газету на пол и погасил свет. Сто двадцать миллионов глаз уставились на светящийся экран, где разворачивалось лицедейство по поводу другого лицедейства, где лгали, вдохновленные другой ложью. Победоносный триумф мира лжи! А за кулисами этого спектакля как всегда притаились фабриканты, которым надо сбыть свою продукцию.
Билл закрыл глаза и снова подумал о Рут. Потом вдруг о молоденькой девушке, которую видел сегодня вечером лежащей на траве под цветущими вишневыми деревьями: ее красивую грудь обтягивал ярко-желтый свитер, подчеркивающий прелесть юного тела. Девушка походила на только что упавший с дерева плод. Спелый плод или, вернее, на языческую богиню. Билл глядел на нее как мужчина и как отец. Он и сам толком не знал, хотел бы он, чтобы девушка была его дочерью или любовницей. Но так или иначе богиня заставила его почувствовать, что время его безвозвратно ушло.
11
Доктор Хорхе Молина любил свое одиночество и вещи в своей квартире любовью, которая иногда казалась ему едва ли не чувственной. Всякий раз, когда он осматривал небольшую комнату, которая служила ему кабинетом, грубые полки у стен, заставленные книгами, пол без ковров из узких отполированных досок, стол, который он купил на аукционе в Александрии, старинный, широкий, с большой в колониальном силе лампой, с разбросанными на нем словарями, брошюрами, бумагами и целой коллекцией дешевых деревянных ручек с перьями «маллат», какими он пользовался еще школьником; всякий раз как он осторожно касался пальцами корешков редких книг, переплетенных в кожу, либо открывал их, чтобы вдохнуть запах их страниц, его охватывало своего рода сладострастие.
Уже более двух часов он сидел за столом, приводя в порядок свои заметки и наброски для биографии дона Панфило Аранго-и-Арагона. Потом выпрямился и, положив обе руки за пояс, стал расхаживать из стороны в сторону, словно желая заглушить боль в спине. Доктор Молина не мог долгое время находиться в сидячем положении. По словам его врача, он страдал дегенеративной дископатией. Показав ему рентгеновский снимок, на котором было видно к тому же искривление позвоночника, врач, улыбаясь, добавил: "Это, мой дорогой, цена, которую мы платим за то, что мы двуногие". В сырую погоду боль, которую Молина чувствовал в левом плече и руке, была тупой и незатихающей, но ее можно было терпеть. Однако, если он делал резкое движение, от затылка до кончиков пальцев его пронзала другая боль – острая, непереносимая, но длящаяся всего с полминуты.
Растирая руку и стараясь расправить грудь, министр-советник расхаживал от стены, на которой висела карта Сакраменто XVIII века, до противоположной стены, где висел портрет дона Панфило с сердечным посвящением. Кроме этой, в квартире Молины была еще одна фотография – его матери, портрет в серебряной рамке стоял на ночном столике в спальне.
Каждый раз, когда министр-советник работал по вечерам дома, вместо халата он надевал рясу францисканского монаха и обувал грубые сандалии. Это доставляло ему странное удовольствие, причину которого он не смог бы объяснить... Молина понимал, что его подняли бы на смех, если бы кто-нибудь увидел это одеяние. Наверное, решили бы, что он сумасшедший или страдает каким-нибудь тайным пороком. Впрочем, все это были только предположения – он никогда никого не приглашал к себе в квартиру. Никто из его знакомых не знал его адреса, даже сотрудники посольства. У Молины не было телефона, и он не желал его ставить. Когда было нужно, министр-советник звонил из автомата.
В этот вечер, едва приступив к работе, он начал воображаемый диалог с доном Панфило. Однако вскоре в его ушах прозвучал голос Леонардо Гриса: "Спрашиваю еще раз: будете ли вы трудиться над биографией дона Панфило увлеченно, как друг, или беспристрастно, как историк?" Вопрос не был случайным: Молина неоднократно задавал его себе, задал и сейчас. Нынешний архиепископ – примас Сакраменто – был темной личностью. Противники архиепископа обвиняли его в том, что в политике он придерживается принципов Макиавелли, почему всегда оказывается в милости у президента республики, кем бы тот ни был. Красноречивый оратор, он умел молчать, если игра, которую он вел, требовала молчания.
"Поведение моего друга дона Панфило может объяснить одна его фраза, – мысленно обратился к Грису министр-советник. – Однажды он сказал мне: "Мой дорогой Молина, иногда, чтобы защитить церковь божью, нам приходится делать вид, будто мы заключаем соглашение с дьяволом и его пособниками на земле". Министр-советник услышал смех Гриса: "Политическое богословие вашего друга всегда казалось мне забавным!"
Хорхе Молина пытался прогнать образ своего оппонента, как монах в одинокой келье изгоняет сатану. Он встал, расправил плечи, покачал головой, потом снова уселся и взялся за работу. У Молины было все ранее издававшееся о доне Панфило Аранго-и-Арагоне: биографии, памфлеты, статьи. Сейчас перед ним лежала знаменитая "Исповедь" примаса, написанная великолепным испанским языком. Он сумел также достать фотокопии почти всей корреспонденции дона Панфило: и письма, которые тот писал родителям, когда учился в гимназии, и письма дона Панфило – семинариста, уже отмеченные печатью утонченности. Поистине жемчужины эпистолярного стиля! Среди последних наиболее ценными были письма, обращенные к тогдашнему архиепископу – примасу дону Эрминио Ормасабалю, другу и духовному наставнику дона Панфило. Чтобы собрать весь этот материал, который Молина лишь сейчас разложил в нужном порядке, ему понадобилось более двух лет.
Он взял лист с планом своей работы, снабженный указаниями на первоисточники, и сделал несколько новых пометок. Однако через полчаса дремота стала одолевать министра-советника.
Молина погасил лампу, вошел в спальню и, как всегда перед сном, став около кровати на колени, прочел "Секвенцию": "Veni, Sancte Spiritus,et emitte caelitus lucis tuae radium. Veni, pater pauperum; veni, dator munerum; veni, lumen cordium" .
Но, и бормоча молитву, он продолжал ощущать незримое присутствие Гриса. Напрасно пытался Молина призвать на помощь дона Панфило. Голос Леонардо шептал: "Разве ты не замечаешь, что твое обращение лишено адреса?" Lava quod est sordidum, riga quod est aridum, sana quod est saucium .
Молина вспомнил дона Панфило в те времена, когда тот получил титул монсеньора: величественный в своем одеянии, он произносит проповедь в соборе... Его голос, то звонкий, как металл, то сухой, как дерево, то мягкий, как бархат, наполняет храм, смешивается с дымом ладана и словно благоухает. "Flecte quod est rigidum . Эта милость матери-природы тебя страшит, Хорхе. Но почему? Ведь это естественно! Надо ли стыдиться своего тела?" На мгновение Молина, казалось, растерялся. Однако вскоре ему удалось восстановить течение своих мыслей: "Da tuis fidelibus et te confidentibus sacrum septenarium. Da virtutis meritum, da salutis exitum, da perenne gaudium. Amen" .
Молина лег, закрыл глаза и подумал, что все было бы отлично, если бы он мог вернуть веру в бога...
Когда в 1933 году министерство иностранных дел республики Сакраменто поручило дону Альфонсо Бустаманте заново отделать по своему усмотрению внутренние помещения посольства в Вашингтоне, которое было меблировано бедно и безвкусно, старый дипломат приступил к этому с таким рвением, что в конце концов ему, богатому и бездетному вдовцу, пришлось пополнить из собственного кармана скудные ассигнования, выделенные его правительством. Отделывая двадцать с лишним залов и спален особняка на Массачусетс-авеню, дон Альфонсо отдал дань французским Людовикам, не упустив случая заодно выразить свой восторг перед итальянским Возрождением и воздать должное матери-Испании, родине его предков, под влиянием которой формировались его культура и чувства. Большому поклоннику Изабеллы, прославленной католической королевы, о которой в 1924 году он написал монографию, отнюдь не в коммерческих целях, дону Альфонсо пришла удачная мысль отделать президентские покои – которые через несколько лет почтил пребыванием сам генералиссимус Хувентино Каррера во время своего первого и последнего визита в Соединенные Штаты по приглашению Франклина Делано Рузвельта – в стиле этой самой Изабеллы, который просвещенный дипломат определял как «сочетание мавританской чувственности с готическим мистицизмом и утонченностью эпохи Возрождения».
Теперь в широкой посольской кровати обнаженные Габриэль Элиодоро Альварадо и Росалия Виванко занимались любовью с пылом, достойным мавританской чувственности и готического мистицизма, и с утонченностью, достойной эпохи Возрождения. Пресыщенные друг другом, они лежали, охваченные нежной истомой.
Габриэль Элиодоро любил ласкать Росалию при ярком свете, но та, еще стыдясь своей наготы, предпочитала полумрак, поэтому в комнате горел лишь ночник.
Посол лежал на спине, Росалия прижалась к нему, положив голову на широкую грудь любовника, который одной рукой гладил волосы девушки, а другой легонько проводил по ее спине, почти платонически наслаждаясь атласной кожей, упругим и горячим телом. Уже несколько минут они молчали, и по мерному дыханию Росалии Габриэль Элиодоро решил, что она заснула. Он старался не шевелиться и даже тише дышать, боясь разбудить ее. И вдруг Росалия тихо спросила:
– Чем же все это кончится?
Габриэль сначала не ответил, будто не слышал вопроса. А потом сказал:
– Для тебя-то хорошо. Ты молода, красива, весь мир принадлежит тебе. Но мне кажется, я умру насильственной смертью.
– Не говори так, – прошептала Росалия, покрывая его грудь поцелуями.
– За бурную жизнь, любовь моя, всегда расплачиваются насильственной смертью.
– Совсем не всегда.
Теперь она, закрыв глаза, проводила рукой по плечам любовника, будто ваяла их вслепую.
– У тебя тело сорокалетнего мужчины.
Габриэль Элиодоро не мог, да и не пытался скрыть радости при этих словах Росалии.
– Я всегда, еще с детских лет, любил свое тело. Мне нравилось разглядывать свое отражение в реках, ручьях, озерах...
– У тебя в доме не было зеркала?
Он не ответил. У матери было дешевое зеркало, купленное на рынке, перед которым она причесывалась и подкрашивалась. Не раз маленький Габриэль видел, как мужчины, спавшие с матерью, завязывали перед этим треснувшим стеклом галстук, одергивали мундир, надевали фуражку или шляпу. Вот почему он возненавидел это зеркало и однажды швырнул в него камнем...
Габриэль Элиодоро нахмурился. Действительно ли он разбил зеркало или все это приснилось ему? Последнее время, вспоминая прошлое, он не мог отделить истинные события от своих грез и фантазий.
– У тебя в доме не было зеркала? – повторила Росалия.
– Не знаю. – Габриэль словно вспоминал забытый сон. – Самым значительным для меня всегда было мое тело. Я никогда не стыдился его, как и его требований. Если бог дал мне тело, значит, я должен взять от него все возможное. К чему его беречь? Чтобы его сокрушило время и уничтожили могильные черви?
Прервав себя, он поцеловал волосы Росалии.
– И знаешь, ум человека не в голове, а в теле. Тело знает, чего оно хочет. Нужно лишь научиться понимать его язык.
Росалия слушала с улыбкой, все еще не открывая глаз, восхищаясь своим любовником, который говорит такие красивые и волнующие слова.
У своей груди Габриэль Элиодоро чувствовал округлые груди Росалии, напоминавшие ему спелые плоды манго, которые он рвал мальчишкой в лесах Соледад-дель-Мар. Он ощущал их нежную тяжесть, так странно волновавшую его и вызывавшую в памяти образ Хуаны ла Сирены, девушки, которую он полюбил впервые пятнадцатилетним юношей. Хуана навсегда соединилась для него с ароматом травы, шумом леса и морским ветром...
– Который час? – спросила Росалия.
– Не думай об этом.
– Донья Нинфа обещала приехать за мной к полуночи.
– Подождет!
Однако Росалия вскочила с кровати и набросила на себя халат любовника.
– Будь благоразумным, дорогой, мне пора привести себя в порядок.
Она наклонилась над ним, поцеловала в губы и босиком побежала в ванную.
Габриэль Элиодоро раздраженно подумал о том, что сейчас он останется один в этом огромном доме. Ложиться рано он не любил. Чем же ему заняться? Телевизор он не смотрел, так как не понимал по-английски. Можно было немного погулять или написать письмо Франсиските... А может, лучше набросать отчет генералиссимусу о первой встрече с президентом Эйзенхауэром? Потом почитать что-нибудь на сон грядущий... Но больше всего он хотел заснуть и проснуться утром в объятиях Росалии.
Желание с новой силой вспыхнуло в нем, и, когда из ванной послышался шум воды, ему на ум пришла забавная мысль. Габриэль вскочил с кровати и бросился в ванную. Росалия в резиновой шапочке стояла под душем. Увидев его, она инстинктивно прикрылась. Но Габриэль схватил ее в объятия и прижал к своему тоже обнаженному телу.
– Не надо! – пролепетала она.
Габриэль молча опрокинул ее под струями воды, от которых поднимался пар.
Панчо Виванко остановил автомобиль недалеко от перекрестка Висконсин и Массачусетс-авеню и уже около получаса расхаживал по тротуару, поглядывая на посольство. В окнах верхнего этажа, где были расположены спальни, свет не горел, однако Панчо не сомневался, что Росалия находится сейчас в объятиях Габриэля Элиодоро. Эта мысль причиняла ему едва ли не физическую боль, отдающуюся в груди и голове. С трудом переводя дыхание, Панчо сунул руку в карман габардинового пальто и стал нервно крутить в пальцах свернутую трубочкой долларовую бумажку.
Что делать, святой боже? Что делать? Он притаился за деревом в парке и стал дожидаться, сам не зная чего. Иногда он вдруг решал войти в посольство и всадить себе пулю в лоб у лестницы в вестибюле. Эта мысль доставляла ему болезненное наслаждение, особенно когда он представлял себе, как будет страдать Росалия и какой ущерб нанесет скандал престижу посла в Вашингтоне и в Сакраменто. Если бы он покончил с собой, он обязательно оставил бы письмо с просьбой похоронить его тело в Серро-Эрмосо, и Росалии пришлось бы сопровождать его труп на родину. Лицемерка будет, разумеется, вся в черном. Впрочем, бедняжка ни в чем не виновата. Виноват он: низенький, толстый, некрасивый, с жирной, нечистой кожей. Но почему Росалия вышла за него замуж? Конечно, по настоянию тетки Микаэлы, стремившейся избавиться от нее. Да и сама Росалия хотела избавиться от этой мегеры...
Наверное, сейчас любовники лежат, обнявшись, и злословят, издеваясь над ним, Виванко. Росалия рассказывает послу, что, ложась спать, она обычно запирается на ключ. И тот, должно быть, хохочет. Вполне возможно, Росалия рассказывает любовнику и другие интимные подробности, унижающие мужское самолюбие Виванко. Подлая сука! А другая сука, эта Нинфа Угарте, заехала к ним в половине восьмого, они с Росалией будто бы собрались в кино, и сама же отвезла ее к послу!
Панчо отчетливо представил себе, как стреляет из револьвера в крупное тело Габриэля: в голову, грудь, живот и, наконец, ниже живота... Но хватит ли у него мужества сделать это? Едва ли! Остается одно: покончить с собой, заключил Панчо, продолжая терзать долларовую бумажку. Но лучше всего вновь обладать Росалией. Горячее, яростное желание охватило его. Это было странно и непонятно: он знал, что изменница вернется домой пресыщенная, загрязненная близостью с другим мужчиной, и именно поэтому желал ее как никогда.
Поглядывая из-за дерева на фасад особняка, где теперь светились три окна, Панчо твердо решил войти в комнату Росалии до того, как она успеет запереться, и овладеть ею, хотя бы силой, хотя бы для этого ему пришлось избить ее, придушить... Он достигнет своего и постарается при этом возможно больше унизить Росалию.
У посольства показался какой-то человек. Ночной сторож... Панчо Виванко пришлось оставить свой пост. Тихонько насвистывая, он направился по Массачусетс-авеню. Завидев мелочную лавку, Панчо вошел туда, уселся у прилавка, заказал кофе, который рассеянно проглотил, забыв положить сахар. Он продолжал обдумывать свой смелый план. Потом огляделся: ему нравилось флуоресцентное освещение лавки, ее запахи, блестящие и пестрые товары... Панчо заплатил за кофе, подошел к полке с журналами, взял номер "Тайм", равнодушно полистал его и положил на место. Затем направился к полке с канцелярскими принадлежностями и открыл коробку с цветными карандашами "Крайолас"; запах графита напомнил ему о друге детства Сиднее. Он был сыном крупного американского чиновника из "Юнайтед плантэйшн компани" и казался Панчо красивым, будто принц из сказок Андерсена. Панчо завидовал не только его голубым глазам, розовой, гладкой коже, но и его костюмчикам, купленным в Нью-Йорке, его велосипеду, его заводным игрушкам и в особенности его бесчисленным цветным карандашам (Made in USA), которыми тот рисовал свои фантастические картины. Виванко отлично помнил название этих карандашей, написанное черными буквами на голубом небе, под которыми краснокожие индейцы на лошадях преследовали стадо буйволов. С тех пор как он в Соединенных Штатах, он ищет карандаши "Крайолас", заглядывая в лавочки и магазины, словно хочет найти минувшее детство, словно название "Крайолас" может чудом воскресить Сиднея, погибшего в Гуадальканале в звании капитана морской пехоты. Однако в Вашингтоне никто, казалось, не слыхал об этой марке карандашей... И вот сейчас, вдыхая запах "Крайолас", Виванко увидел наконец златокудрого мальчика, с которым тайком выкурил за школой свою первую сигарету, – мальчика, который научил его более сладострастному запретному греху.