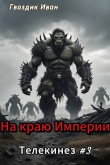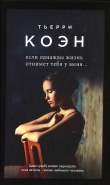Текст книги "Господин посол"
Автор книги: Эрико Вериссимо
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 27 страниц)
Билл долго рылся во всех карманах, пока нашёл нужные бумаги, и через десять минут после этого они мчались в джипе, которым правил негр с весёлой симпатичной физиономией. Билл курил, изредка поглядывая на друга: Пабло загорел, немного похудел, но лицо его, как и прежде, выражало плохо скрытую тревогу.
Автомобиль катился по узкой асфальтированной дороге среди зарослей сахарного тростника, колыхавшегося на ветру. Изредка в зелени мелькала белая вилла, и Пабло называл фамилию владельца. Иногда виднелся сахарный завод, и тогда в воздухе ощущался сладковатый запах патоки.
Ортега без умолку говорил по-испански, обращая внимание Билла то на цвет земли, то на редкой породы дерево, прихотливо изогнутый залив, либо на человека, мимо которого они проезжали. Однако при этом он оставался совершенно равнодушным. Билл слушал Пабло, чувствуя, как его захватывает сияющая красота необъятных просторов. Свежий морской ветерок смягчал палящую жару.
Вдруг Ортега замолчал. Годкин бросил на него взгляд и спросил по-английски:
– Что с тобой?
– Потом поговорим.
Наконец они приехали. Окаймлённая платанами дорога вела к дому, построенному два века назад в испанском колониальном стиле, с толстыми, почти крепостными, стенами, возведёнными вокруг патио. Серовато-белый фасад патриархального здания хранил следы времени и непогоды.
Два солдата, вооружённые автоматами, стояли у входа. Стучали пишущие машинки, из комнаты в комнату сновали мужчины и женщины в форме. У всех у них, как заметил Годкин, был деловой и сугубо военный вид.
Пабло провёл его к себе.
– Ванная здесь. Распакуй чемоданы, прими душ, если хочешь, потом пообедаем вместе, а в четыре часа встретишься с шефом.
Незадолго до назначенного часа Билла Годкина, взявшего с собой фотоаппарат и портативный магнитофон, ввели в просторную гостиную, обставленную тёмной, громоздкой мебелью, с множеством книг на грубо сколоченных полках, и большим средневековым камином. Принял его сам Валенсия. Пожав протянутую ему руку, Годкин бросил на заместителя Барриоса оценивающий взгляд. Роберто Валенсия казался немногим старше сорока. Это был человек среднего роста, атлетически сложенный. И всё же, решил Годкин, впечатление силы и властности создают не столько его широкая грудь и развитая мускулатура, сколько выражение его смуглого, тонкого лица с орлиным носом и волевым ртом. В его живых глазах, казалось, тлел огонь страсти, который никогда не вспыхивал. Билл почему-то пришёл к заключению, что Валенсия из басков. Хотя лицо этого человека не произвело на него неприятного впечатления, какая-то тревога закралась в сердце Билла.
– Мистер Годкин, – сказал начальник штаба, – генерал Барриос уделит вам ровно пятьдесят минут, и ни секунды больше! Я вижу, у вас магнитофон. Отлично! Значит, беседа будет записана на плёнку. Вы можете задавать любые вопросы. Шеф ответит, если найдёт нужным, и как найдёт нужным. Снимков же вы можете сделать не больше трёх. Впрочем, о подробностях мы договоримся позже.
Голос Роберто Валенсии немного походил на голос Гонзаги. Годкин кивнул в знак согласия, и Валенсия продолжал:
– По окончании интервью вы, конечно, приведёте в порядок свои записи. Вы должны показать нам их окончательную редакцию, а мы утвердим её или не утвердим. Плёнку сохраним в качестве вещественного доказательства, пока интервью не будет опубликовано. В конце беседы вы скажете в микрофон, что запись окончена. Таким образом мы установим тождество магнитофонной записи и вашего репортажа.
Годкин улыбнулся.
– Я вижу, вы мне не доверяете...
– Я никому не доверяю, – ответил Валенсия. – Иногда даже себе.
Ровно в четыре часа Мигель Барриос появился в гостиной. Присутствовавшие офицеры вытянулись, отдали честь и вышли. Увидев высокую, тощую, как у Дон-Кихота, фигуру Барриоса, его длинную чёрную бороду и нездоровый желтоватый цвет лица, Годкин спросил себя, почему большинство латиноамериканских политических деятелей походят либо на Боливара, либо на Христа.
Барриос протянул руку, Годкин пожал её, пробормотав обычные в этих случаях слова. Усевшись в кресло, вождь повстанцев сказал, отчётливо и значительно произнося каждый слог:
– Насколько я понимаю, у вас заготовлены вопросы...
Валенсия взглянул на американца, и тот поспешил ответить:
– Нет, генерал. Мне кажется, интервью удастся лучше, если будет носить непринуждённый характер. Но, разумеется, я заранее продумал, о чём буду вас спрашивать.
– А я – что вам отвечать. Тогда начнём.
Годкин приготовил магнитофон к записи.
– Говорит Уильям Билл Годкин, корреспондент Амальгамэйтед Пресс. Я в штаб-квартире революционных сил Сакраменто в Соледад-дель-Мар, где собираюсь взять интервью у генерала Мигеля Барриоса. Сейчас четыре часа десять минут, 18 октября 1959 года. – Билл поставил магнитофон на столик между собой и генералом. – Генерал Барриос, какова цель вашей революции?
– Я нахожу этот вопрос риторическим, господин журналист. Однако отвечу на него. Наша цель абсолютно ясна: свергнуть нынешнее правительство и создать народное правительство, способное обеспечить в республике Сакраменто социальную справедливость и прогресс.
– Намеревается ли революционное правительство последовать примеру Кубы?
– Мы считаем кубинцев своими друзьями и союзниками, но не хотим зависимости ни от Кубы, ни от любой другой страны. Мы стремимся к подлинному самоопределению нашей нации, которого Сакраменто до сих пор не знало.
– Значит, вы надеетесь восстановить у себя на родине демократию?
Барриос сложил как для молитвы свои длинные бледные пальцы.
– Восстановить – не то слово, мистер Годкин. Нельзя восстановить то, чего никогда не было.
– Хорошо, тогда скажем – установить...
– Да, мы хотим для Сакраменто демократии, о которой говорил Линкольн: демократии народа, для народа и установленной народом. Но я должен предупредить американскую печать и печать других стран, что нас не интересует лексическое и научное определение термина "демократия". Мы стремимся прежде всего к достижению экономической демократии, без которой не может существовать социальная и политическая демократия.
Крутилась лента. Валенсия курил, пуская дым с видом человека, который считает этот разговор пустой тратой времени. Сидя рядом с Годкиным, Пабло огрызком карандаша что-то набрасывал на листе бумаги.
– Какова будет позиция вашего правительства по отношению к американским компаниям? – спросил журналист.
Барриос кашлянул, и лицо Валенсии сразу стало непроницаемым. Пабло поднял голову.
– Придёт время, её узнают и сами компании и весь мир, – ответил генерал.
– Намерено ли революционное правительство немедленно провести аграрную реформу?
– Разумеется.
– Какую именно?
– И здесь нас не интересует научная терминология. Постараемся провести реформу, которая даст стране самые положительные и быстрые результаты. В общем, сделаем то, что сочтём лучшим для народа.
– Можете ли вы сказать, что вы понимаете под словом "народ"?
Выпрямившись, Барриос мельком посмотрел на Валенсию и только потом ответил:
– Считаю этот вопрос несерьёзным, поэтому не буду терять на него время.
Годкин не поборол искушения взглянуть на Пабло: лицо Ортеги оставалось бесстрастным.
– Надеется ли революционное правительство на немедленное его признание другими странами Американского континента? Как генерал объясняет исчезновение доктора Леонардо Гриса? Что он думает о Фиделе Кастро?
На эти вопросы Барриос ответил с педантичностью школьного учителя. Впрочем, на какое-то мгновение он замешкался, подбирая нужное слово, Пабло попытался ему помочь, но тут вмешался Валенсия:
– Генерал не нуждается в опекунах.
– И я тоже! – парировал Ортега.
Потом Годкин спросил, пойдёт ли революционное правительство на соглашение с буржуазией, чтобы избежать кровопролития, и будет ли положена в основу такого соглашения немедленная отставка Хувентино Карреры.
– Мой ответ будет простым: нет! Наша победа близка, и мы не пойдём на сделки с кем бы то ни было. Через несколько недель, а то и дней мы вступим в Серро-Эрмосо. Уже почти вся страна в наших руках!
– Собираетесь ли вы поддерживать добрососедские отношения с Соединёнными Штатами?
– Не только с Соединёнными Штатами, но и со всеми государствами западного и восточного полушарий.
– Не хотите ли через наше агентство передать что-нибудь народам Американского континента?
Барриос взглянул сначала на часы, потом на крутящуюся магнитофонную плёнку и, резко поднявшись, заявил:
– Сейчас не время для этого, господин журналист. Борьба ещё продолжается. Революционное правительство скажет своё слово, когда придёт время...
Немного нервничая, он позволил сфотографировать себя три раза (Валенсия отказался сниматься), а затем, сухо попрощавшись, вышел из гостиной.
– Когда вы рассчитываете подготовить запись этой беседы? – спросил Валенсия.
– К вечеру. Думаю отправить репортаж в Вашингтон с завтрашним самолётом. Однако сначала я хотел бы послать в Амальпресс телеграмму.
– Составьте телеграмму, мистер Годкин, а я позабочусь об её отправке. Я буду у себя в кабинете до позднего вечера.
40
Следующие два часа Билл Годкин стучал на машинке в своей комнате. Ровно в семь он передал Валенсии запись беседы вместе с магнитофонной лентой.
– Вам вернут эти бумаги сегодня же, до десяти часов, – заверил его начальник штаба.
Ортега предложил Годкину погулять по Соледад-дель-Мар, пока ещё светло, и пообедать в какой-нибудь таверне.
Они поехали на том же джипе, но за руль на этот раз сел Пабло. Годкин заметил, что он как будто расстроен, однако промолчал. Они вообще мало разговаривали по дороге в город.
Раскалённый солнечный диск медленно опускался за горный хребет, который становился лиловым. Кивнув в сторону океана, Пабло пробормотал:
– Знаменитый винный цвет гомеровых морей...
Они оставили машину близ центральной площади, расположенной на главном холме, и пошли не торопясь по улицам. Неподвижный воздух уже сковала ночная истома, терпко пахли нагретые солнцем камни и земля.
– Какое спокойствие! – воскликнул Годкин, разглядывая смуглых женщин, задумчиво сидевших у окон. – Время будто остановилось...
На крыльце дома старуха, одетая во всё чёрное, перебирала сморщенными пальцами деревянные чётки. Голый ребёнок играл сломанной куклой. Сапожник, сидя у двери на скамейке, стучал молотком. По улице ходили босые мужчины в холщовых штанах и рубахах, в соломенных шляпах на головах. Они смотрели на Пабло и Годкина с угрюмым любопытством и почтительно уступали дорогу на узком тротуаре.
Годкин нашёл, что площадь Богородицы нисколько не изменилась за прошедшие тридцать с лишним лет. Та же водоразборная колонка, к которой кумушки приходили за водой, а заодно и поболтать. Те же старинные фонари. Та же рыбацкая таверна – сосновые столы, стоящие прямо на тротуаре, и топорные стулья с соломенными сиденьями. Те же лотки с фруктами, над которыми роятся мухи и пчёлы. Та же старая церковь времён колонизации с фасадом, увитым пурпурными бугенвилиями.
– Жаль, что падре Каталино нет в городе, – сказал Пабло. – Его вызвал архиепископ в Серро-Эрмосо.
– Для очередного выговора?
– Нет. На этот раз его святейшество как будто собирается использовать сельского священника в качестве эмиссара, чтобы узнать, готов ли Барриос пойти на соглашение с буржуазией.
– А как поживает падре Сендер?
– Исцеляет свои язвы... и чужие тоже, главным образом духовные... В горах я вёл с ним весьма полезные для меня беседы. Странный он человек.
– Странный?
– Я не так выразился. Он человек... редкий. В его присутствии я особенно остро ощущаю свои недостатки...
Друзья уселись на скамью и стали наблюдать за происходящим на площади: мальчишки играли в мяч, кот заворожённо смотрел на клетку, где сидели два зелёных попугая; женщины, поставив на головы банки из-под керосина, полные воды, спускались по улицам, ведущим к бухте.
– Как твоя голова? – спросил Годкин.
– Больше не болит. Но... давай пройдёмся.
Они пошли по длинной улице, ведущей к морю. За ними увязался тощий шелудивый пёс. Какое-то время друзья шли молча.
– Ты слышал, что случилось с моим отцом?
– Нет.
– Он умер.
– Когда?
– Две недели назад. Я был тогда "наверху". – Пабло кивнул в сторону гор.
– Но... как ты узнал?
– Каждый вечер мы слушали радиостанцию Серро-Эрмосо, обычно они нас поливали грязью, но иногда сообщали полезные сведения. Вокруг смерти отца поднялся шум. Радиостанция уверяла, будто он умер от горя, ибо я "связался с революционной сволочью". Они взяли интервью у матери, вынудив старуху подтвердить эту причину смерти. Мать назвала меня убийцей и заявила, что не желает меня больше видеть...
– Это и в самом деле был её голос?
– Без сомнения. И уж разумеется, радиостанция воспользовалась случаем лишний раз назвать меня изменником, человеком без родины и без чести...
– А как ты отреагировал на это?
Пабло пожал плечами.
– Лучше, чем можно было ожидать. Горы обладают какой-то волшебной силой. Наверно, сказывается разреженность воздуха... Там всё воспринимается по-другому, словно видишь мир в ином ракурсе... И люди кажутся иными. Но, разумеется, смерть отца меня огорчила.
– Надеюсь, ты не взял на себя вину, которую тебе хотят приписать? Ведь ты мне сам говорил, что у твоего отца сердце было не в порядке, ещё когда ты ходил в коротких штанишках. Теперь представь себе человека такого духовного склада, который был у дона Дионисио, вынужденного из страха перед коммунизмом поддерживать отвратительное ему, преступное и продажное правительство Карреры. По-моему, это противоречие грызло его изнутри и в конце концов убило. А сейчас они хотят сделать тебя козлом отпущения. Ты не должен идти на это.
Годкин заметил, что Пабло время от времени осторожно оглядывается, а когда они остановились перед витриной с дешёвыми пластмассовыми безделушками, Пабло пробормотал:
– Взгляни направо. Видишь типа в военной форме? Он следит за нами с той минуты, как мы вылезли из джипа.
– Но зачем?
– Думаю, его послал Валенсия, который хочет знать, куда мы пошли, что будем делать, а если можно, то и о чём будем говорить.
– Ты хочешь сказать, что он тебе не доверяет?
– Да. О себе я расскажу тебе после. А сейчас давай подловим шпика.
Они завернули за угол, и Пабло, схватив друга за руку, заставил прижаться, как и он сам, к стене. Годкина это забавляло. Послышались шаги, и они увидели следившего за ними человека – низкорослого индейца. Наткнувшись на Пабло, он от удивления замер, перестав даже дышать.
– Почему ты ходишь за нами? – крикнул Ортега, приближаясь к солдату, словно хотел его ударить. – Кто тебе поручил слежку?
Тот вытянулся и пробормотал:
– Но... господин капитан, я просто прогуливаюсь...
У Пабло затрепетали ноздри, он мерил солдата гневным взглядом.
– Передай тому, кто тебя послал, что он зря теряет время. А сейчас прочь с моих глаз!
Солдат растерянно отдал честь и торопливо зашагал по улице. Годкин улыбнулся, и Пабло, продолжавший какое-то время оставаться серьёзным, вдруг рассмеялся, посмотрев в глаза товарищу.
– Послушай, Билл, ты ни в коем случае не должен упоминать об этой сцене в своих статьях. Я ещё многое тебе расскажу, но при одном условии: ты дашь мне слово, что разговор наш будет сугубо конфиденциальным, не подлежащим опубликованию.
– Ладно, даю.
– Тогда пойдём съедим чего-нибудь. Я знаю в конце этой улицы одну таверну, где превосходно готовят рыбу. Обстановка там убогая, но нам полезно отдохнуть после однообразия североамериканских кафетериев и закусочных с их сутолокой, пластмассой, хромированным металлом и дневным освещением. Да, кстати, об освещении, у нас экономят электроэнергию, поэтому придётся обедать при свечах.
– Вот и превосходно!
В бледном небе над вершиной Пико-де-ла-Калавера мерцала вечерняя звезда. Где-то недалеко поднимался голубой дымок, в воздухе пахло патокой.
– Этот запах напоминает мне детство, луга Канзаса... – сказал Годкин, – родной дом, мать, жарящую пирожки, отца, сидящего на веранде с газетой.
– А мне он напоминает Пию и наши свидания в садах Эдема.
Название таверны – "Печальная сирена" – крупными зелёными буквами было написано на побелённой известью стене. Друзья заняли столик в углу маленького зала, у окна, выходящего в бухту. Годкин огляделся: стены и пол были покрыты циновками. На потолочных балках висели сети и пустые винные бутылки. На кухонной двери маслом была изображена толстая сирена с золотой чешуёй и розовой грудью, с закрытыми глазами возлежащая на пустынном берегу, – творение местного художника-примитивиста, как объяснил Пабло.
В зале никого, кроме них, не было. Толстый седой и смуглый мужчина с усами, как у турка, подошёл спросить, чего желают господа. Узнав Пабло, он пожал ему руку и шумно выразил радость, что видит его здесь.
– Это мой старый друг Макарио, хозяин таверны. Макарио, дай руку мистеру Годкину. Он гринго и журналист. Сегодня интервьюировал генерала.
– Что будете есть? – спросил хозяин таверны.
– Мы полагаемся на тебя, – сказал Пабло. – Принеси нам для начала своих креветок, а потом хорошей рыбы и, разумеется, вина, хлеба и сыра.
Годкин глядел на причалы, у которых стояли рыбацкие лодки. Море сейчас напоминало вино.
Пабло указал на белый дом в конце улицы, стоящий недалеко от берега.
– Здесь жил мастер Наталисио.
– Жил? – удивился Годкин.
– Да. Он погиб на прошлой неделе во время решающей атаки на город.
– Как?
– Шальная пуля. Он сидел у своего крыльца и работал, не обращая внимания на стрельбу.
– А где его сыновья?
– С нами. Они хорошие солдаты.
Годкин продолжал смотреть на бухту.
– Мне не терпится услышать твою историю, – сказал он после короткого молчания.
В таверну вошли двое и уселись за стол возле двери. Судя по всему, это были рыбаки.
– Пообещай мне ещё раз, что никому не расскажешь о том, что сейчас услышишь.
– Обещаю.
– Хорошо. Как ты знаешь, я почти без затруднений добрался до расположения войск Барриоса. Вечером я приземлился на посадочной площадке нашей плантации и той же ночью с проводником-пеоном, пройдя через заросли сахарного тростника, поднялся в горы с оружием и боеприпасами, которые сумел добыть.
– А как тебя принял Барриос?
– Сначала с некоторым недоверием. Но у него не было другого выхода. Он сделал меня секретарём бригады в звании капитана, и в этом, надо признать, есть что-то смешное. Капитан Ортега!
– Звучит неплохо.
– Но ни с чем не сообразно.
– Почему? Впрочем, продолжай.
Они решили, что благоразумнее будет говорить по-английски. Зал понемногу наполнялся, среди посетителей были и военные. Кто-то громко потребовал света, и хозяин зажёг на каждом столе свечу, вставленную в горлышко бутылки.
– С вершины Сьерры, – продолжал Пабло, – революционные штурмовые отряды нападали на окраины города и федеральные патрули. Происходило это обычно по ночам, и я оставался с шефом. В мои обязанности входило не только составлять приказы, но и вести своего рода дневник. Как ты можешь себе представить, эта удобная должность писаря не очень пришлась мне по душе. Я был в полной безопасности, пока мои товарищи рисковали жизнью и даже погибали...
– В конце концов, – прервал его Годкин, – ты приехал сюда не затем, чтобы умереть. Или я ошибаюсь?
– Нет, разумеется.
– Что же произошло между тобой и Валенсией?
– Поскольку я интеллигент, сын помещика и к тому же дипломат, он с первого же дня отнёсся ко мне с подозрением и недоброжелательством, которое я ощущал ежеминутно.
Стало совсем темно. Звёзды сияли над городом, над горами и морем.
– А что за человек Барриос?
– Вне всякого сомнения, он одарён. Мне известно одно доказательство его преданности делу революции, его мужества и стойкости. И знаешь, что меня в нём особенно поражает? Даже произнося речи, полные пророческой страсти, или принимая важные решения по военным вопросам, он помнит о правилах риторики и грамматики. – Пабло сжал руку друга. – Повторяю, Билл, мой рассказ сугубо конфиденциален.
Годкин кивнул.
– А Валенсия?
– Он идеолог, мозг революции. Превосходно знает, как вести партизанскую войну. Умелый и хладнокровный организатор. Знает, чего хочет, и добивается цели... не считаясь со средствами.
– Как он относится к генералу?
– Барриос для него флаг корабля, но у руля-то стоит он, Валенсия, использующий этот флаг для своих целей.
– А каковы они? – спросил Годкин, повинуясь профессиональной привычке, хотя заранее знал ответ.
– Во-первых, свергнуть правительство, а потом увести революцию влево.
– И ты думаешь, Барриос пойдёт в этом направлении?
Пабло пожал плечами.
– В конце концов он окажется между двух огней. С одной стороны, дьявольская изворотливость Роберто Валенсии, а с другой – всем известная неуклюжесть госдепартамента. К тому же Барриос уважает Валенсию и восхищается им, прислушивается к его советам. Валенсия же, подобно скульптору, лепит идеальный образ спасителя народа, мессии. Он внушает это Барриосу, и тот изо всех сил старается не подвести своего создателя. Уже в горах Барриос стал меняться, менялись его слова, поступки, взгляды.
Хозяин принёс дымящееся блюдо креветок, плавающих в жирном оранжевом соусе, большую бутыль вина и тарелку с ломтями козьего сыра и домашнего хлеба. Друзья принялись за еду.
– Валенсия пока нуждается в Барриосе, – продолжал Ортега. – Ведь крестьяне его обожают. За несколько месяцев революции вокруг фигуры генерала родились легенды. Среди простых людей ходят истории о чудесах, сотворённых Барриосом: например, будто бы достаточно прикосновения его пальцев – и больной исцелён, ещё рассказывают, что Барриоса одновременно видели в трёх местах, весьма удалённых одно от другого: в горах Сьерры, в Оро Верде и в Парамо. И всё это благодаря его чёрной бороде, придающей ему сходство с Хуаном Бальсой, которого народ считает святым.
Годкин смотрел на носовой фонарь лодки, входившей в бухту.
– Когда ты и Валенсия начали не ладить друг с другом?
– Как я тебе уже говорил, едва я появился в бригаде, он проникся ко мне недоверием. А в один прекрасный день часовые задержали крестьянина совсем близко от нашего лагеря. Будто бы это был солдат пятого пехотного полка, который пришёл с заданием убить Барриоса. Впрочем, это так и не удалось установить.
– Он был вооружён?
– У него был мачете, но у какого крестьянина его нет? Валенсия решил расстрелять его без суда. Я протестовал, Валенсия назвал меня "сентиментальным мещанином" и заявил в присутствии других офицеров, что такие люди, как я, не готовы к революции ни физически, ни морально.
Макарио принёс глиняный горшок с рыбой, пахнувшей чесноком и майораном.
– А потом? – спросил Годкин.
– Я настаивал на суде. К моему удивлению, Барриос меня поддержал. Я взял на себя защиту подсудимого. Мой аргумент был простым. Какие у нас основания не верить этому человеку, если он говорит, что хочет присоединиться к революционерам? Но Валенсия возразил: "Почему он решил это сделать ночью, незаметно подобравшись к часовым?" Короче говоря, суд в составе семи офицеров признал его действия подозрительными. Если бы мы его отпустили, он мог бы сообщить федеральным войскам сведения о нашем расположении. Если же мы оставили бы его у себя, он, вполне возможно, убил бы кого-нибудь из наших офицеров, а то и самого Барриоса.
– И его приговорили к смерти?
– Что такое жизнь? Мы не могли позволить себе роскошь истратить пулю на этого индейца, и один из солдат всадил ему в горло нож. Ну ладно, давай браться за рыбу!
Наполнив свои тарелки, друзья с аппетитом принялись за еду, молча чокаясь время от времени.
– С тех пор, – немного погодя заговорил Ортега, – мои отношения с Валенсией окончательно испортились. Мы с ним говорим лишь в самых необходимых случаях. Однажды я услышал, как он назвал меня в разговоре с кем-то "нашим поэтом-бухгалтером". Я едва не выплеснул ему в лицо кофе, который в это время пил, настолько меня задели его слова... Вскоре я попросил Барриоса разрешить мне участвовать в деле.
– Ну?..
– Я вызвался возглавить ночную вылазку в Соледад-дель-Мар. Это была особенно дерзкая операция. Нас было всего два десятка; восемь человек, отлично владеющих мачете, шли впереди, чтобы бесшумно снимать часовых и прокладывать путь для остальных, которые под моим командованием должны были подобраться к западной стене казармы пятого пехотного полка, обстрелять окна и бросить внутрь здания как можно больше ручных гранат. Окон было двенадцать, и нас тоже. Мне досталось последнее, или первое, если считать с севера.
Годкин слушал, замерев с вилкой в руке. Пабло катал шарик из хлебного мякиша, на минуту вспомнив Панчо Виванко.
– Лунной ночью мы спустились в долину... Вёл нас один из сыновей мастера Наталисио. Итак, Пабло Ортега, кандидат в герои, возглавил вылазку против пятого пехотного полка... Те, что шли впереди, хорошо справились со своей задачей, и мы приблизились к казарме, никем не замеченные. Мы уже различали шум голосов и смех внутри... Несколько секунд мы лежали у стены, и сын Наталисио шепнул мне: "Слышишь?" Я спросил: "Что?" – "Река бежит под землёй". Я приложил ухо к земле, но услышал лишь биение собственного сердца. Вот рту у меня было сухо, грудь сдавило, в горле стоял комок. Но голова была светлой, как никогда. Я должен был выполнить это задание во что бы то ни стало, и вдруг я понял, что воюю не против правительственных войск, но против Роберто Валенсии. Поэтому я и вызвался командовать ночной вылазкой!
В зале раздался чей-то оглушительный хохот. Макарио принёс ещё один горшок с рыбой. На берегу кто-то играл на гитаре.
– Я отдал команду действовать, – продолжал Пабло. – Каждый, пригнувшись, подбежал к своему окну. Было условлено, что я стреляю первым. Автоматной очередью я разбил стекло своего окна. И сейчас же выстрелили другие... Я сорвал с гранаты предохранитель и бросил её, упав на землю. Раздался взрыв, за ним ещё и ещё... Я бросил вторую и третью гранаты. Потом свистнул – это был сигнал к отходу.
– Невероятно!
– Меня не удивляет, что тебе это кажется невероятным, даже мне теперь всё это представляется сном или выдумкой.
– А что было в казарме?
– Мы были уже в горах и достигли своих постов, когда услышали сигналы тревоги и треск автоматов. Потерь у нас не было, и на рассвете мы вступили в лагерь.
– И что же Валенсия?
– Да ничего. Даже не взглянул на меня. С его точки зрения, я просто выполнил свой долг. И тут он был прав.
– А ты... Что было с тобой после этого?
– Я не мог заснуть. Я думал: сколько людей было в помещении, куда я бросал гранаты? И скольких я убил? Меня удивляло, что при этом я остаюсь сравнительно спокойным. Я уже говорил, что в горах всё воспринимается иначе... Только после захвата Соледад-дель-Мар я узнал, что в ту ночь наш штурмовой отряд уничтожил по крайней мере двадцать солдат, ранив, по-видимому, около сорока. С тех пор я много думаю, и мне никак не удаётся объяснить мой поступок... ну, то, что я бросал гранаты в безоружных, застигнутых врасплох людей... моими революционными взглядами. Я добровольно вызвался выполнить это задание, потому что хотел доказать себе, другим и главным образом Валенсии, что я не трус. И за это люди поплатились жизнью. Но больше всего меня пугает, что я не думаю об этих солдатах, как о людях, они для меня некая абстракция...
– А они защищали другие абстракции: закон, правительство, честь полка и тому подобное...
– Вот именно! Но разве это не ужасно?
– C"est la guerre , как сказал бы наш незабвенный Мишель Мишель.
– Моя мать была потрясена, узнав, что я потерял невинность в зарослях сахарного тростника. На самом же деле мы теряем невинность не в объятиях женщины, а впервые убивая...
Какой-то солдат запел. Другой, с дружеской улыбкой глядя на Пабло, поднял стакан. Ортега ответил ему тем же.
– Что же теперь? – спросил Годкин.
– Скоро мы победим. Это вопрос недель или даже дней. Признаюсь, победы я боюсь больше, нежели борьбы. Нам придётся платить за перемены, которых добивается Валенсия. А стоят ли они того? И разве нет иного пути для достижения социальной справедливости?
Он взглянул в окно: моторный катер с красным фонарём на носу входил в бухту.
– Когда мы обосновались в нашем... я хочу сказать, в поместье Ортега-и-Мурат, мы с Валенсией поспорили в присутствии Барриоса. Валенсия обвинил меня в интеллигентской нерешительности и мягкотелости; по его словам, чувство вины, скорее мнимой, чем действительной, не позволяет мне занять решительную позицию. Он так и спросил: "Чего ты хочешь: освободить народ от тирании и нищеты, или только успокоить свою совесть?" Я был разъярён, потому что этот дьявол коснулся моей кровоточащей раны. Он старался убедить меня, что умеренность ни к чему хорошему не приводит, ибо история доказала, что только насилием можно добиться великих социальных перемен. Я возразил ему, что если идеология забудет о морали, она перестанет быть гуманной и в конце концов то, что было средством, превратится в самоцель. Мы зашли бы ещё дальше, если бы Барриос не прервал наш спор одной из своих безукоризненно построенных фраз.
– И что же ты думаешь делать?
– Продолжать и дойти до конца. Не уподобляться тем интеллигентам, которые в подобных случаях, обидевшись, пополняют ряды контрреволюционеров. Пускай я буду занозой, не дающей покоя Роберто Валенсии, но революции не изменю.
Годкин с сомнением покачал головой.
– Боюсь, что рано или поздно тебя раздавят. Я уже вижу, как ты эмигрируешь в Майами. Либо...
– Буду арестован или расстрелян?
– Кто знает?
41
Из записной книжки Уильяма Б. Годкина:
22октября. Теперь я "персона грата" для верховного революционного командования. Валенсия утвердил текст моего интервью, не вымарав ни единой запятой. Амальпресс, к моему удивлению, опубликовало его также без сокращений. Получил номер "Вашингтон Пост", в котором мой материал с портретом генерала занял три колонки. Я представил Барриоса в весьма благоприятном свете и обратился к странам Американского континента с призывом оказать моральную поддержку повстанцам. В общем, своего рода покаяние в прошлых грехах, когда я в меру своих сил способствовал Хувентино Каррере захватить власть.
Профессор Леонардо Грис был прав, когда говорил, что каяться – любимое занятие так называемых совестливых людей.
23 октября. Хорошие новости! Гарнизон Пуэрто Эсмеральды примкнул к повстанцам и по приказу революционного командования выступил на Лос-Платанос, падение которого неминуемо.
Мы готовимся (употребляю множественное число) к решительному наступлению на Серро-Эрмосо, "чтобы поразить чудовище в голову" – как выразился Барриос.
Сегодня утром мне случайно удалось на пять минут овладеть вниманием Валенсии. Я задал ему несколько осторожных вопросов, касающихся идеологии. Этот человек скользкий, как угорь. Он отвечал уклончиво и кончил так: "Сейчас не время обсуждать эти проблемы. Борьба ещё не закончена, и о революции в собственном смысле слова можно будет говорить только после победы".