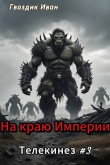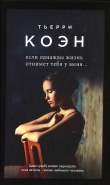Текст книги "Господин посол"
Автор книги: Эрико Вериссимо
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 27 страниц)
"Зубы у нее настоящие, – подумала Нинфа не без патриотической гордости, – а не вставные, как у американских красоток из театра, кино и телевидения".
Когда принесли еду, мадам Угарте с завистью окинула взглядом тарелки Росалии: листья латука, кружочки яйца, лук, свекла, консервированные абрикосы и горсточка творога. И ничего такого, от чего толстеют. Не удивительно, что у этой сучки такая фигура. Донья Нинфа посмотрела на свою тарелку: блестящие от сала свиные котлеты плавали в жирном соусе, окруженные горками картофельного пюре.
Подруги принялись за еду. Стройные и элегантные манекенщицы под звуки откуда-то льющейся вкрадчивой музыки прохаживались между столами, демонстрируя весенние модели. В воздухе носился аромат цветущих яблонь.
Время от времени супруга генерала поглядывала на Росалию – та клевала, как птичка. Ее едва заметная шепелявость очень идет к этому вздернутому носику, – размышляла сорокалетняя матрона. – А карие глаза с забавными золотыми искорками, такие нежные на первый взгляд, таят чувственность, которая прорывается наружу, когда ее ласкают.
К любовнице посла Нинфа относилась со сдержанной нежностью и в то же время враждебно, как молодящаяся мать относится к взрослой дочери, которая не только готовится сделать ее бабушкой, но и становится соперницей, оспаривающей внимание мужчин.
Росалия тоже исподтишка поглядывала на приятельницу. Ее отношение к генеральше было двойственным. Иногда Нинфа раздражала ее. Она была властной, резкой, и, подчинив себе Росалию с первого же дня их знакомства, пыталась навязывать свою волю даже в мелочах: "Не покупай этого, а это купи", "Синий цвет тебе не идет, возьми серый". А порой добродушная и энергичная дама вызывала у Росалии симпатию. Нинфа любила разражаться напыщенными тирадами и с не меньшим удовольствием отпускала соленое словцо. Пальцы ее всегда были унизаны кольцами, а объемистую грудь украшали аляповатые брошки; своими брелоками, медальонами и прочими побрякушками сеньора Угарте в иные дни напоминала маршала Геринга в зените славы. Сейчас помада с ее мясистых губ, измазанных жиром, потекла по подбородку. "И почему она не удалит волосы на верхней губе?" – подумала Росалия и вдруг сообразила, что усики делают Нинфу похожей на тетю Микаэлу, оставившую о себе самые плохие воспоминания. Суровая и неласковая тетка постоянно твердила Росалии о том, что она бедная сирота. ("Уж не думаешь ли ты, что ты принцесса, которой под пару только сын президента? Хватай скорее этого Виванко. Он не красавец, зато порядочный человек, дипломат, поговаривают даже, что его скоро пошлют в Париж".)
– Мне что-то не по себе, дорогая, – прошептала Нинфа.
– Почему?
– Дела в Сакраменто идут не блестяще. Приближаются выборы, а по конституции генералиссимус не может больше выставлять свою кандидатуру.
– Я не разбираюсь в политике, донья Нинфа.
– Речь не о политике, девочка, а о нашей судьбе. Если на выборах одержит верх оппозиция, нам дадут коленкой под зад.
Нинфа заметила, что Росалия покраснела, и подумала: стесняется слов, а наставлять мужу рога ей не стыдно.
Когда официантка принесла десерт (яблочный пирог для генеральши и смородиновое желе для Росалии), разговор принял оборот, которого Росалия опасалась больше всего.
– Давай, дорогая, выложим карты на стол, – сказала Нинфа, вызывающе уставившись на собеседницу. – Откровенность будет только на пользу. Я все знаю о тебе и о доне Габриэле Элиодоро.
– Что все? – Росалия инстинктивно заняла оборону.
– Не стоит запираться. Это секрет Полишинеля. Еще в Серро-Эрмосо все знали об этом, за исключением, конечно, жены дона Габриэля Элиодоро. Донья Франсискита привыкла витать в облаках.
Губы Росалии задрожали, как и кусочек розового желе, который она подносила ко рту.
– Не расстраивайся, – успокоила ее Нинфа. – Я тебя не осуждаю. На твоем месте я поступила бы точно так же. Дон Габриэль Элиодоро настоящий мужчина, не то что твой муж.
Опустив глаза, Росалия кромсала желе на мелкие кусочки, которые потом размяла и оставила.
– Ну, смелей! – подбодрила ее Нинфа. – Подруги мы или нет? Вчера вечером Панчо позвонил к нам и спросил, у нас ли ты. Уго, старая обезьяна, понял все и наврал, будто мы с тобой пошли в кино. Ты можешь рассчитывать на нас, дурочка. Мы все на стороне дона Габриэля Элиодоро и на твоей.
Росалия в замешательстве разглядывала розовую кашицу у себя на тарелочке.
– Послушай, милочка, тебе еще не раз понадобится это... как его... Ну, как это называется, когда в детективных фильмах кто-нибудь хочет доказать, что он был в другом месте, когда кого-то убили? Алибили?
– Алиби, – прошептала Росалия.
– Вот, вот. Тебе оно еще понадобится. Ты можешь спокойно обедать с послом и все прочее... А я звоню Панчо и говорю, что у нас с тобой свои дела... Ты же просишь дона Габриэля послать ко мне посольскую машину. С Альдо, разумеется. Можем начать сегодня... Ты останешься со своим возлюбленным, а я прогуляюсь... в Арлингтон, Маунт-Вернон, Бетесду... – Нинфа подмигнула. – Получится отличное алиби.
– Для нас обеих, не так ли? – осмелела Росалия.
Нинфа усмехнулась.
– Конечно. Ты умная девочка. Нам нужно быть союзницами. Жизнь коротка, и все мужчины – свиньи. Все без исключения. А теперь, дорогая, поговорим о другом. Посмотри, какое красивое платье. Боже мой, если бы у меня была твоя фигура, я купила бы себе это платье... И многое другое сделала бы, очень многое...
Она подозвала официантку и попросила счет.
– Сегодня плачу я. – Нинфа снова подмигнула.
В эту минуту Росалия ненавидела ее, она была готова сквозь землю провалиться.
9
В тот вечер Пабло Ортеге захотелось повидаться с Леонардо Грисом. Он позвонил из автомата.
– Как вы смотрите на то, чтобы нам пообедать вместе в одном из ресторанов Джорджтауна?
– Неплохое предложение, – ответил Грис. – А ты не боишься себя скомпрометировать?
– Вы это серьезно, профессор?
Пабло услышал теплый и душевный смех друга.
– У меня к вам один вопрос, хотя и не очень серьезный. Итак, в семь часов в "Кэрридж Хаус".
– Отлично!
Без пяти семь Пабло Ортега поставил свою машину на одной из улиц, пересекающих Висконсин-авеню, и направился в ресторан. Фасад "Кэрридж Хаус" с его деревянным портиком, выкрашенным в черный цвет и украшенным фонарями с коляски колониальных времен, почему-то напоминал Пабло морг.
Войдя в ресторан, Пабло не сразу отыскал друга. Леонардо Грис сидел за столиком в углу главного зал, который в этот час был полон.
– Слава богу! – воскликнул Пабло, усаживаясь. – Наконец-то есть с кем поговорить, отвести душу... Сегодня у меня отвратительный день – ужасно болит голова.
– Как прошла церемония?
– Гораздо лучше, чем можно было ожидать. Трудно поверить, но наш посол выглядел весьма импозантно. Он держался, как опытный дипломат.
– Ничего не скажешь, внешность у него для этой роли подходящая.
– Больше того, от него исходит какой-то магнетизм. У меня нет никаких сомнений: президенту Эйзенхауэру наш индеец понравился. И не удивительно. В жизни не встречал более обаятельного негодяя.
Когда покончили с коктейлями, Грис сказал:
– Я неспроста спросил, не боишься ли ты себя скомпрометировать. Что скажет Габриэль Элиодоро, если узнает, что ты поддерживаешь дружбу с таким ренегатом, как я?
– Очевидно, ему уже известно об этом.
Грис спокойно кивнул головой.
– Даже наверняка. Две последние недели какой-то неизвестный как тень следует за мной по пятам. Я его видел даже на университетской спортивной площадке. Когда я возвращаюсь домой, он едет за мной на синей машине. А когда я выглядываю из окна квартиры, он стоит на углу...
– Вы уверены, что это один и тот же человек?
– Абсолютно. Я убежден также, что немного погодя он появится в дверях этого зала, постаравшись, чтобы я его заметил. И то, что он старается мозолить мне глаза, наводит меня на мысль, что тот, кто его посылает следить за мной, видимо, хочет меня запугать.
– Если бы только это. Вам надо быть осторожнее. – Пабло жевал маслину. – А кто этот тип? Латиноамериканец?
– Нет. Высокий, статный блондин. Мне почему-то кажется, что он ирландец. Однако поговорим о более приятных вещах. Что будем есть? Я предлагаю лангуста по-ньюбергски.
– Превосходно.
– Вино?
– На ваш вкус. Но не забудьте, что я вас пригласил обедать...
– Поругаемся при расчете.
Пока профессор изучал карту вин, Пабло его разглядывал. В свои пятьдесят семь лет Леонардо Грис казался таким же сильным и энергичным, как и десять лет назад, когда преподавал литературу в федеральном университете Серро-Эрмосо. Он овдовел сорока с небольшим лет и так и не женился. У Гриса не было детей, и поэтому к своим студентам он питал отцовскую привязанность. Взгляд его глаз был на редкость выразительным: добрый и вместе с тем твердый, серьезный и веселый, полный веры и скептический. Гладкая кожа его смуглого лица еще сохранила упругость, а иссиня-черные брови красиво контрастировали с серебряной головой. На лекциях и докладах Грис умело пользовался своим низким и богатым интонациями голосом. "Этот человек, – думал Пабло, – один из очень немногих, в чьем присутствии я чувствую себя настолько свободно, что готов открыть душу, поделиться своими самыми сокровенными мыслями".
– Прошлой ночью, – сказал Грис, когда принесли еду, – мне снился странный сон. Будто на пустынной темной улице я встретил доктора Морено. Я поспешил к нему, хотел обнять, но он, заметив меня, ускорил шаг и жестами показал, что не желает со мной говорить. Я проснулся в тревоге. И, подумав, пришел к заключению, что сон мой вызван чувством вины перед доктором Морено.
– А почему вы должны чувствовать себя виноватым перед ним? Потому лишь, что он мертв, а вы живы?
Грис с сомнением пожал плечами.
– Если размышлять здраво, я не виноват... Ведь я хотел остаться с Морено, но он настоял, чтобы я бежал. И не только настоял – приказал.
Ярко-красный панцирь лангуста на тарелке Гриса напомнил вдруг Пабло его картину, которую он не мог кончить уже несколько месяцев.
– В ту ночь в мексиканском посольстве, – сказал он тихо, продолжая разглядывать лангуста, – нам не удалось поговорить как следует. После того, как вам было предоставлено политическое убежище, посол поместил вас в комнатах верхнего этажа, лишив возможности поддерживать связь с внешним миром... Признаюсь, не раз при наших встречах здесь, в Вашингтоне, мне хотелось поговорить об этом, но я не решался...
– Вот видишь! – рассмеялся Грис. – А все потому, что в глубине души ты согласен со мной: мне не следует слишком гордиться тем, что я остался жив в ту трагическую ночь.
– Ну, это вы зря, профессор! Просто мне не хотелось возвращаться снова к грустным воспоминаниям. Я могу совершенно откровенно сказать вам, что я об этом думаю. Изгнание не тяготит вас, ваше моральное и материальное состояние превосходны, ваши коллеги по университету и студенты восхищаются вами и уважают вас, вы пользуетесь относительным комфортом, ходите в библиотеку Конгресса, посещаете картинные галереи, концерты, интересные спектакли... А отвратительный (или прекрасный) призрак, притаившийся у вас в мозгу, оживает, едва мы засыпаем, чтобы прошептать нам на ухо обвинение, которого мы так боимся... Ведь согласно мифологической традиции к слову "изгнание" положено добавлять эпитет "горькое".
– Возможно, ты прав.
Наступило короткое молчание, и Пабло Ортега занялся лангустом, а когда он поднял глаза на друга, тот сказал:
– Я уверен, что доктор Хулио Морено не кончил жизнь самоубийством.
– Что? – Пораженный Ортега наморщил лоб.
– Никто не знал Морено, как я. Он ценил жизнь не только других, но и свою собственную. И никогда не брал в руки оружия. В ту ночь у него не было при себе даже перочинного ножа... Ты помнишь, что для нас тогда создалось безнадежное положение?.. Габриэль Элиодоро со своими наемниками наступал на дворец. Нас было двести человек, готовых сопротивляться до конца. Морено созвал нас и сказал: "Я не хочу, чтобы кто-нибудь жертвовал собой. Даже мысль о бесполезной смерти мне ненавистна. Сложите оружие и поступайте затем, как заблагорассудится: сдавайтесь или бегите. Я вас освобождаю от каких бы то ни было обязательств по отношению к моему правительству. Спасибо за все. И да благословит вас бог!" Когда я возразил, что в случае ареста ему грозит расстрел, Морено ответил: "От мертвого или от живого, им от меня не избавиться".
Грис отпил вина, бросил взгляд на дверь, а затем снова посмотрел на друга.
– За пятнадцать минут до того, как дворец был захвачен, я поспорил с Морено. Мы остались одни в огромном здании. Он был бледен, в холодном поту и дышал с трудом. Я не соглашался уходить, но он продолжал отсылать меня. И лишь один довод мог меня убедить: продолжать дело революции за рубежом, поскольку новое правительство Морено считал "белым". "Я очень стар и слишком болен, чтобы сопровождать тебя", – сказал он и буквально вытолкал меня из опустевшего дворца. Это решение покинуть друга одного в окружении врагов было для меня самым тяжелым за всю жизнь. Несколько минут спустя, Пабло, я стучался в твою дверь. А остальное тебе известно.
– Но для чего Каррера и его бандиты создали версию о самоубийстве Морено?
– Сохранить жизнь человеку, который пользуется уважением не только у себя в стране, но и за границей, – значит, стараться удержать в руках горячую картофелину. Если бы они его расстреляли, мировое общественное мнение заклеймило бы их позором. Выдумав же историю о самоубийстве, злодеи не только избавились от затруднения, но и смогли совершить еще большую подлость – солгать, будто Морено покончил с собой потому, что боялся расследования деятельности его правительства, угрожавшего ему раскрытием темных делишек, которые он якобы совершал ради собственной выгоды. Теперь понимаешь?
Ортега был поражен.
– Значит, не исключено, что Хулио Морено был убит самим Габриэлем Элиодоро?
Грис пожал плечами.
– Здесь я ничего не могу утверждать. Думаю, что из правительственного дворца его увезли в какую-нибудь загородную тюрьму и только потом тайно убили. Показательно, что ни одному журналисту, ни одному иностранному корреспонденту не было разрешено увидеть его труп. Сакраментские газеты ограничились лишь кратким сообщением о самоубийстве Морено. Ни одного снимка не было опубликовано. И до сегодняшнего дня никто не знает, где его похоронили. – Помолчав, Грис повторил: – Я убежден, что доктор Хулио Морено не кончал жизнь самоубийством. – Но, заметив, что Пабло слишком взволнован, переменил тему: – Какие у тебя известия от дона Дионисио?
– Два дня назад я получил письмо от родителей... но так и не распечатал. Мне все еще не разрешают возвратиться в Сакраменто.
– Подумать только, в какую историю я тебя впутал, – Грис ласково коснулся руки Пабло. – Иногда я вспоминаю наше бегство в ту ночь... и не знаю, как тебя отблагодарить за то, что ты для меня сделал.
– Не говорите об этом, профессор. Помощь, которую я вам тогда оказал, была самым полезным и достойным делом за всю мою жизнь.
– И поверь, друг мой, что совершил его ты не напрасно, – прошептал Грис, незаметно поглядывая по сторонам. – Мы знаем, Каррера не допустит, чтобы выборы в этом году проводились в соответствии с конституцией. Не будет даже подобранного им самим марионеточного кандидата. Победа Фиделя Кастро на Кубе оказала огромную поддержку нашему делу. Смею тебя заверить, близится революция...
– Прошу вас, – прервал его Пабло, – ничего мне не рассказывайте.
Грис улыбнулся.
– Я тебе полностью доверяю.
– Но я не хочу ничего знать: ни фактов, ни имен. Это только усилит мое смятение...
– Я и сам знаю далеко не все. Однако твоя просьба мне понятна. Что ж, поговорим о другом. Ты сейчас пишешь? Рисуешь?
Ортега с унылым видом покачал головой.
– Ничего я не делаю. Чувствую себя совершенно опустошенным. Живу в постоянной тревоге, никому не доверяю. Глотаю аспирин и успокоительные средства, будто это может помочь мне. А в остальном я по-прежнему подчиняюсь контролю, который на расстоянии осуществляет исключительно ловкий оператор, донья Исабель Ортега-и-Мурат. Она пользуется аппаратом, старым, как мир, но очень действенным: человеческим сердцем, в данном случае сердцем моего отца.
– Значит, ты уподобился спутнику крупной планеты, – сказал Грис.
– И самое отвратительное, профессор, что вращаюсь я вокруг мерзкого солнца. Разве не позор?
Леонардо Грис коснулся пальцем своей груди там, где помещается сердце.
– Кстати, как твои сердечные дела?
– Ничего серьезного. Одна полупроститутка сегодня, другая завтра... У меня все определяется категорией "полу". Я полупоэт, полухудожник. Сплю с полупроститутками, отчего получаю полуудовольствие. И что еще хуже – я лишь полустыжусь всего этого...
– Вот он – моя тень! Субъект в светлом дождевике...
Пабло обернулся и глазами нашел человека, о котором говорил Грис.
– Блондин со шляпой в руке?
– Он. Обрати внимание, как пристально он нас разглядывает.
Пабло поднялся, чтобы подойти к неизвестному и спросить, что ему надо, но Грис, решительно дернув его за полу пиджака, заставил сесть. Человек в светлом плаще резко повернулся и вышел на улицу.
– Спокойно, Пабло. Я уверен, что они хотят лишь припугнуть меня, и не собираюсь притворяться, будто не понимаю этого. Утром мне звонили по поводу моего письма директору "Пост", которое опубликовано сегодня. Ты его читал? Отлично. Мне сказали по-английски, без малейшего акцента: "Если ты дорожишь своей шкурой, братишка, не пиши больше писем в газеты". Но поговорим лучше о другом. Бываешь на концертах?
– Как всегда. Только музыка помогает мне сохранить в душе что-то человеческое. Однако квартеты Бартока слишком напоминают о раздробленности мира и поразительно точно воспроизводят лабиринт, в котором мы заблудились, поэтому у меня не хватает больше духа их слушать. Мне и так тяжело. Я предпочитаю итальянские примитивы – они мне говорят о мире, где живут ангелы, возможно, вымышленном, но прекрасном. И разумеется, всегда остается Иоганн Себастьян, утверждающий, что жизнь и мир просты, а любовь возможна. И, кстати, уж если мы заговорили о музыке, как поживает ваша виолончель, профессор?
– Плохо. Плесневеет в пыльном углу. Я неделями не подхожу к ней.
– Никогда не забуду, как одним октябрьским вечером вы играли Баха для меня и Гонзаги. Помните? В гостиной сумрак, окно открыто, светит полная луна. Это было так прекрасно.
Грис печально улыбнулся. И Пабло подумал: "Я хотел бы, чтобы этот человек был моим отцом". Впрочем, он тотчас устыдился собственных чувств и, густо покраснев, машинально отпил большой глоток вина.
Когда принесли кофе, Грис спросил:
– Как, по-твоему, может один и тот же человек играть Баха, ну, скажем... "Пассакалию" на виолончели и готовить революцию, обдумывать, где приобрести оружие и боеприпасы, как незаметно провезти их в Сакраменто... с кем установить контакты, в каких стратегических пунктах высадить воздушные десанты и так далее и так далее. Более того, может этот человек быть пацифистом, отвергающим всякое насилие и мечтающим о тихом кабинете, где он будет читать Платона или исследовать творчество Гонгоры?
Пабло ненадолго задумался.
– Может. И это меня пугает. – Он отщипнул хлебный мякиш и принялся катать шарики, вспомнив о Билле Годкине, который всегда носил в кармане корм для птиц и белок.
– А каким, по вашему мнению, доктор Грис, должен быть революционер?
– Как говорил один из персонажей Мальро, революционер – это манихеист , человек действия.
– А как вы оцениваете свою революционность?
– На тройку , не больше. Мы, так называемая интеллигенция, никогда не станем людьми действия. Мы отвергаем политические и философские абсолюты. Не соглашаемся с тем, что существует только черный и белый цвет, верим в оттенки, признаем сложность людей и их проблем. А все это камни преткновения на пути революции, все это приводит в ярость людей действия. Кажется, другой персонаж Мальро сказал, что многие пытаются найти в апокалипсисе решение своих личных вопросов...
Пабло задумчиво катал хлебные шарики.
– Войди в мое положение, – продолжал доверительно Грис. – Я не манихеист и не сторонник активных действий. Считаю себя скорее созерцателем. Если я останусь безразличен к судьбе своей родины, моя совесть возмутится. Но когда я принимаю участие в революционном заговоре, человек, играющий на виолончели, читающий Платона и Гонгору, взирает на меня недоверчиво и тоже осуждает меня со своих позиций. Если же революция победит, вполне возможно, настанет день, когда меня осудят мои же товарищи. В общем, интеллигенту на роду написано подвергаться осуждению.
– Но есть же какой-то выход!
– Что бы ни случилось, я должен сдержать слово, которое дал покойному другу. Я закрыл на все глаза, вступил в заговор и теперь пойду до конца.
Когда официант протянул счет Грису, Ортега схватил его и уплатил, несмотря на протесты друга.
Грис заметил человека в светлом дождевике, стоящего на углу, едва они вышли из ресторана и сделали несколько шагов. Ортега тоже увидел его и что-то угрожающе проворчал.
– Не обращай внимания, – сказал профессор.
Однако Пабло быстро направился к неизвестному и спросил в упор:
– Что вам нужно от моего друга?
Тот отступил назад, словно приготовился к обороне.
– Не понимаю, о чем вы говорите.
Сжав кулаки и стиснув зубы, Ортега едва сдерживался, чтобы не ударить его, хотя и знал, что в драке победит верзила.
– Отлично понимаешь! Только зря ты теряешь время. Доктор Грис не из пугливых. Передай это тому, кто тебе платит за твою грязную работу.
– Вы с ума спятили, – пробормотал неизвестный с принужденной улыбкой и, повернувшись на каблуках, удалился. Грис подошел к Пабло.
– Ты рискуешь получить хорошую трепку. Ведь он, судя по всему, боксер.
Ортега дрожал от негодования. Потухшая сигарета приклеилась к губе. Некоторое время они шли молча. Перед Пабло стояло лицо человека в светлом дождевике, красноватое, с квадратными челюстями и жестоким ртом. Кто ему платит? Угарте? Да, только этот старый полицейский пес мог пойти на такое. Пабло выплюнул сигарету.
Грис взял своего бывшего ученика под руку и постарался отвлечь его от невеселых мыслей.
– Меня пригласили выступить в мае с докладом в университете. Я расскажу правду о нашем правительстве...
– Я тоже приду, можете не сомневаться.
– Нет, Пабло, прошу тебя, не надо напрасно рисковать.
Молча они дошли до улицы Q и зашагали по ней в восточном направлении. В квартале, где стоял дом, в котором жил д-р Грис, когда-то, еще при царе, находилось русское посольство.
– Зайдешь?
– Конечно. Я не успокоюсь, пока вы не окажетесь дома, за крепкими дверями.
Квартира профессора была на четвертом этаже. Только убедившись, что там никто не прячется, Пабло собрался уходить.
– Тебе мерещатся призраки. – Профессор улыбнулся. – Но как бы там ни было, еще раз большое спасибо... А может, останешься выпить рюмку коньяку? Послушать Баха или Вивальди?
– Спасибо. Но сегодня мне надо выспаться. У меня был тяжелый день.
Они пожали друг другу руки. Выйдя на улицу, Пабло внимательно посмотрел по сторонам, но не заметил ничего подозрительного. Он зашагал к тому месту, где оставил машину. Q-стрит?.. Пабло вдруг вспомнил, что на этой улице живет Гленда Доремус. Девушка написала свой адрес карандашом на картонной папке диссертации, 3050, Q-стрит. Достаточно сделать несколько шагов, и он найдет ее дом, но на каком этаже квартира Гленды, он не помнил...
Пабло остановился и стал глядеть на освещенные окна дома, где жила девушка.
10
Растянувшись на софе без туфель и чулок, Гленда Доремус смотрела на экран телевизора и старалась сосредоточиться на том, что там происходило. На работе ей удалось забыть о своем желудке. Но едва она вернулась домой, как снова появилось это неприятное ощущение: голодные колики и тошнота. Она подозревала, что у нее язва желудка, если не что-нибудь похуже. Однако рентгеновский снимок, сделанный несколько дней назад, не обнаружил ничего опасного, и врач полагал, что ее боли имеют психопатическое происхождение. Он посоветовал обратиться к психоаналитику. Ну уж нет! Ни за что!
Сегодня Гленда отказала коллеге из Панамериканского союза, пригласившему ее пообедать в "Альдо". И сейчас, едва подумав о еде, она почувствовала тошноту. Между тем Гленда знала, что, только съев что-нибудь, она избавится на время от этих болей в пустом желудке.
На экране стреляли ковбои. Гленда встала и выключила телевизор. В кухне она достала из холодильника бутылку молока и отпила глоток. Ничто ей не напоминало сильнее отчий дом, чем вкус молока. Она вернулась в гостиную, думая о родителях, и остановилась перед их портретами на письменном столе, стоявшими рядом с цветами. Гленда вынула из ящика стола письмо, которое получила от отца этим утром, и, сев на кресло, перечитала его:
"Дорогая девочка, почему ты не возвращаешься домой? Вашингтон, вероятно, очень красив теперь, когда цветут вишни, но у нас в Атланте персиковые деревья тоже в полном цвету. Мы с матерью не понимаем, почему ты до сих пор никак не можешь решить, что же тебе изучать. В прошлом году ты занималась английским языком и литературой. А теперь почему-то взялась за историю Латинской Америки. Что это тебе даст?
У твоей матери по-прежнему расширение вен, она прикована к постели, и мы очень озабочены состоянием ее здоровья. Как и я, она была огорчена тем, что ты не приехала к нам во время летних каникул, и тем, что, по всей вероятности, не сможешь провести с нами и рождество. Почему ты так ненавидишь Юг? В конце концов и в Вашингтоне негров больше, чем белых. Ты пишешь, что у тебя там нет друзей и ты не чувствуешь себя счастливой. Почему же ты продолжаешь жить в этом городе, который сама считаешь скучным и неинтересным? Приезжай домой, девочка. Ты не должна портить свою жизнь из-за того, что случилось давно и не по твоей вине. Если кто в этом виноват, так это я, и бог свидетель, я не раскаиваюсь в своем поступке".
Гленда разорвала письмо на клочки и бросила их в корзину. Отец не имел права касаться этого!
Ей захотелось принять ванну. Желание это появлялось у Гленды несколько раз в день, даже на работе. Ей вдруг казалось, что она грязная, от нее дурно пахнет и что другие отшатываются от нее с отвращением. Гленда понимала, что это глупо, но ничего поделать с собой не могла. Ощущение собственной неряшливости делало ее замкнутой, недоверчивой и необщительной.
Гленда вошла в ванную, разделась и остановилась, разглядывая себя в зеркале. Она ощупала грудь и живот, но без сладострастия или гордости, а как врач. Она искала затвердение, которое могло оказаться злокачественной опухолью. Гленду преследовала мысль, что она умрет от рака, и девушка старалась, хотя и тщетно, избавиться от этой навязчивой идеи. Иногда она даже смеялась над собой. Однако дурное предчувствие не исчезало, омрачая ее существование.
Вдруг Гленде показалось, будто она чувствует на себе взгляд мужчины. Она стыдливо завернулась в полотенце и сбросила его, только став под душ. Она намылилась, покрыв все тело пеной, и с наслаждением отмывала мнимую грязь. Гленда не любила свое тело, больше того, оно вызывало в ней отвращение. Трудно быть женщиной. Каждый месяц, в определенные числа она становилась раздражительной и угрюмой. Ей хотелось куда-нибудь спрятаться, исчезнуть с лица земли. Размышляя об этом, Гленда орудовала губкой с такой яростью, что оцарапала кожу в нескольких местах.
"С этим нужно что-то делать, – думала она, – иначе я просто сойду с ума".
Теплая вода успокоила Гленду, и в спальню она вошла, чуть ли не посмеиваясь над своими страхами. Разумеется, все это фантазия, надо просто совладать с собой, перестать нервничать.
Она надела пижаму, вернулась в гостиную и уселась за секретер, открыв рукопись диссертации, которую собиралась защищать в конце учебного года. Сначала Гленда полагала, что небольшая и мало исследованная республика Сакраменто будет благодатным материалом для ее научной работы. Поэтому она была уверена, что справилась с поставленной перед собой задачей. Однако появились сомнения, и тогда диссертация казалась пустой и поверхностной. Может быть, ей стоило заниматься биологией. Или социологией. Или вообще ничем не заниматься!
Гленда взяла конверт, лежавший рядом с рукописью. В конверте было приглашение на прием, который новый посол Сакраменто устраивал в ближайшую пятницу. На билете, внизу, Пабло Ортега написал: "Непременно приходите. Я прочел вашу диссертацию, поговорим о ней. Обещаю, на приеме вам скучно не будет".
Гленда снова легла на софу и задумалась о Пабло. Она еще не знала, что он из себя представляет, но ее беспокоили чувства, которые он в ней вызывал. Пабло она находила привлекательным, хотя не могла бы точно сказать почему. Возможно, Ортега был первым мужчиной, который ее заинтересовал... немного. Гленде нравилось его серьезное и мужественное лицо, его сухой, даже монотонный голос, лишенный театральной аффектации, характерной для дипломатических кругов. Ей было приятно также сознавать, что Пабло Ортега отличается от многих ее знакомых латиноамериканцев, не разыгрывает из себя Дон-Жуана и не обращается с нею так, будто считает ее уже своей. Жаль, только, что он такой смуглый. Впрочем, что ей, собственно, до этого! Гленда с раздражением перевернулась на спину и прижала подушку к животу.
Гленда представила себе почерк Пабло. Крупный, размашистый, но четкий; он говорил как будто о благородном, открытом и мужественном характере. Да, жаль все же, что Пабло такой смуглый...
Как он нашел диссертацию? Если работа ему не понравилась, почему он не сказал об этом сразу? Или решил завлечь ее на прием обещанием веселого времяпрепровождения? Неужели он настолько уверен, что его общество будет ей приятно?
Гленда прикинула, в каком из ее немногих платьев лучше пойти в посольство. Пожалуй, больше других подходит черное из тафты... Но она еще не была уверена, что пойдет, она слишком хорошо знала эти сборища. Множество людей толпятся в зале, толкаются, пьют и стараются перекричать друг друга, не понимая толком, ни что они пьют, ни что говорят. Вот и все развлечение. Нет, она не пойдет! И почему, собственно, она должна идти? Только из-за приписки Ортеги? Они могут обсудить диссертацию в другой раз. Гленда попыталась прогнать от себя образ Пабло. Однако напрасно.
Ортегу, должно быть, мучает какой-то вопрос. Это чувствуется по его лицу. Вопрос или вопросы. Мысль, что он' возможно, несчастлив, вызывала у Гленды желание помочь ему, привлечь к себе, добиться признания. А вдруг Ортега станет ее другом, в котором она так нуждалась. Но так ли это? И должен ли друг непременно быть мужчиной? С ними всегда осложнения. Гленда раскаивалась всякий раз, как принимала приглашение знакомых мужчин сходить куда-нибудь вечером. Восемь из десяти приставали к ней с поцелуями. А половина пыталась затащить ее в постель.