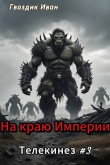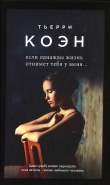Текст книги "Господин посол"
Автор книги: Эрико Вериссимо
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 27 страниц)
Поднявшись, Валенсия крикнул: "Протестую! Мы не можем терять время на юридические тонкости. Народ имеет право выражать свои чувства, ведь у нас демократия, а не диктатура! Присяжные же – люди мужественные и достойные доверия, они способны вынести решение, руководствуясь бесспорными доказательствами, представленными обвинением!"
Вновь аплодисменты и яростные вопли. Телевизионная камера повернулась к адвокату, который, взглянув в упор на Роберто Валенсию, крикнул: "Эта революция совершалась для того, чтобы установить социальную справедливость и истинное правосудие, но не для того, чтобы сводить личные счёты! А господина прокурора, похоже, больше интересуют кровавые спектакли на арене для боя быков, чем правосудие. Я признаю своего подзащитного виновным в ряде преступлений, за которые он как опасный для общества элемент заслуживает пожизненного заключения. Осудите его на вечное заключение, но сохраните ему жизнь! На нас смотрит весь мир, и варварское зрелище на большой арене создаёт у других народов превратное представление о нашей революции!" Он вытащил из кармана газетную вырезку и повернулся к Мигелю Барриосу. В позавчерашнем интервью с иностранными корреспондентами, которые спросили, сколько человек ещё будет расстреляно, генерал Барриос ответил буквально следующее. Читаю его слова: "Наша чистка подходит к концу. Мы уже ликвидировали четыреста девяносто девять бандитов. Расстреляв в ближайшее воскресенье Габриэля Элиодоро Альварадо, крупнейшего преступника диктатуры, мы закончим казни. Если господ журналистов интересует статистика, с удовлетворением сообщаю: Альварадо будет пятисотым расстрелянным". Барриос как будто заволновался; приподнявшись со стула, он бросил взгляд на Валенсию, словно прося о помощи. Пабло Ортега повернулся к публике: "Дамы и господа, только что прочтённое заявление Мигеля Барриоса превращает этот суд в трагический фарс!" Сунув газетную вырезку в карман, он поклонился судьям и произнёс: "Я сказал, господин председатель революционного трибунала". Под улюлюканье публики Пабло вернулся на своё место.
Роберто Валенсия опять попросил слова. Председатель кивнул, и он, подойдя к микрофону, с улыбкой поднял руки, прося у публики тишины. Аплодисменты стихли. Валенсия говорил почти двадцать минут, но вся его речь состояла лишь из нападок на Пабло Ортегу: "С тех пор, как этот молодой человек появился в нашем лагере в горах Сьерра-де-ла-Калавера, я понял, что его больше интересуют личные проблемы, нежели освобождение народа от гнёта и нищеты. Выходец из среды крупных помещиков, Пабло Ортега-и-Мурат является самым характерным из известных мне представителей колеблющейся интеллигенции, рабов ложных абстракций. Он принадлежит к числу тех, кто хочет и в то же время не хочет революции, кто хочет и в то же время боится изменения социально-экономической структуры общества". Пабло слушал своего врага, опустив голову и что-то чертя в своём блокноте. "Люди, подобные Пабло Ортеге, – продолжал Валенсия, – носят в себе бациллы, которыми заражены все революции и которые в один прекрасный день перерождаются в дезертирство, саботаж и контрреволюцию". Он указал на Пабло, а тот, сурово нахмурившись, теперь смотрел ему в лицо, скрестив на груди руки. "Этот молодой человек с холёными руками, хорошими манерами и добрыми чувствами (общий смех) несколько лет – заметьте это, – несколько лет получал больше тысячи долларов в месяц от правительства Хувентино Карреры, сначала как секретарь посольства в Париже, а затем в Вашингтоне. И пока наш дипломат не почувствовал угрызений совести, которые заставили его подняться на Сьерра-де-ла-Калаверу, он разъезжал в роскошном автомобиле по улицам Вашингтона, развлекался на приёмах и банкетах, пописывал стихи, а многие из нас в ту пору страдали от пыток и жестокого обращения в застенках Угарте и Сабалы, либо были убиты; наших жён, дочерей и сестёр зверски насиловали полицейские. Много же ему понадобилось времени, чтобы устыдиться своего положения и попытаться искупить вину! Основываясь на этом, дамы и господа, я лишаю Пабло Ортегу права критиковать нашего вождя и этот суд и снова обращаюсь к присяжным с призывом: смерть преступнику Габриэлю Элиодоро Альварадо! Вас не должны растрогать слова этого утончённого поэта, так боящегося крови, которую он увидел впервые, хотя несёт ответственность за то, что она лилась при Каррере!"
Закончив, Роберто Валенсия под гром аплодисментов и одобрительные возгласы вернулся на своё место. Пабло Ортега быстрым шагом подошёл к микрофону, но председатель трибунала объявил: "Прения прекращаются. Присяжные удаляются на совещание для вынесения приговора".
И всё же Ортега обратился к судье: "Господин председатель, только что против меня были выдвинуты серьёзные обвинения, я прошу дать мне десять минут на защиту".
Судья наклонился к Мигелю Барриосу, шепнул ему что-то на ухо, тот кивнул.
"Хорошо, – сказал судья, – капитану Пабло Ортеге даётся ровно десять минут, и ни секунды больше, на "защиту", как он выразился.
Ортега взглянул на Роберто Валенсию, который сидел с бесстрастной улыбкой, придававшей ему сходство с древней статуей.
"Господин прокурор добился того, чего ему давно хотелось: посадил и меня на скамью подсудимых. И выбрал для этого очень удобный случай, когда более шести тысяч человек слышат его в зале суда, сотни тысяч смотрят и слушают трансляцию процесса по радио и телевидению".
Немного помолчав, Пабло снова взглянул на Валенсию: "Но и я хочу воспользоваться этим случаем, чтобы обвинить его публично в извращении целей нашей революции! Мы ещё не успели сосчитать, сколько граждан Сакрамено пали мёртвыми, были ранены либо искалечены в борьбе против Карреры, но мы в неоплатном долгу перед этими героями и мучениками. Мы обязаны до основания разрушить полуфеодальную олигархию, которая столько лет нас угнетала. Придёт день, когда социальная справедливость восторжествует и у нас в стране. Наш народ действительно должен быть избавлен от нищеты, болезней, невежества, позорное прозябание должно смениться счастливой, богатой и свободной жизнью. Ни одна страна в мире не может мириться с произволом кучки привилегированных семей и иностранных компаний!"
В зале вдруг наступила тишина. Когда Пабло умолкал, казалось, было слышно, как жужжат мухи. Я взглянул на часы. Четверть второго. Уже хотелось есть.
"Одно из зол диктатуры, против которого мы боролись и которое особенно возмущает мыслящих людей, – отсутствие свободы слова и свободы мнений". Указав на Валенсию, Пабло Ортега произнёс громко и отчётливо: "Я обвиняю полковника Роберто Валенсию в том, что он уже сейчас пытается установить законы, направленные на уничтожение свободы слова!"
Валенсия вскочил, и мне показалось, что сейчас он выхватит из кобуры револьвер и застрелит Ортегу. Однако он тут же сел, и на его лице вновь появилась всё та же бесстрастная улыбка.
"Роберто Валенсия, – продолжал Пабло, – закладывает основы тоталитарного государства, в котором все мы вновь перестанем быть людьми, превратясь в статистические и бюрократические единицы, иначе говоря, в абстракцию!"
Валенсия не сдержался: "Да перестань ты болтать, идиот!"
Пабло Ортега с улыбкой обратился к публике: "Именно это я и утверждал. Роберто Валенсия предпочитает оскорбления диалогу".
Председатель ударил в тимпан, и Ортега взглянул на свои часы: "У меня ещё семь минут, ваше превосходительство".
"Если капитан Ортега действительно хочет диалога, – поднявшись, крикнул Валенсия, – я ему отвечу: революция совершается не поэтами, художниками и литераторами, которые боятся крови и насилия, не наивными мечтателями, но людьми, которые, когда это необходимо, сначала стреляют, а уже потом задают вопросы. Перед нами сильный враг, которому покровительствует одна из самых могущественных на земле империалистических держав. Если меня и можно в чём-нибудь обвинить, то лишь в том, что я точно знаю, чего хочу и защищаю определённую идеологию".
Валенсия сел, в зале раздались аплодисменты.
"Идеология! – подхватил Пабло. – Я рад, что бесстрашный полковник употребил это слово... А по-моему, оно растягивается, как резина, в зависимости от политических требований. Если идеологию не заключить в строгие рамки морали и этики, она в конечном итоге станет антигуманной и под её сенью расцветёт тирания. Полковник Валенсия сказал, что революция совершается людьми, которые сначала стреляют, а уже потом задают вопросы. Я знаю, как называются эти люди: "фанатики". Я видел их в чёрной сутане, в мундире полицейского или на бое быков, требующих смерти быка, тореадора или из обоих!"
Зал разразился криками. Пабло же следил по часам, сколько времени продолжится этот шум, и, когда тишина восстановилась, продолжал:
"В заключение я хочу заверить не только полковника Валенсию, но также всех, кто меня слышит, что я не намерен ни дезертировать, ни совершать акты саботажа, ни тем более принимать участие в контрреволюции. Потому что эта революция наша, она не может подчиняться ни Вашингтону, ни Москве". Он снова повернулся к Валенсии: "После всего сказанного мною сегодня Центральный революционный комитет может применить ко мне любые санкции. Но как бы там ни было, я хочу, чтобы мои слова послужили предупреждением: если мы сочтём, что для фундамента нового Сакраменто лучшим цементом явятся кости и кровь наших врагов или тех, кто с нами не согласен, мы можем не избежать опасности повторить трагическую историю латиноамериканских диктатур. Потому что, если в фундаменте этого прекрасного здания, которое станет нашим будущим, кроме нашего труда, нашей мысли, нашей честности, нашей неусыпной бдительности, не будет терпимости и любви, наш дом окажется построенным на песке!"
В свете прожектора бледный, с синими губами, Пабло Ортега вернулся на своё место. Председатель объявил, что присяжные удаляются на совещание.
Валенсия продолжал сидеть, скрестив на груди руки, но бесстрастная улыбка древней статуи исчезла с его лица.
46
На следующий день подзаголовком «Бывший посол в Вашингтоне приговорён к смерти» «Вашингтон Пост» опубликовала следующее сообщение: "Серро-Эрмосо, 14 (от Уильяма Б. Годкина, корреспондента Амальпресс). Габриэль Элиодоро Альварадо, который до сентября нынешнего года занимал пост посла республики Сакраменто в Соединённых Штатах, вчера был приговорён к смерти народным трибуналом, созданным революционными силами, захватившими власть после свержения правительства Хувентино Карреры.
Прокурором на процессе был полковник Роберто Валенсия, генеральный секретарь временного правительства, защиту подсудимого взял на себя капитан Пабло Ортега, который почти два года выполнял обязанности первого секретаря сакраментского посольства при Белом доме и Организации американских государств.
Габриэль Элиодоро Альварадо будет расстрелян завтра в десять часов утра на большой арене для боя быков в Серро-Эрмосо".
– Как это отвратительно! – воскликнула Клэр Огилви, бросая газету на стол. Орландо Гонзага, который несколько минут назад встретился с нею в этом баре на Коннектикут-авеню, где он прежде часто бывал с Годкином и Ортегой, молча кивнул и отпил из стакана с коктейлем. Это уже был третий, Клэр выпила столько же, пока они тепло и не без грусти вспоминали Пабло.
Клэр открыла сумочку, вытащила из неё связку ключей и швырнула её на газету, пробормотав:
– Ключи от посольства и канцелярии. Видишь, Гонзага, какие шутки выкидывает жизнь... Я, Клэр Огилви, гражданка Соединённых Штатов – поверенная в делах республики Сакраменто... пока не прибудет новый посол.
Гонзага покачал головой.
– Он прибудет не так-то скоро. Держу пари, государственный департамент помурыжит этого Мигеля Барриоса.
– Я иногда бываю в канцелярии, – задумчиво проговорила Клэр, – открываю окна и, дрожа от холода – здание не отапливается – брожу одна по коридорам и комнатам, вспоминая о тех, кто здесь был... И мне начинает казаться, что я на кладбище... Холод только усиливает это ощущение. Там могила доктора Хорхе Молины... Дальше – могила генерала Угарте. Вхожу в кабинет дона Габриэля Элиодоро и слышу аромат его гаваны и его духов, которыми он злоупотреблял... И вдруг натыкаюсь на суровый взгляд дона Альфонсо Бустаманте, старик будто требует от меня отчёта о делах Сакраменто... В коридорах оживают призраки похотливых лейтенантов, капитанов и майоров, которые так любили рассматривать бюсты и ноги машинисток... только не Мерседиты, конечно. Плавно, как в танце, проплывает Титито... Бумажные голуби Виванко парят передо мной, а может, это его послания с того света... Но когда я вхожу в кабинет, где работал Пабло, сердце у меня сжимается и я реву, как дура, пока не вспоминаю, что могу простудиться в этом мавзолее. Тогда я вздыхаю, закрываю двери и окна и возвращаюсь домой. Гарсон, ещё один "манхаттан", пожалуйста! Что с тобой, Гонзага? У тебя тоже дела обстоят неважно?
– Увы, да. Посольство предупредило правительство о том, что бразильские дельцы готовятся приобрести большую партию фасоли, но сделка всё же состоялась, а потом выяснилось (газеты писали об этом скандале), что фасоль оказалась гнилая.
Принесли коктейль.
– Что же теперь? – спросила Клэр.
– Ничего. – Гонзага сделал глоток. – Гнилая фасоль! Поистине символ нашего режима, нашего правительства и наших политиков. Бразилию, Клэр, грабят все, кому не лень, изнутри и снаружи... И никто не отвечает за это, никого не сажают в тюрьму. Мы безгранично добры, наше сердце из чистого золота! Мы такие весёлые и считаем, что весь мир должен нас обожать. Ведь мы так гостеприимны и так хорошо говорим! Мы над всеми смеёмся, в том числе и над собой. Мы знаем лекарства против болезней, поразивших другие страны, но свои лечить не можем. Обаяние в Бразилии ценят превыше всего. И наше обаяние, Клэр, наше стремление казаться хорошими парнями губит нас как нацию, хотя в кругу друзей мы можем быть очень приятными. В Бразилии за обаяние прощают всё. Поэтому симпатичные, безответственные и легкомысленные бразильцы ждут, что всё упадёт им с неба, поэтому он голосуют за невежественных или же нечестных людей, претендующих на общественные посты. Если бразилец – правитель или политик, он, желая прослыть обаятельным, согласится на всё, о чём его просят, хотя и не выполнит обещанного. Добрые парни, мы предоставляем доходные места или концессии – не всегда законные – родственникам, приятелям, кумовьям, знакомым... и – чёрт возьми! – самые большие уступки делаем себе, удовлетворяя все свои прихоти. И эта наша доброта, наше золотое сердце мешают нам требовать соблюдения закона, а в результате бандиты и воры остаются на свободе и становятся нашими сенаторами, депутатами, губернаторами и даже президентами. Мы считаем, что все должны помогать нам, не требуя у нас ничего взамен, ведь мы такие симпатичные! Такие умные, такие изобретательные! А между тем мы ничего не планируем, производим мало, тратим слишком много, и вечно уповаем на какое-то волшебство, ибо у нас всерьёз полагают, что даже deus ex machinа – выдумка бразильца. Ах, Клэр, неужели ты не заметила, как мы обаятельны? Мы обаятельны настолько, что привыкли мириться с нищетой, в которой живёт более двух третей нашего населения... Жуткой нищетой на северо-востоке Бразилии, она может сравниться лишь с азиатской... И так как мы симпатичны и добры, мы иногда по воскресеньям ходим к мессе, издали улыбаемся богу, считая его, должно быть, тоже симпатичным парнем, подаём милостыню нищим, надеясь таким образом разрешить социальные проблемы...
– Ты преувеличиваешь, Гонзага. Бразильское сальдо не столь уж дефицитно.
– Знаю, но сегодня у меня мрачное настроение, и я уже почти напился.
– Через несколько лет Бразилия станет одним из самых мощных государств мира.
– Не буду с тобой спорить, но эта песня мне уже изрядно надоела. Страна будущего... чёрт возьми! – Гонзага допил залпом коктейль. – Не думай, что я выгораживаю себя, я ничтожество. Но ещё большее ничтожество – мой уважаемый отец, к тому же он отпетый негодяй!
– Не говори так о своём старике!
– Моя бабушка была воплощённая добродетель, разумеется, в политическом смысле этого слова. А доктор Северино Гонзага – сенатор от партии, которая, как и все прочие, представляет собой сборище рвачей и попрошаек без определённой политической и социальной программы. Те, кто помельче, просят доходных мест и других благ, за которые расплачиваются голосами, аплодисментами и приветственными криками на митингах. Те, кто покрупнее, обладая властью и престижем, используют своё положение, чтобы совершать сделки, законные и незаконные, тешить своё тщеславие... Исключение составляют лишь очень немногие, их можно сосчитать на пальцах. Так вот, сенатор Гонзага, благослови его господь, разводит породистых лошадей... Это ещё куда ни шло. Другие делают вещи похуже. ООН или какая-то другая международная организация, взявшая на себя заботу о голодных детях, отправила однажды в Бразилию бесплатную партию порошкового молока. Но это молоко до места назначения не дошло и было продано, обрати внимание, продано на чёрном рынке. И сенатор Гонзага, весьма симпатичный человек, купил несколько сот мешков сухого молока и кормит им своих породистых лошадей! Великолепно! Сколько детей умирает ежедневно в Бразилии? Не знаю! Я не силён в статистике. Наверное, сотни, а может, и тысячи... Представь себе красивую породистую лошадь, скачущую на ипподроме перед возбуждённой толпой, в которой выделяются элегантные дамы, надевшие свои самые дорогие платья и шляпки, чтобы попасть в светскую хронику и иллюстрированные журналы... Ты не находишь, что дамы и лошади куда красивее и благороднее худосочных, больных и голодных детей Бразилии? И уж конечно, им, а не детям, надо отдать наше молоко и наши симпатии!
– Перестань пить, Гонзага!
– Пить я перестану, но не говорить. Скольких тонн сухого молока лишились бразильские дети? Никто не знает, и никто ни у кого не требует отчёта. Мы все на редкость симпатичны. Сенатор Гонзага – истинный джентльмен, акционер банка, который ссужает деньги под очень высокий процент. И не смотри на меня так, потому что и в твоей замечательной стране совершаются грязные сделки...
– Не мы, дорогой мой, создали человека.
Орландо Гонзага уставился на дно своего стакана.
– Не думай, что я уважаю себя за эти разглагольствования. Повторяю, я ничтожество. Вот Пабло настоящий мужчина, он принял правильное решение. А я паразит, как и мой отец, который, подобно большинству крупных коммерсантов и промышленников Бразилии, утаивает доходы, чтобы не платить налоги, и на эти деньги покупает доллары, которые вкладывает в банки Швейцарии или Манхаттана. Ещё один банк Швейцарии, бой... то есть, ещё один "манхаттан"!
Клэр, однако, сделала знак гарсону и попросила счёт.
– Пошли, Орландо.
– Плачу я, поскольку я очень симпатичен.
Он вырвал счёт из рук официанта. Взглянув на часы, Клэр вздохнула.
– Почти семь. Подумать только, наступает последняя ночь дона Габриэля Элиодоро! Представляешь, что он сейчас чувствует, ожидая смертного часа?
– Кстати о доне Габриэле Элиодоро. Он тоже симпатичный. Настолько, что дурак Пабло рисковал своей головой, защищая этого каналью... – Поднеся руку ко лбу, Гонзага сделал движение, будто запирал что-то на ключ. – На сегодня хватит, я остановил свою мозговую машину. Хочешь пообедать со мной? Нет? С кем-то уже условилась? Что ж, пообедаю один. Потом пойду в кино, посмотрю широкоэкранный стереофонический фильм, очередную чушь, состряпанную в Голливуде. И, наверно, разозлившись, уйду на середине, сяду в машину и поеду искать женщину на ночь.
– Это не решение вопроса.
– Согласен, зато другой вопрос будет решён хотя бы на одну ночь...
Они встали. Гонзага заплатил по счёту, и солидные чаевые заставили гарсона показать золотой зуб, что случалось очень редко.
Уже в дверях бразилец спросил:
– Но каково же решение?
– Говорят, что, умирая, писательница Гертруда Стайн спросила мисс Токлас, свою верную компаньонку: "Каков ответ?" И, прежде чем та успела открыть рот, добавила: "Но каков вопрос?"
Промозглый ноябрьский холод охватил их.
47
В тот же субботний вечер Пабло Ортега и Билл Годкин, только что пообедав, шли по Пассео-де-Боливар. Рекламы не горели, так как новое правительство нормировало потребление электроэнергии. Однако уличные фонари в колониальном стиле, стоявшие вдоль тротуаров, были зажжены и придавали главной улице Серро-Эрмосо праздничный вид. Народу было много, кафе, кино, рестораны и бары переполнены. Многие носили форму революционной милиции. Почти все лица выражали умиротворённость и веселье. Солдаты гуляли под руку с девушками, громко смеясь и напевая, или сидели на скамейках бульвара, тесно прижавшись к подружкам и застыв неподвижно, как статуи. Пабло улыбнулся, вспомнив Гленду Доремус, потом Кимико Хирота и, наконец, Пию... Её фамилию он забыл, а может и не знал никогда.
Вчера, после утомительного дня в суде, он нашёл отдохновение в объятиях машинистки, своей подчинённой. Эта смуглянка с миндалевидными глазами, чем-то напоминавшая мисс Хирота, охотно пошла с ним. Пабло как никогда нуждался в женской ласке.
– Я уснул, обнимая её, – рассказывал он сейчас Годкину, – а когда проснулся на рассвете, её в постели не было. Я услышал какой-то шорох, повернул голову и увидел, что она роется в моих бумагах на письменном столе, потом в ящиках комода, наконец в карманах моего костюма... Я притворился спящим, а она вернулась в постель и снова обняла меня...
– Шпионка Валенсии?
– Возможно.
– А теперь взгляни на того субъекта в белом костюме и панаме. Он был в ресторане и, пока мы ели, не сводил глаз с нашего столика, а потом пошёл за нами.
Годкин и Ортега свернули с центральной улицы, которая, по мнению журналиста, потеряв национальный колорит, приобретала американский благодаря небоскрёбам, закусочным и кафетериям. Они направились в старую часть города – Пабло любил её узкие улицы, мощённые брусчаткой, её дома, выложенные изразцом, её испанские карнизы, порталы и крыши. И пахло здесь чем-то старинным: оливковым маслом, жжёным сахаром, лавандой, жимолостью, подвальной плесенью и воском.
Иногда друзья останавливались полюбоваться внутренним двориком в севильском вкусе. Билл следовал за Пабло и вскоре понял, куда тот направляется: минут через двадцать они оказались перед домом Ортега-и-Мурат. Пабло приблизился к железным воротам, обеими руками вцепился в решётку и долго смотрел на родной дом. "Как узник", – подумал Годкин. Окна по-прежнему были закрыты. Годкин знал, что больная донья Исабель с поистине испанской гордостью отказывается не только видеть сына, но и отвечать на его телефонные звонки.
Друзья пошли дальше, и, когда Билл остановился у фонаря набить трубку, Пабло, осторожно оглянувшись, увидел всё того же человека в панаме.
– Как ты думаешь, Билл, мать смотрела трансляцию из спортивного дворца?
– Может быть. А тебе хотелось бы, чтобы она была там?
– Не знаю. Всё так сложно...
Выйдя на слабо освещённую улицу, друзья вдруг обнаружили, что уже совсем стемнело: над ними простиралось необъятное тёмно-синее небо с мерцающими звёздами.
Они повернули к центру, и тут Билл как бы невзначай пробормотал:
– Да, забыл тебе сказать: я уже купил билет на завтра. По-моему, больше мне в Сакраменто делать нечего.
– В котором часу ты улетаешь?
Билл покачал головой.
– Не надо меня провожать. Я не люблю прощаний. Лучше пожмём друг другу руку у дверей моей или твоей гостиницы. Договорились?
– Хорошо.
– Хочешь мне что-нибудь поручить?
– Передай Гонзаге и Клэр, что я скучаю по ним и часто их вспоминаю. А когда у тебя будет время, черкни мне несколько строк.
Они проходили мимо кафе.
– Давай выпьем чего-нибудь холодного, – предложил Пабло. – А заодно я напишу записочку, которую попрошу тебя передать мисс Хирота.
Усевшись за столик, они попросили мороженого. Сиреневый свет телевизионного экрана рассекал густой табачный дым. В кафе было много народу, и все смотрели в сторону телевизора, слушая комментарии о суде над Габриэлем Элиодоро. Годкин заметил, что Пабло смутился, очевидно боясь быть узнанным. Но никто даже не взглянул на них. Ортега вытащил записную книжку, вырвал из неё листок и написал:
Безрассудный садовник
Всю жизнь он выращивал,
Того и не ведая,
Цветок своей смерти.
И вдруг увидев презрительную улыбку Валенсии, раздражённо скомкал листок и сунул его в карман.
– Я передумал. Лучше позвони мисс Хирота и скажи, что я иногда вспоминаю о ней. Впрочем, не надо. Сейчас Вашингтон далёк от меня так же, как другие города, где я когда-то жил...
Диктор говорил о предстоящей назавтра казни "знаменитого сообщника Карреры" Габриэля Элиодоро, которая завершит собой карательную фазу революции. Потом сообщил, что все билеты на арену для боя быков уже проданы, но "камеры нашей мощной станции" будут транслировать завтра казнь с первой до последней минуты.
– Давай уйдём, – прошептал Пабло, кладя пять лун на мраморную крышку столика. – От всего этого меня начинает тошнить.
После дымной духоты кафе приятно было вдохнуть чистый ночной воздух. Человек в панаме стоял на углу.
– Что теперь, Пабло?
– Я уже говорил тебе, что остаюсь. Я не струшу. И постараюсь повлиять на Центральный революционный комитет. Я не один. Сегодня утром ко мне приходили товарищи, с которыми я воевал. Они заверили меня, что согласны со мной и не хотят мириться с диктатурой Валенсии.
– А если это его агенты?
– Пусть! Я не затеваю контрреволюционного заговора, а лишь пытаюсь вести диалог... И ещё хочу, чтобы Барриос и другие руководители выполнили обещанное в манифестах и речах: установили социальную справедливость и создали правительство, гарантирующее нам демократические свободы... Кроме свободы отнимать свободу у других... Мой бедный народ не может быть ещё раз обманут!
Некоторое время они шагали молча, и человек в белом шёл за ними, отстав метров на тридцать.
– Как видишь, – улыбнулся Пабло, – Валенсия не старается скрыть, что за мной следят. Он хочет меня запугать, но это смешно.
– Напрасно ты недооцениваешь Валенсию. Он очень опасен.
– И всё же он человек. Его суровость меня не пугает, я готов встретиться с ним лицом к лицу. Я вложил в эту революцию всё, что имел, и хочу получать дивиденды не в виде командных постов и крупных сумм, но в виде благ, распределённых среди несчастных сакраментцев. Я не собираюсь эмигрировать либо пускать себе пулю в лоб. Я останусь. Оказывается, я упрямее, чем я думал. Эта революция помогла мне узнать себя, даже если она не послужит ничему больше. Признаюсь, моё пребывание в аду не было для меня совсем неприятным.
Годкин кивнул. Они остановились у гостиницы "Серро-Эрмосо-Хилтон" и какое-то время стояли молча. Потом пожали друг другу руки.
– Прощай, Пабло. Я всегда буду счастлив тем, что дружил с тобой.
– Спасибо за всё, Билл. Я не скажу "прощай" – "до скорого свидания". – Он улыбнулся. – И прошу тебя, выбрось этот ужасный галстук цвета желчи. Я тебе пришлю другой...
Американец снова кивнул и вошёл в гостиницу. Закурив сигарету, Пабло вспомнил о Габриэле Элиодоро, но тут же прогнал эту мысль. Он сделал всё возможное, чтобы его спасти. Совесть Пабло была чиста. Голова стала ясной и больше не болела.
48
Пабло направился к своей гостинице, человек в белом пошёл за ним.
После суда Габриэля Элиодоро отвезли в подвал здания, где прежде размещалась центральная полиция. В этой камере он должен был ждать казни.
На рассвете в субботу он расхаживал по камере, волоча ногу, ноющую от боли. В камере не было электричества, и она скудно освещалась свечой в латунном подсвечнике, стоявшей на грубо отёсанном столе. У стола сидел, опустив седую голову на грудь, старый священник. Это был падре Каталино Сендер, который пришёл из Соледад-дель-Мар, чтобы поддержать осуждённого в его последние часы. Слабое пламя падало на жёлтое, морщинистое лицо священника.
– Перестань ходить, Габриэль, – попросил он своим слабым и хриплым от хронической простуды голосом.
– Да, я уверен! – воскликнул осуждённый. – Абсолютно уверен! Именно в этой камере ровно тридцать шесть лет назад я просидел два месяца. Нас было пятеро парней, все совсем молодые. Полиция схватила нас, когда мы писали на стенах города лозунги... Я отлично помню, что написал где-то здесь: "Долой диктатуру! Да здравствует свобода!" Подписался и поставил число... Ноябрь или декабрь двадцать третьего года. Я не сомневался, что меня расстреляют. – Он взглянул на свои руки. – У меня не было ни карандаша, ни угля, и я нацарапал это ногтями...
Хромая, он подошёл к столу, взял свечу и стал осматривать сырые, покрытые плесенью стены, что-то тихо бормоча себе под нос. Потом опустился на колени, снова поднялся со стоном. Габриэль весь дрожал, он ослаб от высокой температуры.
– Дайте-ка мне ваши очки, падре. Я ничего не могу разобрать...
Священник вытащил очки из кожаного очешника и протянул Габриэлю Элиодоро, который, кое-как надев их, снова принялся искать надпись. Падре вернулся на своё место, его сморщенные губы задвигались, произнося слова молитвы. Он был подавлен: Габриэль Элиодоро отказывался от исповеди. "Бог знает меня. Знает мои грехи и добродетели. Он судья беспристрастный и свершит своё правосудие. Если я действительно преступник, он накажет меня. Не настаивайте, падре. Я не стану исповедоваться. Я ни в чём не раскаиваюсь", – сказал Габриэль.
Поднося свечу к стенам камеры, Габриэль Элиодоро с трудом разбирал каракули, оставленные виновными и невиновными. Попадались и непристойные рисунки. "О Мариэтта, отдавшая мне..." "Начальник полиции – трус". "Чаморро рогоносец". "Да здравствует родина!" "Прощай, дорогая мамочка, я умираю с мыслью о тебе". "Мужчины умирают стоя..." "Клянусь богом, я невиновен..." "Моё имя – Антонио Перес, моя судьба – ад".
"Кажется, – пытался вспомнить Габриэль Элиодоро, – я писал стоя на коленях, пожалуй, в том углу".
Он с трудом добрался до противоположной стены и сел на пол, задыхаясь. Воск капал ему на пальцы, рана сильно болела, лоб пылал. Его надпись была нацарапана большими буквами, а под конец ногти обломались, и он кровью нарисовал сердце.
Габриэль заставил себя подняться и почти в бреду продолжал осматривать стены камеры, но падре, обняв его за талию своей худой слабой рукой, отвёл к столу и усадил.
– Успокойся, Габриэль. Ведь это было тридцать шесть лет назад, и стены с тех пор не раз перекрашивали...
– Нет, падре! Ни один начальник полиции ни при одном правительстве никогда не красил такие подвалы, в них всегда полно всякого сброда. Однажды здесь набралось около пятидесяти человек, и все они отправляли естественные надобности прямо на пол. Вонь стояла невыносимая. Кого здесь только не было: политические заключённые, мошенники, распутники, пьяницы. И всё же я должен найти свою надпись... Должен!