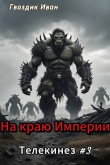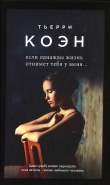Текст книги "Господин посол"
Автор книги: Эрико Вериссимо
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 27 страниц)
Хорхе Молина подошел к окну, но, занятый своими мыслями, ничего не увидел. Голос, в котором он теперь начал узнавать свой собственный, продолжал неумолимо раздаваться в его ушах.
– Однажды солдаты правительственного отряда потребовали, чтобы падре Каталино отвел их в убежище Хуана Бальсы, так как в Соледад-дель-Мар только он знал дорогу туда. Викарий отказался, хотя ему грозили расстрелом и пытками. Тогда военный министр добился, чтобы дон Эрминио вызвал непокорного священника для беседы в архиепископский дворец. Архиепископ пытался внушить викарию, будто он этим своим поведением компрометирует церковь, но падре Каталино и здесь не соглашался. А когда дон Эрминио спросил, намерен ли он изменить свое поведение, падре Каталино ответил, что и впредь будет выполнять свой пастырский долг, то есть давать утешение тем, кто в нем нуждается, но кроме того, и долг человеческий, а именно: оказывать помощь тем, кто борется за справедливость... И по-прежнему будет делиться с прихожанами хлебом насущным, заключил он как всегда спокойно. Разгневавшись, архиепископ сослал падре в еще более бедный приход, на окраину провинции Сан-Фернандо.
Правой рукой Молина массировал левую и покачивал головой: ему не помогло то, что ночь он провел на полу без матраца и подушки...
– Что ж, министр, наберемся мужества, никто нас не слышит. Кто был исповедником доньи Рафаэлы, жены Чаморро, в последние годы ее жизни? Монсеньор дон Панфило, это известно всем. Он знал пороки этой матроны, знал, как она вертит беднягой Чаморро, словно послушной марионеткой, знал, что эта жестокая и эгоистичная женщина изменяет своему мужу, и тем не менее продолжал поддерживать с ней дружбу и бывать у нее. А потом у развратницы начался мистический приступ (ты, конечно, попытаешься убедить читателей, что не кто иной, как дон Панфило повинен в этой "перемене"), донья Рафаэла ушла в монастырь, где вскоре умерла, окруженная ореолом святости, а дон Панфило Аранго-и-Арагон отслужил в соборе заупокойную мессу, которая была своего рода прелюдией к причислению доньи Рафаэлы к лику святых.
Молина подошел к столу, взял карандаш и написал: "Не забыть: в конце 1924 года дон Панфило великодушно просил у архиепископа разрешения вернуть падре Каталино его приход в Соледад-дель-Мар, просьба была удовлетворена".
Министр-советник увидел в углу своего кабинета самого дона Панфило: он сидел в кресле, облаченный в роскошное епископское одеяние, положив благородной формы руки на подлокотники кресла, с улыбкой иронической и в то же время снисходительной; его лицо было все еще красиво, несмотря на морщины.
– Двадцать пятый год. Хувентино Каррера поднял батальон в казармах пятого пехотного полка и ушел с солдатами в горы. Восстали и другие гарнизоны. Падре Каталино был арестован за то, что помогал повстанцам, снабжал их боеприпасами и продовольствием, укрывал в своем доме мятежников.
Молина сделал еще одну запись: "Насчет помощи, которую падре Каталино предоставлял революционерам, знает лучше всех Габриэль Элиодоро, он же мог бы сообщить подробности. Г. Э. два или три дня прятался в церкви богородицы Соледадской, чтобы при первой же возможности подняться на Сьерра-де-ла-Калаверу и присоединиться к повстанцам. Судя по всему, падре Каталино был его проводником".
Хорхе Молина расхаживал между двумя призраками; дон Панфило молчал, а Грис опять заговорил:
– А как поступил твой друг Панфило, когда увидел, что войска Чаморро накануне поражения, а в университете, Серро-Эрмосо и других городах и деревнях начались волнения? Он предложил дону Эрминио отправить его на вершину Сьерра-де-ла-Калавера для тайных переговоров с Хувентино Каррерой. Архиепископа эта идея привела в замешательство. "Вы лишились разума?" – спросил он. – "Нет, Ваше святейшество, – ответил монсеньор. – Просто я уверен, что победит Каррера, могущество Чаморро подходит к концу, а церковь должна быть на стороне победителей". Что ответил дон Эрминио, тебе, Молина, известно, у тебя есть свидетельство самого дона Панфило, твоего друга, который так гордится этим блестящим политическим маневром...
Теперь раздался голос дона Панфило, мощно звучавший когда-то под сводами собора.
– Дон Эрминио сказал мне: "Идите. Но никаких полномочий я вам не даю. Действуйте на свой страх и риск. Если Хувентино Каррера будет побежден, как я надеюсь, я во всеуслышание объявлю о вашем посредничестве, о котором якобы не знал, и выдам вас правительству, с болью в душе, но все же выдам". Я улыбнулся и ответил: "Согласен, Ваше святейшество". В сутане сельского священника я выехал из Серро-Эрмосо вечером того же дня и на следующее утро был в Соледад-дель-Мар. Падре Каталино отвел меня к главарю повстанцев, который принял меня с недоверием. Он спросил: "Это вы, ваше преподобие, несколько месяцев назад произнесли в соборе Серро-Эрмосо проповедь, направленную против меня?" Я кивнул с улыбкой. "Но я здесь не для того, чтобы оправдываться или извиняться, а для того, чтобы достигнуть соглашения, которое, по-моему, в интересах и революции, и моей церкви". Он согласился выслушать меня. Мое предложение было простым: в течение нескольких недель я брался поднять на восстание некоторые крупные гарнизоны, например Парамо и Пуэрто Эсмеральды, что приблизит конец гражданской войны и поможет избежать ненужного кровопролития. Я пообещал также немедленно прекратить всякие проповеди против революционеров. Каррера выслушал меня все еще подозрительно и поинтересовался, что я требую взамен. Я попросил, чтобы в присутствии всего повстанческого штаба мне было обещано следующее: а) церковь, ее служители, ее собственность и ее права будут уважаться; б) ни в одном из районов не будут допущены насилия или грабежи; в) в Серро-Эрмосо войска вступят в строгом порядке, и Каррера получит ключ от города из рук архиепископа-примаса, кольцо которого он публично поцелует. Каррера удалился на совещание со своими людьми. Немного погодя он вернулся и объявил, что принимает мое предложение, но соглашение это будет джентльменским: он не станет подписывать никаких документов. Мы обменялись рукопожатием, и я уехал в Соледад-дель-Мар. Я выполнил обещанное. Через две недели гарнизоны Пуэрто Эсмеральды и Парамо – командиром последнего был мой троюродный брат – восстали, и Чаморро пал.
– Но Каррера не выполнил одного из условий соглашения, – вмешался Грис. – Насилия и грабежи, по крайней мере в первые дни после победы, все же имели место. А о созданных тогда народных трибуналах даже говорить всерьез нельзя.
Дон Панфило махнул рукой.
– Ничто в этом мире не совершенно. Зато другие условия нашего устного договора были выполнены в точности. Да! Я забыл об одном важнейшем пункте соглашения. Каррера обещал, что как только его победа будет закреплена, он созовет учредительное собрание, выработает конституцию и произведет выборы. Он сдержал свое слово.
Молина уставился в угол комнаты, снова вспомнив о заметках, которые сделал прошлым вечером: "Мне пришло на ум, что дон Панфило в церкви представляет собой крупную буржуазию, а падре Каталино – пролетариат".
– Меня радует, что мой друг прибегает к марксистской терминологии, – раздался голос Гриса. – Я бы сказал проще: падре Каталино – представитель подлинно христианской церкви, следующей заветам великого самаритянина и святых мучеников...
– Поразмысли хорошенько, Грис, и ты поймешь, что без таких людей, как дон Панфило, церковь не могла бы существовать, ей нужно не только сердце, но и голова. Именно благодаря гармоническому сочетанию этих начал, которые олицетворяют собой дон Панфило и падре Каталино, церкви удается балансировать между божественным и светским.
В наступившем молчании Молина снова принялся растирать больную руку. Пора было засесть за никарагуанский документ, но Молина понимал, что сейчас не сможет читать его с должным вниманием.
– Впрочем, это еще не все. Пока оставим двадцать пятый год. Я знаю, тебя страшит то, что ты подходишь к нашим дням. Каррера был избран президентом, потом переизбран, он воровал, убивал, пытал, богател и сейчас под демократической вывеской и при поддержке полностью подчиненных ему бесхребетных, беспринципных конгрессменов продолжает заниматься тем же... И все эти годы между церковью и государством в Сакраменто царил мир. А дон Панфило продолжал оставаться прихлебателем, очевидно успокаивая свою совесть перефразированным евангельским изречением: "Каррере каррерово, и богу богово".
– Ты упрощаешь, Грис, потому что ненавидишь дона Панфило. Люди не шары и не кубы, а многогранники, гораздо более сложные, чем мы думаем. Я хочу создать не карикатуру, а портрет. У дона Панфило есть достоинства, и немалые.
– Допустим. А когда полиция Карреры изобрела коммунистический заговор, послуживший предлогом для государственного переворота и создания пресловутого Движения национального спасения, по-твоему, дон Панфило, человек умный и тонкий, не догадывался, что все это ложь? А если догадывался, то почему молчал? Почему стал соучастником этого преступления против демократии? И еще один вопрос: почему он никогда не протестовал против пыток, которым подвергали политических заключенных в тюрьмах Серро-Эрмосо?
– Минуту! Дон Панфило не раз обращался с этим вопросом к Каррере. У меня есть тому доказательства и свидетель: Габриэль Элиодоро.
– Я знаю, по настоянию архиепископа Каррера распорядился произвести "расследование", которое установило, что слухи о жестокости начальника полиции распускают враги...
– Дон Панфило, – продолжал Грис, – при поддержке посла Соединенных Штатов помогал свержению Морено и возвращению Карреры.
– Ты не должен забывать о многочисленных попытках архиепископа стать другом Морено, он посещал его во дворце, призывал к умеренности, но Морено отклонял все советы дона Панфило. Бог будет судьей дону Панфило Аранго-и-Арагону. Бог, а не ты и не я, скажет последнее слово об этом владыке церкви.
– Ты же не веришь в бога, Молина.
– В таком случае, как сказал герой Достоевского, – раз бога нет, все позволено.
– Не забудь еще о проповеди, которую дон Панфило произнес в соборе вскоре после трагической ночи и в которой он безоговорочно осудил душу самоубийцы Хулио Морено на вечные муки ада. Но я сомневаюсь, чтобы дон Панфило верил, будто Морено покончил с собой.
– Ты не имеешь права считать дона Панфило циником и безнравственным человеком!
– Однако Данте нашел возможным поместить в ад некоторых епископов...
– В своей работе я могу доказать, что дон Панфило рисковал вечным блаженством ради спасения церкви. Это делает его почти мучеником.
– Ловко! Тогда не забудь представить падре Каталино агентом Москвы и посланником дьявола.
Министр-советник сел за стол и закрыл лицо руками. Голос Гриса продолжал:
– Хорхе Молина, я призываю тебя написать правдивую биографию дона Панфило Аранго-и-Арагона. Подлинным героем твоей истории должен стать падре Каталино Сендер! Он меньше архиепископа искушен в теологии, зато всегда следовал духу Нагорной проповеди. У дона Панфило много различных наград, которыми он любит похвастать. Сельский священник дон Каталино получил единственную – язву желудка. Он олицетворяет собой подлинно христианскую церковь, проповедующую любовь и сострадание, церковь вечную и непобедимую!
Министр-советник, взяв карандаш, принялся постукивать им по столу. Да, если бы он решил изложить все, что ему известно об архиепископе – на основании логических заключений или документов, – он не только потерял бы его дружбу, но и нанес вред своей любимой церкви. Церкви, к которой он страстно желал приобщиться вновь, вновь открыв для себя бога.
Но Грис, как падший ангел, нашептывал ему:
– Наберись мужества и доберись до истинных причин своих побуждений! Ты ни в коем случае не хочешь навлечь на себя недовольство своего друга архиепископа-примаса, ибо надеешься, что в один прекрасный день он замолвит за тебя словечко президенту Каррере, а тот назначит тебя послом в Ватикане... Об этом ты мечтал всю жизнь!
Хорхе Молина сломал карандаш пополам.
24
Взглянув на ручные часики, Клэр Огилви подумала: «Посол опаздывает. Что могло случиться?» Она посмотрела расписание на сегодня: ровно в одиннадцать дон Габриэль Элиодоро принимает в своем кабинете никарагуанского посланника, в половине первого завтракает с одним из директоров Экспортно-импортного банка в ресторане «Оксиденталь», в шесть часов отправляется на прием в эквадорское посольство.
А вечером? Огилвита лукаво улыбнулась. Вечером ее шеф, разумеется, повезет мисс Фрэнсис Андерсен в какой-нибудь клуб, а потом... потом одному богу известно, что произойдет. Бедная Росалия! Некоторое время секретарша редактировала текст речи, написанной по-английски Пабло Ортегой для дона Габриэля Элиодоро, который произнесет ее в ближайший четверг на завтраке в Национальном пресс-клубе, куда он приглашен в качестве почетного гостя. А Клэр предстояла далеко не легкая задача добиться, чтобы посол смог прилично прочитать эту речь по-английски. Good heavens!
Она снова взглянула на часы.
В нескольких милях от посольства в вестибюле мотеля на берегу Ли Хайуэй в Виргинии Альдо Борелли поглядывал на большие электрические часы. Двадцать минут одиннадцатого. Ему надо вернуться в посольство не позже двенадцати, чтобы успеть отвезти посла в «Оксиденталь».
Нинфа Угарте, попросившая у администратора мотеля комнату, "чтобы немного отдохнуть", заполнила карточку на имя сеньоры и сеньора Гонсалес и заплатила за номер двенадцать долларов. Уже третий или четвертый раз они снимали комнату в этом мотеле. Альдо Борелли было не по себе, он не знал, куда девать руки, куда глядеть. Он заметил, что администратор косо посматривает на него и, разумеется, понимает, что никакие они не муж и жена. Альдо покраснел: отвратительное положение. И чем больше он размышлял об этом, тем сильнее охватывала его тревога. А что, если жене все станет известно? Она уже и так с подозрением выслушивала его истории о деньгах, которые он приносил домой. "Просто, дорогая, новый посол очень щедр, он всегда дает мне хорошие чаевые. Галстуки? Это подарок дона Габриэля Элиодоро. Они же поношенные, видишь? Туфли тоже он подарил, к счастью, у нас один размер. Рубашки мне немного свободны, но это не удивительно – у него шея как у быка". Но если узнает генерал Угарте – mamma mia! – он пристрелит меня.
Хорошо, что посол на его стороне, он знает обо всем и не осуждает Альдо. Наоборот, покровительствует, разрешает уезжать два раза в неделю без формы. Так дон Габриэль Элиодоро расплачивался за услуги сводницы.
– Двадцать пятый номер, – сказал, улыбаясь, администратор и отдал ключ донье Нинфе. – В конце коридора, справа, please .
Альдо последовал за ней. Альфонс, настоящий альфонс... получает деньги и подарки за то, что спит с этой матроной. Костюм, который на нем (Рейлих Хабердешер , 60,00), тоже подарен любовницей. И вот он идет за ней по длинному и чистому коридору гостиницы, похожему на больничный, и смотрит на ее ягодицы, ее лоснящуюся жирную шею, блестящие волосы... От нее несло гелиотропом... или нарциссом? – словом, чем-то тошнотворным. Это был запах позора, запах их объятий, которые оставляют его холодным. Зато через два-три месяца он сможет выписать брата, и уж тот похохочет, когда узнает, как Альдо заработал эти доллары. "Вот так, Джино, пришлось торговать собой, как проститутке".
Они вошли в комнату и заперли дверь. Нинфа со стоном прижалась к Альдо и, закрыв глаза, протянула ему губы для поцелуя. Альдо с отвращением прикоснулся к этим влажным губам, от которых пахло помадой и табаком. Грудь Нинфы казалась ему резиновой. А сама Нинфа почти потеряла человеческий облик, это была карикатура на женщину. Всякий раз как Альдо ложился с ней, у него появлялось впечатление, что сейчас его проглотят, а когда Нинфа обнимала его, он вспоминал жену, ее чистое, красивое и упругое тело.
Нинфа начала раздеваться. Альдо снял пиджак. Им не о чем было говорить, и толстуха напевала испанскую колыбельную песенку.
Альдо развязывал узел галстука и, когда увидел вдруг в зеркале свое отражение, поторопился отвести глаза.
После того как посол отправился в канцелярию, Мишель Мишель пришел посмотреть, хорошо ли уборщицы и горничные убрали его комнаты. Затем спустился на кухню, дал указания повару насчет обеда и наконец облегченно вздохнул, словно выполнил тяжелый долг. Запершись у себя в комнате, Мишель Мишель записал в дневнике своим тонким и четким почерком:
"Я наблюдаю за новым послом почти с научным интересом. Он человек, несомненно, примитивный, но обладающий каким-то непостижимым обаянием. (Служащие посольства его обожают.) Он необразован, не имеет ни малейшего представления о литературе, живописи и музыке. Но, бесспорно, неглуп. У него очень развиты инстинкты, жизнелюбив. В посольстве часто слышатся раскаты его смеха. (Кстати, по-моему, на свете нет ничего, что могло бы вызвать такой хохот.) Любопытно, но временами у дона Г. Э. бывает депрессия. Он садится на стул, съеживается, уставившись в одну точку, и надолго замолкает. Как-то ночью меня разбудил шум шагов на верхнем этаже. Я надел халат, поднялся наверх и встретил посла, на котором были только брюки от его отвратительной полосатой пижамы. Расхаживая по залу, он зевал и почесывал голову. Он сказал мне, что увидел страшный сон, проснулся и уже не смог заснуть. Попросил приготовить кофе, поскольку не собирался больше ложиться. "Время сна, Мишель, мы крадем от жизни". Я принес ему кофе. Он пригласил меня сесть, и я принял приглашение, потом предложил чашку кофе, но я отказался. И тогда он рассказал мне историю своей жизни во вкусе Жоржа Онэ или Дюма-отца: бедный сирота, приходский священник, революция... Настоящий роман! (Или все это придумано?) Глаза у меня слипались. Я вспомнил, как много лет назад на рассвете я встретил дона Альфонсо Бустаманте, который тоже бродил, подобно призраку, по залам особняка. Но какая разница! Дон Альфонсо был в элегантном шелковом халате, тщательно причесан, в домашних туфлях а ла Анатоль Франс, как он их называл. Мы до утра обсуждали с ним философские проблемы. Дон Альфонсо рассказал мне, что часто просыпается среди ночи, охваченный страхом перед смертью, перед неизбежным концом, когда он "превратится в ничто". В наших ночных беседах он часто говорил о небытие. "Qu"est-ce que c"est le néant, Michel?" Что я мог ему ответить? "Le néant c"est le néant, Monsieur l"Ambassadeur, c"est tout!" А он грустно качал головой. Бедный дон Альфонсо! Его обуревал страх перед смертью, как дона Габриэля Элиодоро обуревает желание жить".
Орландо Гонзага сидел за своим столом в канцелярии бразильского посольства и изучал секретные документы.
Вызвав секретаря, он попросил:
– Закажите срочный разговор с Бразилией, с государственным секретариатом.
И, пораженный, стал снова перечитывать бумаги. Бразилия будет импортировать фасоль из Соединенных Штатов! Прямо светопреставление! Сделку собираются заключить с американской фирмой, о которой Гонзага наводил справки в нью-йоркских банках и получил отнюдь не лестные отзывы. Надо как можно скорее передать эти сведения государственному секретариату, чтобы помешать заключению сделки.
Задумавшись, Орландо Гонзага закурил. Вторая мировая война не пошатнула экономики Бразилии, наоборот, в банках США ее вклады составляли несколько сот миллионов долларов золотом, – и тем не менее она была вынуждена импортировать картофель из Голландии, этой крошечной страны, которой пришлось открыть плотины, чтобы сдержать нацистское вторжение, и города и порты которой пострадали от бомбардировок.
Гонзага хотел избежать ответственности, а также оградить посольство от возможных обвинений в недобросовестности или заинтересованности. Хотя и не очень верил в то, что его соображения будут учтены. Он чуял в этой сделке что-то нечистое. У Гонзаги вообще порой создавалось впечатление, будто государственные чиновники Бразилии потеряли всякий стыд. Представители так называемой элиты либо получали комиссионные, либо ничего не смыслили. Исключение составляли очень немногие. Просто голова идет кругом...
Он подошел к окну, взглянул на посольский сад, затем сел в кресло и взял со столика нью-йоркскую газету, доставленную с утренней почтой. Небрежно просматривая газету, он вдруг увидел заметку одного из знаменитых хроникеров, которые кормятся сплетнями. Заметка заинтересовала Гонзагу.
"Посла одной из латиноамериканских республик, новичка в дипломатических и общественных кругах Вашингтона, впрочем, успевшего завоевать популярность, часто можно увидеть в ночных клубах "Эспионахе", "У Пьера", "Блю Рум" с одной недавно разведенной ослепительной блондинкой. Дипломат не только женат, он дедушка, хотя в это трудно поверить".
Улыбнувшись, Орландо выпрямился и позвонил Пабло.
– Как дела, Паблито?
Голос друга показался ему веселым.
– Представь, Гонзага, сегодня у меня не болит голова. Почти нирвана!
– Я тебе звоню потому, что в одной нью-йоркской газете только что увидел заметку о твоем после. Послушай, – Гонзага прочел. – Ну как? Каждому ясно, что имеется в виду дон Габриэль Элиодоро...
– А что тебя удивляет? Наш герой, наверное, хочет на деле проявить прославленную латиноамериканскую мужественность...
– Ну что ж. Он не сумел добиться займа на сооружение транссакраментской дороги, зато, судя по всему, сумел добиться мисс Андерсен, взял ее приступом и водрузил флаг своего государства на ее замечательной белоснежной груди... Для прославления вашей родины, Паблито!
– Ты циник, Гонзага.
– Нет, дружище. Я просто завистник!
Сняв пиджак, посасывая трубку и вооружившись синим карандашом, Билл Годкин читал сообщение, полученное утром из Серро-Эрмосо от корреспондента Амальгамэйтед Пресс.
"В столице ходят упорные слухи о том, что президент Каррера собирается реорганизовать кабинет министров, уволив в отставку гражданских министров и посадив на их места военных, пользующихся его доверием. Ожидаемый правительственный кризис вызван тем, что нынешний кабинет, за исключением военного министра, высказался против принятия дополнения к конституции, которое позволит генералиссимусу оказаться снова на посту президента. Тем временем палата депутатов под самыми различными предлогами откладывает обсуждение проекта этого дополнения. Здесь полагают, что большинство депутатов и сенаторов хотят таким образом воспрепятствовать голосованию этого проекта до роспуска обеих палат конгресса на летние каникулы".
Годкин обхватил руками голову и продолжал читать:
"В высших кругах Серро-Эрмосо придают большое значение обеду, который Его преподобие Аранго-и-Арагон дал вчера вечером в архиепископском дворце. На обед были приглашены министр внутренних дел д-р Игнасио Альенде и другие гражданские министры. Удивляет то обстоятельство, что генералиссимус Хувентино Каррера, личный друг архиепископа-примаса, на обед приглашен не был".
Билл улыбнулся. Дни Карреры как президента сочтены, если только... Ведь развитие событий в Сакраменто может пойти различными путями. Например, конгресс откажется принять дополнение, которого требует генералиссимус, и положение останется прежним... Однако волнения в стране будут продолжаться до самых выборов, которые состоятся... или не состоятся. Если они состоятся, Каррера выставит кандидата-марионетку, которого изберут или не изберут. Если изберут, Освободитель будет по-прежнему править страной, дергая марионетку за веревочки. Если не изберут, генералиссимус устроит государственный переворот, чтобы власть не попала в руки его законного преемника, и тогда Сакраменто все равно окажется под властью диктатора.
Билл подошел к окну и стал рассеянно наблюдать за потоком машин, двигавшихся по улице К., и пешеходами, снующими по тротуару, который заливало почти летнее утреннее солнце... Но есть и другие пути. Каррера может совершить переворот немедленно: сегодня, завтра... через две или три недели. Впрочем, для этого ему нужен предлог, ибо за последние пять лет положение в Латинской Америке изменилось. Продажные диктаторы Рохас Пинилья, Перес Хименес и Фульхенсио Батиста были свергнуты народом. Общественное мнение этих стран настроено против диктаторов – как гражданских, так и военных.
Билл постучал трубкой по краю металлической пепельницы на длинных ножках, вытряхнул пепел и, снова набив трубку, закурил. Итак, Каррере нужен повод для переворота. Впрочем, есть еще один путь: до переворота и до ноябрьских выборов в различных пунктах побережья Сакраменто может высадиться десант. Биллу достоверно было известно, что отлично вооруженные сакраментские эмигранты готовы к вторжению. Он даже знал имя человека, возглавлявшего это движение, – Мигель Барриос.
Если вторжение состоится, Хувентино Каррера немедленно объявит военное положение и будет отчаянно сопротивляться. А какие шансы на успех у эмигрантов?
Билл вернулся к столу и, подумав, пришел к заключению, что шансы у них немалые. Сакраментский народ устал от диктатуры Карреры. На стенах столицы уже появлялись лозунги, призывающие народ к вооруженному восстанию. Распространялись антиправительственные листовки. Университет оставался "очагом революционной заразы", как писала одна официозная газета. А национальная армия? Офицеры и сержанты, верные народу, возможно, примкнут к повстанцам вместе со своими солдатами...
Годкин глубоко вздохнул, выпустив клуб дыма. Рут, дорогая! Если бы ты видела тогда на Сьерра-да-Кавейре молодые обветренные и загорелые лица Хувентино Карреры и Габриэля Элиодоро Альварадо! Каким воодушевлением и мужеством они были полны! Какой жаждой свободы! Какая надежда, какая вера светилась в их глазах! Они хотели освободить свой народ от тирании, установить социальную справедливость... Но, дорогая, кем они стали сегодня... Чем это объяснить? Неужели время разрушает все? Все на свете?
Билл просмотрел сообщения о международных событиях. Ничего утешительного. Что означает этот вселенский хаос? Может, господь бог знает? Если б существовала телетайпная связь между всемогущим и Амальгамэйтед Пресс... "Но даже и в этом случае, – размышлял Годкин, надевая пиджак, чтобы спуститься в закусочную и в одиночестве проглотить сосиску, – шеф агентства все равно вносил бы изменения в божественные послания, если только они, по его мнению, могли бы нанести вред интересам крупных американских корпораций. Ибо Амальпресс полагает, что и для бога, и для всего мира хорошо лишь то, что хорошо для "Юнайтед стейтс стил", для Дюпона, "Эссо" и "Алькоа". Во всяком случае, таков догмат, который газетные епископы и кардиналы внушают urbi et orbi . Но долой пессимизм, – заключил Билл, выходя из кабинета. – Я жив и голоден. И солнце пока еще сияет".
В этот час, сидя в своем автомобиле, стоящем у тротуара, генерал Уго Угарте поджидал окончания уроков в колледже Арлингтона. Он этим занимался по крайней мере дважды в неделю, волнуясь, как мальчишка, который прогуливает уроки.
К тому же на развлечение это он тратил лишь бензин и десять центов за стоянку машины.
В животе генерала урчало от голода. Но Угарте продолжал ждать и курил, не спуская глаз с длинного одноэтажного здания из кирпича, которое возвышалось за просторным газоном.
Наконец в дверях колледжа появились девочки и мальчики лет двенадцати-пятнадцати. Кто шагом, кто бегом, но все с криками они пересекали газон.
Какое зрелище! Гимназистки Серро-Эрмосо, вспоминал Угарте, носят белые блузки и темно-синие чулки. Американки же выставляли напоказ чулочки самых различных цветов и ходили в обтягивающих свитерах. У некоторых девочек грудь была вполне сформировавшаяся, а у других едва намечалась, – и именно эти, одиннадцати-тринадцатилетние, особенно нравились Угарте и казались наиболее желанными. Стайка школьниц подходила к его машине, и генерал улыбнулся розовым личикам; были тут и некрасивые, и ни то ни се, и очень хорошенькие. Хорошенькие, пожалуй, преобладали. Школьниц становилось все больше, и Угарте уже не знал, на что смотреть: на лица, на ноги или на груди... Девочки вертелись, пританцовывали, напевали, притворно ссорились, словом, вели себя как на сцене, понимая, что за ними наблюдают взрослые. А генерал уже рассматривал затаив дыхание их коленки. Он не знал на свете ничего более соблазнительного. Какая пикантность! Какая грация!
С сигаретой, приклеившейся к губе, Угарте следил за девочками, как старый голодный пес.
В это самое время в нескольких километрах от колледжа Гленда Доремус, сидя за своим столом в здании Панамериканского союза, без аппетита жевала сандвич. Она не пошла с сотрудницами обедать в ресторан «Дженнис Пан Эйшен», иначе пришлось бы поддерживать застольную беседу, а к этому у нее не было никакого желания. Гленда попросила принести себе сандвичи и стакан черного кофе. Зачем? Она пила кофе почти с отвращением, как горькую микстуру. Это было своего рода наказание, которое она ежедневно накладывала на себя. Каждый раз, когда кто-нибудь из сослуживцев спрашивал ее: «Хочешь, я принесу тебе кофе?» – она отвечала: «Пожалуйста, только без сливок и без сахара». Она давала подруге монету и, получив бумажный стаканчик, некоторое время смотрела на кофе, как самоубийца смотрит на озеро, в которое хочет броситься. Гленда знала, что от кофе ей становится плохо, появляется изжога, и все же заставляла себя выпить все до последней капли.
Вот и сейчас она вяло пережевывала сандвич, запивая его кофе. Капля кофе упала на записку Пабло, которую Гленда перечитала уже несколько раз. Надо ли им встречаться? Зачем? Только потому, что он просит? Не благоразумнее ли отказать, пока не поздно? Пока они не влюбились друг в друга, пока не совершилось то, что снова ранит ее тело и запятнает душу!
Гленда сделала глоток. Последние недели она много думала о Пабло, ей хотелось увидеть его. Но Пабло, о котором она вспоминала, не был циником, рассказавшим ей мрачную историю диктаторов, прелюбодеев, бандитов и мошенников. Ее Пабло был искренним, по-отечески внимательным, сдержанным в словах и жестах – таким она увидела его впервые. Каким же он был на самом деле? И какого из этих двух Пабло она встретит, если согласится на свидание?
Она должна принять решение раз и навсегда. Третьего пути нет. Стоит или не стоит ей видеться с Пабло Ортегой?
25
Однажды вечером д-р Леонардо Грис выступал в университете с докладом «Суровая правда о республике Сакраменто», о котором было заблаговременно объявлено. Ортега, Гонзага и Годкин присутствовали в качестве охраны, заняв места в первом ряду.
Ровно в восемь профессор департамента социальных наук, высокий, худой, в очках, пригласил докладчика на трибуну. Глухим голосом, с непроницаемым выражением лица, он представил оратора, предупредив публику, что соображения, которые д-р Грис собирается излагать, не всегда разделяются его департаментом и профессорами университета. Разумеется, добавил он, докладчик имеет право говорить все, что ему заблагорассудится, однако он же и будет отвечать за все сказанное.