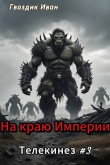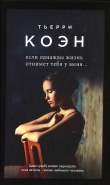Текст книги "Господин посол"
Автор книги: Эрико Вериссимо
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 27 страниц)
Раздались жидкие хлопки. Председательствующий поднялся, и Пабло показалось, что он стал еще длиннее за последние пятьдесят минут. Грис вытер платком вспотевшее лицо и снова посмотрел в ту же сторону. Встав, Пабло обернулся и увидел человека в светлом плаще: он сидел рядом со смуглым господином с густой бородой, физиономия которого как будто была знакома Пабло.
Профессор социальных наук объявил, что докладчик готов отвечать на вопросы. Первым обратился к Грису католический священник.
– Правда ли, что вы атеист?
В зале раздался глухой ропот.
– Запрещенный прием, – прошептал Гонзага. Годкин, которому до смерти хотелось курить, на цыпочках вышел из зала.
– Я не атеист, – Грис с доброжелательной улыбкой смотрел на священника. – Я агностик, а это, как вы знаете, не одно и то же. Уверяю вас, что я люблю жизнь и питаю глубокое расположение к своим ближним. А разве не это самое главное? Предположим, бог существует, этой возможности я не исключаю... Значит, любя творения божьи, я люблю его самого. Но уверенности в существовании бога у меня нет – о чем я искренне сожалею, – зато я люблю своего ближнего не из одного лишь стремления доставить удовольствие создателю и обеспечить своей душе вечное блаженство. Чувство привязанности, человеческой солидарности рождается внутри меня, из какого-то таинственного источника. Вот и все, пожалуй, что я могу сказать по этому поводу...
– Но этот таинственный источник, дорогой доктор, и есть бог. – Падре тоже улыбнулся и сел.
Кивнув, Грис невнятно проговорил:
– Надеюсь, что это так, преподобный! Искренне надеюсь.
Далее последовали два совершенно идиотских вопроса, заставивших Пабло закрыть лицо ладонями, и на оба докладчик ответил терпеливо, хотя и с юмором.
Поднялся смуглый человек, показавшийся Пабло знакомым. У него был суровый взгляд, квадратные челюсти, черные как уголь глаза.
– Несмотря на все ваши уверения, я не сомневаюсь, что вы коммунист! – резко заявил он по-английски, но с испанским акцентом.
– Это не вопрос, а категорическое утверждение, – отпарировал докладчик. – И все же я не коммунист, а либерал и даже романтик, словом, если б я решил следовать своим сокровенным наклонностям, остаток жизни я провел бы, ухаживая за садом, среди добрых друзей, наслаждаясь интересными книгами и хорошей музыкой. И если я не делаю этого, то лишь потому, что совесть моя постоянно омрачается воспоминаниями о нищете моего народа и до боли острым сознанием ответственности перед ним.
Нахмурившись еще больше, смуглый сел. В зале задвигали стульями, закашляли, начали переговариваться. Кто-то поднял руку, чтобы задать вопрос, но Грис жестом остановил его.
– Прошу вас, подождите! Лицо и голос этого джентльмена мне кажутся знакомыми. Мне думается, я встречал его когда-то очень давно, наверно, еще в Сакраменто... и как будто в форме национальной армии... если только память мне не изменяет. Но как бы там ни было, заявление этого джентльмена напомнило мне беседу, которая состоялась у меня однажды с профессором Оксфордского университета. Профессор сказал тогда нечто, удивившее меня своей правдивостью и в то же время своей обезоруживающей простотой: "Демократия отнюдь не антитеза коммунизма". Антитезой коммунизма, по его мнению, является капитализм, а антитезой демократии – диктатура. Хотя большинству капиталистов нравится называть себя демократами!
Пабло обернулся назад и увидел мрачное лицо смуглого человека, который едва сдерживал ярость. Неизвестный в непромокаемом плаще улыбался.
Потом студенты спрашивали, могут ли молодые американцы, обладающие техническими знаниями, получить работу в Латинской Америке. Грис ответил им по-отечески мягко, хотя и не без назидательности.
Наконец встал человек в светлом плаще. Наморщив лоб, Грис приготовился отразить удар.
– Правда ли, доктор, что вы возглавляете заговор, ставящий своей целью свержение насильственным путем правительства республики Сакраменто?
Все сначала с любопытством посмотрели на него, а затем повернулись к Грису.
– Вот и заварилась каша, – прошептал Гонзага. Пабло пробормотал что-то невнятное. Очки профессора социальных наук снова беспокойно блеснули. Грис улыбнулся.
– Вместо ответа я сошлюсь на всем известное пятое дополнение к конституции Соединенных Штатов.
В зале послышался смех. Однако человек в непромокаемом плаще задал еще один вопрос:
– Являетесь ли вы сторонником вооруженной борьбы против президента Карреры?
– Да! – воскликнул Грис. И повторил: – Да, я сторонник вооруженной борьбы!
Неизвестный в плаще хотел сесть, но докладчик крикнул:
– Прошу вас, не садитесь! Теперь я задам вам вопрос. – Грис в упор смотрел на этого человека. Атмосфера в зале казалась насыщенной электричеством. – Вот уже два месяца вы следуете за мной повсюду как тень. Кто вам платит за это? Посол Сакраменто? Отвечайте!
Человек сел и, закусив губу, покраснел больше обычного. Его смуглый сосед шепнул ему что-то на ухо. В зале поднялся шум. Ортега было встал, но Гонзага потянул его за полу пиджака. Подняв руку, председательствующий попросил тишины.
– Леди и джентльмены, от имени нашего департамента и от своего собственного я благодарю профессора Леонардо Гриса за его доклад, однако еще раз напоминаю, что его точка зрения не разделяется ни департаментом, ни университетом. – И, сделав паузу, закончил: – Ни мною.
Затем повернулся к докладчику.
– Большое спасибо, доктор Грис, – и к публике: – Друзья мои, я объявляю собрание закрытым. Большое всем вам спасибо и спокойной ночи!
Послышались аплодисменты, опять довольно жидкие. Гонзага и Пабло подошли к Грису, пожали ему руку и остались подождать профессора, чтобы проводить его. Кроме них, к Грису подошли еще несколько человек, в основном земляки-эмигранты.
27
Росалия поклялась себе, что никогда больше она не переступит порога посольства. Между нею и Габриэлем Элиодоро все кончено с тех пор, как она узнала, что он с Фрэнсис Андерсен посещает ночные клубы и рестораны. А потом они, наверное, отправляются в какой-нибудь отель или прямо в посольство и остаются вместе всю ночь, пока она, Росалия, сидит дома, выслушивая жалобы и мольбы Панчо. «Жизнь моя, я задам тебе один очень серьезный вопрос и хочу, чтобы ты ответила на него совершенно искренне. Ты беременна?» Ей хотелось расхохотаться в лицо этому идиоту. «Если бы я забеременела, я отравилась бы, так и знай». Неуклюже, как плохой актер, Панчо опустился на колени, смеясь и плача, и поцеловал ей руку. «Слава богу! Слава богу!» – шептал он. Никогда Росалия не презирала мужа сильнее, чем в эти минуты. Несчастный сидел потом весь вечер в углу, молча рисуя что-то цветными карандашами и время от времени исподлобья поглядывая на нее. Как томительно долго тянулись эти часы! Росалия чувствовала себя еще более одинокой, когда муж бывал дома. Чем заняться? Она плохо знала английский язык, поэтому не могла смотреть телевизор или сходить в кино. Подруг у нее не было. Местную сакраментскую колонию она ненавидела. Росалия то и дело прислушивалась, не позвонит ли телефон, Габриэль мог вызвать ее в любую минуту... Уже почти неделю они не виделись. Ее тело тосковало по нему, но оскорбленная гордость не позволяла позвонить первой... Любопытно, но Панчо тоже, казалось, ждал звонка, будто и ему хотелось, чтобы посол снова взял Росалию к себе в постель.
Однажды вечером, когда жена особенно нетерпеливо поглядывала на телефон, он не выдержал и спросил:
– Неужели он тебе так и не позвонит?
– Кто он?
– Посол...
– Я тебя не понимаю, Панчо...
Тот пожал плечами.
– Я сам себя не понимаю... – И принялся скатывать трубочку из бумаги, расхаживая по комнате и больше не глядя на жену. – Если ты с ним счастлива, я не буду мешать вашим встречам. Я не хочу, чтобы ты была печальной и покинула меня. Я смирюсь со всем, лишь бы остаться с тобой.
Росалия почувствовала тошноту. Слова мужа, будто холодные слизняки, поползли по комнате, по стенам, стекали с мебели, как плевки... И липли к ее коже, к ее душе. Дрожь отвращения пробежала по спине Росалии, по рукам и ногам. Ее охватило странное ощущение, словно череп стал пустым, а лицо и губы одеревенели, как от наркоза.
В этот вечер телефон так и не зазвонил. В начале двенадцатого они собрались ложиться. Панчо в своем ужасном халате цвета мальвы поверх полосатой пижамы вышел из ванной и, благоухая зубной пастой, умоляюще проговорил: "Можно, я приду к тебе сегодня?" О боже! Если бы она могла сжалиться над этим беднягой! Закрыть глаза, ни о чем не думать, умереть на полчаса, покориться его слюнявым поцелуям, прикосновениям его влажных рук, не слышать его гнусностей... Но это было невозможно. "Нет, Панчо. У меня ужасно болит голова. Потерпи до завтра". Он покорно склонил голову и, перед тем как попрощаться, прошептал: "Ладно... Но завтра он наверняка позовет тебя!"
Что с ней будет дальше? Нинфа передавала ей, что в местной сакраментской колонии ее называют не иначе, как "посольская любовница". Почетный титул! Двадцатишестилетняя женщина, у ног которой, если б она захотела, были бы самые красивые и молодые мужчины, отдала себя во власть человеку, годившемуся ей в отцы!
Росалия пыталась проанализировать свои чувства к Габриэлю. Он первый дал ей неведомое дотоле наслаждение, заставил почувствовать себя женщиной. С ним она узнала ощущение полноты жизни, его слова убеждали ее в том, что она что-то значит, что она действительно существует. Росалия понимала: ее влечение к этому человеку, напоминавшему ей идолов майя, которых она еще девочкой видела в журналах и книгах, было смешано со страхом. Сколько раз она с любовью и в то же время с отвращением целовала светлый шрам на его загорелом лбу! И в сладостной агонии, когда ее обнимали мускулистые руки Габриэля, у Росалии часто появлялось желание, чтобы он убил ее, раздавил, прижав к своей груди. Но едва отступала волна острого наслаждения, она разражалась рыданиями, словно бедная сиротка, которой будет довольно, если Габриэль погладит ее по голове, позволит прижаться к своему горячему сильному телу и скажет нежные, чистые слова.
Но сейчас он, неблагодарный, обманывает ее с американкой. Да еще цинично отрицает это!
Однажды вечером телефон зазвонил. Панчо еще не вернулся из консульства. Подбежав к телефону, Росалия схватила трубку: "Алло!" – "Росалия, дорогая моя!" – Это был его голос. "Добрый вечер, Габриэль Элиодоро". – "Что это за тон, моя милая? Я страшно по тебе соскучился. Ты не могла бы прийти ко мне сегодня?" Она помолчала, не зная, что сказать. Наконец, вся дрожа, едва пробормотала: "Не знаю, удастся ли..." – "Конечно, удастся! Я жду тебя к ужину, как всегда". – "Не знаю..." – "Как это не знаешь? Ровно в восемь я пришлю за тобой Альдо. Договорились!"
И вот сейчас она, поклявшаяся никогда больше не переступать посольского порога, выходит из "мерседеса" и нажимает кнопку звонка у главного входа. Мишель открыл ей и, по своему обыкновению, поклонился, не глядя на Росалию, ибо не должен был узнавать позднюю посетительницу. Bonsoir, madame! Она снова в вестибюле, снова слышит знакомые запахи ковров, мебели, слабый аромат соснового экстракта, сразу напомнившие ей поцелуи и объятия Габриэля. Щеки Росалии залила краска стыда, она понимала, что возвращается к нему и что все пойдет как прежде.
С раскрытыми объятиями по лестнице спускался Габриэль Элиодоро. "Росалия! Как хорошо, что ты пришла! Как я рад!" Она позволила себя обнять и отвести на второй этаж.
Только после того, как прошел первый порыв страсти, Росалия заговорила о Фрэнсис Андерсен. Они еще лежали.
– В конце концов, дорогая, если это и должно кого-то заботить, то мою законную супругу, а не тебя. Главное, что я тебя люблю и не могу без тебя жить.
– Ты говоришь правду?
– Что такое правда? Если знаешь, скажи. Во всяком случае я не знаю. Я знаю только то, что чувствую.
Несмотря на все усилия, Росалия не смогла сдержать слез. Габриэль почувствовал, как они капают на его волосатую грудь.
– В чем дело, мой цветочек?
– Что со мной будет?
– Ничего. Я уже тебе тысячу раз это говорил и сейчас повторяю. Что может случиться с такой молодой и красивой женщиной? Взгляни на меня. Моя жизнь на исходе. – Росалия зарыдала, и он погладил ее по голове. – Если бы я тебе рассказал, о чем я думаю, когда остаюсь один в этом огромном доме... Уж не считаешь ли ты меня бесчувственной, грубой скотиной? Раньше я, вероятно, и был таким. Когда я был молод, все вокруг меня словно сговорились сделать из меня бандита, вечного мятежника. Но я победил своих врагов. Ведь было время, когда я ходил босой, оборванный и голодный. И если я сегодня чего-то добился, то обязан этим только себе – и больше никому.
Ему хотелось рассказать ей все: что мать его была проституткой, что он не знает своего отца и что его появление на свет стоило кому-то три луны, а может, и дешевле, так как по субботам для солдат 5-го полка делалась скидка. Но Габриэль промолчал.
– Ты никогда не вспоминаешь о жене? – спросила Росалия. – О дочерях и внуках?
– Конечно, вспоминаю, и часто. Но семья мало меня беспокоит. Дочери, кроме младшей, уже хорошо пристроены. Я богат. Если со мною что-нибудь случится, Франсискита и девочки будут обеспечены. Меня не назовешь легкомысленным. Я забочусь о своей семье. Если правительство падет, я отправлю всех их в Сьюдад-Трухильо. А потом они переедут сюда... или в Европу.
– А ты?
– Я отправлюсь в ад. Но не один, кое-кого я прихвачу с собой...
Когда Росалия стала играть маленькой алюминиевой ладанкой на шее Габриэля Элиодоро, тот с улыбкой сказал:
– Это изображение Соледадской богородицы, моей покровительницы. Ты не знаешь историю ее статуи, которая стоит в церкви нашего поселка? Однажды был страшный ураган, казалось, наступил конец света, море грозило выйти из берегов. Во время этой бури наш викарий служил мессу, он просил бога пощадить его добрых прихожан. Всю ночь ветер завывал не умолкая, волны бились о берег. Жители нижней части поселка укрылись в домах родственников и друзей, которые жили наверху. Молния ударила в муниципальную тюрьму, убила двух стражников, и все заключенные разбежались. В это время мне было лет десять-одиннадцать. Я просидел почти всю ночь у окна нашей лачуги, глядя на гору, которую озаряли вспышки молний... там скрывался Хуан Бальса со своими партизанами. Я просил бога, чтобы он пощадил революционеров, но направил молнии на казарму пятого пехотного полка. С наступлением дня буря улеглась, небо стало чистым, снова появилось солнце. И тут рыбаки заметили на берегу какой-то странный предмет. Сначала подумали, что волны прибили к берегу утопленника. Затем увидели, что это деревянная статуя какой-то святой. Пришел священник и велел отнести ее в церковь. Потом долго пытались выяснить, откуда взялась эта статуя, но безуспешно. Поблизости от нас не случилось ни одного кораблекрушения. Это могло быть только чудо... Тогда священник распорядился привести статую в порядок. Мастер Наталисио покрасил ее, и она стала красивее богородицы Севильской, которая считается покровительницей тореадоров. Из Серро-Эрмосо приехал сам архиепископ, чтобы освятить статую, названную богородицей Соледадской и ставшую покровительницей нашего поселка... и моей покровительницей...
Габриэль Элиодоро замолчал. Росалия продолжала играть ладанкой. Она не могла понять этого человека. Но... понимала ли она себя?
28
В записке Гленды было сказано: «Завтра, в половине одиннадцатого в Национальной галерее, в восьмом зале, против „Мадонны“ Рафаэля». Была суббота. Пабло пришел первым, но ждал Гленду не больше трех минут. Они пожали друг другу руки и сразу же заговорили о живописи, будто продолжая прерванный накануне разговор. Гленда сказала, что она не поклонница Рафаэля. Она находила, что от его полотен веет холодностью совершенства, в них нет трепета жизни. А как думает Пабло? О, совершенно с ней согласен.
Они стали медленно ходить от одной картины к другой, но смотрели их невнимательно, исподтишка наблюдая друг за другом. Пабло нашел Гленду очень привлекательной, она была во всем белом, волосы распущены, вид свежий, будто она только что из ванны. Перед "Мадонной с младенцем" Боттичелли Пабло, стараясь, чтобы его реплика прозвучала как можно непринужденнее, сказал:
– Эту картину Боттичелли написал во Флоренции, когда ему было всего двадцать шесть лет.
– Ни на одном старинном полотне младенец Иисус не похож на ребенка, – заметила Гленда.
– Вы очень хорошо выглядите.
– Спасибо, – отозвалась она и чуть было не добавила: "А разве у меня есть причины выглядеть иначе?"
Они молча постояли перед "Обожанием младенца" Филиппино Липпи, и Пабло едва не сказал, что, по слухам, Филиппино – сын монаха Филиппо Липпи и монахини, которую он соблазнил. Гленда, видимо, не очень любит скользкие темы и могла холодно и не без оснований заявить, что ее не интересуют сплетни XV века.
– Вот одна из моих любимых картин! – воскликнул Пабло.
Они подошли к "Портрету молодого человека" Боттичелли.
– Вам не кажется, Гленда, что на лице этого юноши написана вся история человечества? Что вы читаете в его глазах?
– Любознательность, любовь к жизни и в то же время нерешительность... и, может, даже страх.
Пабло хотел было взять девушку под руку, но не решился. Гленда же не имела бы ничего против этого, однако ей понравилась его сдержанность, очевидно, он понимал, что еще не время для подобных вольностей. Они прошлись по западному крылу галереи. Гленда призналась, что Эль Греко оставляет ее равнодушной. Пабло не согласился с ней. Как туристы, дорожащие каждой минутой, они пробежали по залам фламандских мастеров, Гленда сказала, что Рембрандт ей нравится. Пабло, которому все это начинало надоедать, чуть не крикнул: "Так заявите об этом во всеуслышание, и автопортрет Рембрандта улыбнется от удовольствия!"
– Вам нравится "Девочка в красной шапочке"? – спросил он, и Гленда призналась, что, когда увидела впервые оригинал, была удивлена и даже разочарована его небольшими размерами, хотя это и не снижало ценности полотна Вермеера.
Они остановились в центральной ротонде у фонтана и вдруг расхохотались.
– Какие же мы все-таки дураки, Пабло.
Он взял ее под руку и уже совсем другим тоном сказал:
– Пойдемте посмотрим поздних импрессионистов. Вы должны привыкнуть ко мне. Я хочу быть вашим другом и не хочу больше бояться каждую минуту, что оскорблю вас словом или жестом. – Пабло повел Гленду к картинам Гогена и Ван Гога, которых очень любил. – Я знаю, что тогда в посольстве я произвел на вас очень плохое впечатление. Не удивляюсь, я и сам себе был противен. Я до сих пор не понимаю – и поверьте, я говорю это совершенно искренне, – почему я вел себя так. Прежде со мной никогда ничего подобного не случалось.
Она молча улыбнулась, понемногу оттаивая. "О, как приятно, – думал Пабло, – ощущать рядом это теплое, надушенное тело. Но осторожно, дружище!" На свертке, которого он касался, стояла невидимая надпись: "Осторожно! Стекло!"
– Когда я вам надоем, – продолжал он, – вы мне скажите об этом откровенно и даже можете меня прогнать, хорошо? Как вы находите автопортрет Гогена? Эх, если б я мог писать, как он... А теперь взгляните на эти деревья Ван Гога. Не кажется ли вам, что они похожи на людей, сведенных предсмертными судорогами?
Гленда кивнула. По правде говоря, полотна импрессионистов ее не очень интересовали, она видела их несчетное число раз, бывая прежде в музее. Интересовал ее Пабло, теперь сомнений в этом не было, зато появилась тревога. Если бы они могли оставаться друзьями, и только друзьями, время от времени встречаясь для долгих разговоров... Возможно, когда-нибудь она рассказала бы ему все. Все? Нет, это невозможно! Но по крайней мере у нее был бы друг, с которым она могла быть откровенной, хотя и не до конца, не выворачивая себя наизнанку, не изливая своей тоски. Ортега человек тонкий. Гленде нравилось его лицо, его голос, было приятно его присутствие. Однако где-то внутри, в самом сердце, что-то противилось окончательной капитуляции.
– Вы устали? Мы можем немного посидеть.
Они уселись перед картиной Манэ, изображавшей мертвого тореадора на арене.
– Пабло, – сказала вдруг Гленда, повернувшись к нему и глядя ему в глаза. – Я, наверное, кажусь вам очень странной?
Немного поколебавшись, Пабло кивнул, но тут же поспешил спросить:
– Но кто вам сказал, что это мне не нравится?
– Если я вам задам один вопрос, обещаете ответить на него откровенно?
– Обещаю.
– Чего вы от меня добиваетесь? Зачем я вам понадобилась? Неужели только для коллекции? И как большинство мужчин вашего возраста и положения, вы хотите сделать из меня послушную игрушку? Говорите! Не бойтесь оскорбить меня или разочаровать.
– Черт побери! Вы задали мне сто вопросов и хотите получить один ответ. Что ж, попытаюсь сформулировать его покороче: вы мне нравитесь, ваше общество мне очень приятно, и я хочу, чтобы мы бывали вместе как можно чаще. Вы удовлетворены?
– Вы говорите, что я вам нравлюсь... Но это можно отнести только к моей внешности, не так ли?
– Вот те раз! Вы же не картина, не мелодия и не идея. Вы человек, у вас есть тело... и разве это плохо, что мне нравится ваша внешность?
– Плохо. Потому что, если в вас говорит чувственность, наши отношения роковым образом... вы сами догадываетесь...
Пабло не сдержал раздражения.
– Поймите же меня, милая Гленда. Я смотрю на вас, на ваше лицо, на ваше тело, и это доставляет мне наслаждение. Что же касается вашей души, то я еще не знаю, какова она, потому что вы не даете мне туда заглянуть. Вы нелюдимы, не допускаете ни малейшей близости. Я люблю – что поделаешь, у меня вырвалось это слово! – я люблю в вас то, что вижу. Все остальное вы скрываете за стеной, усыпанной битым стеклом, которую вы возвели между нами. Как я могу любить то, чего не знаю? И почему наши отношения непременно должны завершиться трагически?
Гленда молча смотрела на мертвого тореадора. И Пабло впервые представилась возможность спокойно разглядывать ее лицо. Он вообразил, как со сладострастным усердием пишет ее портрет, набрасывает углем выпуклый лоб, прямой благородный нос, пухлые губы – лишь они выдавали чувственность девушки... Лицо Гленды было продолговатым и гладким, с правильным овалом. Ее кожа не была слишком белой, как у блондинок, которые на солнце покрываются пятнами, словно лежалые фрукты. Кожа Гленды напоминала скорее лепесток магнолии, не только своей нежностью, но и чуть-чуть кремовым оттенком. А глаза, выражавшие сейчас неподдельную грусть и даже, пожалуй, тоску, были цвета фиалки, который удачно контрастировал с темно-каштановыми волосами. Про себя Пабло решил, что если лицо Гленды и напоминает чем-то лики мадонн, то в губах ее не было никакой святости, это был рот земной женщины, который ему захотелось поцеловать, едва он ее увидел. Да, ему нравилось и тело Гленды, казавшееся слишком худощавым, однако Пабло уже понял, что это не так, ее длинные, стройные ноги, узкие бедра... Он еще раз убедился, что Гленда гораздо привлекательнее того образа, который он хранил в памяти. Но почему она замолчала и грустно разглядывает мертвого тореадора?
– Постарайтесь не бояться меня, Гленда, или, вернее говоря, постарайтесь проникнуться ко мне доверием.
Она повернулась к нему, и Пабло снова захотелось ее поцеловать.
– Я вас не боюсь. Но доверия к вам у меня нет.
– Ладно, – Пабло улыбнулся. – Я предлагаю вам опыт. Давайте встречаться чаще, говорить... но откровенно, без недомолвок. Если через несколько дней или недель... или месяцев – срок установите вы – мы не поймем друг друга, можете меня прогнать. По рукам?
Гленда лишь пожала плечами.
Какой-то сторож, прислонившись к косяку двери, исподтишка наблюдал за ними.
Снова наступило молчание. Гленда опять посмотрела на мертвого тореадора, упавшего на арену рядом со своим плащом и шпагой. Бык поднял его на рога. Все мужчины – быки. Они набрасываются на женщин, и те остаются лежать, как тореадор, неподвижные, обессиленные, мертвые...
"А, пропади все пропадом!" – подумал Пабло и взял девушку за руку. Гленда посмотрела на него с испугом, но руки не отняла.
– Гленда, милая, давайте пообедаем сегодня вместе, я за вами заеду, хорошо? – И, чтобы она не заподозрила чего-нибудь, добавил: – Ждите меня у своего подъезда ровно в семь. Договорились?
Гленда едва заметно кивнула и снова уставилась на картину. Но видела она не тореадора, а упавшего на землю негра, залитого кровью, кастрированного, изувеченного. Его лицо, разбитое, растоптанное, превратилось в кровавое месиво.
– Но почему вы плачете, Гленда? Разве я чем-нибудь обидел или оскорбил вас?
В этот вечер они пообедали в ресторане «Рив Гош». Гленда много говорила и держалась менее замкнуто, чем обычно, хотя по-прежнему касалась только общих тем. Потом они встречались еще несколько раз по пятницам или субботам. Однажды в воскресенье солнечным теплым днем они отправились в парк Глэн Эко, закусили там сосисками, покатались на русских горах, и Пабло впервые услышал смех Гленды, громкий и звонкий, как у девочки, которая веселится от души. А как преобразилось ее лицо!
Мало-помалу он стал привыкать к ее складу ума, несколько резкому и критическому, ибо Гленда, в отличие от большинства знакомых Пабло американок, не обладала чувством юмора.
С наступлением первых жарких дней они полюбили выезжать в окрестности Вашингтона, например в Маунт Вернон Мемориал хайуэй, добирались и до дома, где жил когда-то Джордж Вашингтон. Гуляли в Тайдл Бейсине, лежали на траве, глядя, как прыгают в ветвях деревьев белки и птицы. Иногда возникали опасные паузы, во время которых Пабло, вдохновленный приятным уединением и близостью молодой и желанной женщины, предавался смелым мечтам, однако тут же одергивал себя, ибо все еще боялся сделать хоть один неосторожный жест, могущий оскорбить или спугнуть Гленду.
А она смотрела на жаркое голубое небо, видневшееся между купами деревьев, и чувствовала, как впервые за многие месяцы отдыхает каждый ее мускул, каждый нерв. Пабло оказался замечательным товарищем, он не позволял себе ничего, что могло бы ей не понравиться. И она уже не раз ловила себя на том, что ждет, когда он обнимет ее и поцелует в губы. Да, она ждала этого и в то же время боялась.
А может, все же лучше им оставаться друзьями? Но до каких пор? Иногда по ночам она беспокойно металась в кровати, думая о нем, желая его, пытаясь вообразить, какими будут его объятия... Пабло не мог оказаться грубым, как другие мужчины, у него тонкая душа, он художник, он... Потом Гленда решала, что надо встать под холодный душ и выкинуть все это из головы.
Особенно жаркой была вторая половина июня. Однажды вечером Гленда и Пабло отправились на прогулку. Автомобиль оставили близ Тайдл Бейсина в парке Ист Потомак и пешком пошли к Хэйнс-Пойнту. Они улеглись под ивой и стали молча смотреть на звезды, слушая приглушенный далью городской шум. Дул теплый и ласковый ветерок, насыщенный благоуханием цветов, и Гленда гнала от себя непрошеные воспоминания о том ужасном лете в Седартауне, пока Пабло с удовольствием вспоминал, как проводил лето в детстве и юности. Но голоса и образы, навеянные запахами теплого вечера, постепенно сковали его какой-то приятной грустью. И тогда тихо и не торопясь, как бы разговаривая с собой, он рассказал Гленде об отчем доме в Серро-Эрмосо, старом особняке в испанском колониальном стиле, полном старинной мебели, вокруг которого росли столетние кедры и дубы, а также печальные кипарисы, напоминавшие мальчику о кладбище. Был там еще фонтан, выложенный изразцами из Талавера-де-ла-Рейны, а также статуи, стоявшие вдоль дорожки из каменных плит, которая вела к дому; эти старинные статуи были живыми персонажами его детства.
– Это были девять муз, и я гордился тем, что знаю их имена и что каждая из них олицетворяет. У Клио одна рука была отбита, как и маска, которую держала Талия. В двенадцать лет я влюбился в Эроса, увенчанного розами и миртами, и сложил в его честь поэму... Однако, поступив в лицей, я полюбил Мельпомену. Вдохновленный ею, я написал греческую трагедию, воплотив себя в герое пьесы, очень напоминавшем Ореста.
Пабло замолчал, а Гленда подумала: "Где все-таки похоронены останки негра?" Боже, почему лето всегда навевает на нее эти мрачные воспоминания? Говорили, будто кто-то бросил его семенники голодным собакам, и те их сожрали. Гленда покачала головой, стараясь отогнать от себя эти мысли.
– Любопытно, – продолжал Пабло, – некоторые сцены как будто не имеют для нас никакого значения, но мы почему-то не забываем их. Например, одним прохладным вечером – мне было тогда лет десять-одиннадцать – я увидел, высунувшись из окна, как отец, опустив голову, задумчиво расхаживает по парку, накинув на плечи плед. Не знаю почему, но мне стало его жаль. Наверное, хотя я и был мальчишкой, я интуитивно почувствовал глубокое, непоправимое одиночество отца. Мне захотелось выйти из дома, взять его под руку и шагать с ним рядом, пускай даже молча. Но робость не позволила мне это сделать. Я никогда не был по-настоящему близок дону Дионисио...
– Что за человек ваш отец? – спросила Гленда.
Пабло ответил не сразу. Знал ли он своего отца?
– Он высокий, худой, немного сутулый, с длинным лицом, печальными глазами, тонкими аристократическими руками, тихим голосом. Таков его портрет. Еще я могу сказать, что он человек замкнутый, книголюб, молчальник, но все его уважают. С детства я слышал, что противоречить дону Дионисио нельзя... И шуметь при нем тоже... И огорчать его тоже, потому что он болен... Наш семейный врач сказал мне однажды: "Ваш отец еще довольно молод, но его бедное сердце очень устало, износилось, ему тысяча лет". Я понял эти слова буквально и долго думал, что сердце у моего отца действительно тысячелетнее.
– А мать?
– Если отец был для меня чуть ли не легендарным героем, чем-то вроде старинной статуи, то к матери я относился совсем по-иному. Это сильная, обаятельная личность. Она опекала меня со старательностью преданной гувернантки. Сами понимаете, единственный сын. Она ласкала меня, но и требовала беспрекословного послушания. Пока я изучал арифметику, мать занималась со мной, но когда я перешел к алгебре, она передала меня дону Дионисио. Само собой, алгебры я не знаю. А то немногое, что знал, забыл... Меня заставили изучать право только потому, что считалось – и особенно на этом настаивала мать, – будто мужчина обязательно должен получить звание доктора. Но возвращаюсь к матери: донья Исабель властная женщина, из благородной семьи и с сильно развитой сословной гордостью. Если б вы слышали ее рассказы о генеалогическом древе семьи Ортега-и-Мурат! Мать была своеобразным мостом между своим мужем и остальным миром. Или переводчиком, которому дон Дионисио поручил вести переговоры с жизнью. Благодаря ей дела нашего семейства процветали. И это, заметьте, в стране с патриархальным укладом!