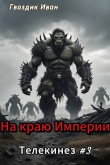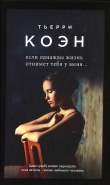Текст книги "Господин посол"
Автор книги: Эрико Вериссимо
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 27 страниц)
– А что же делал ваш отец?
– Подозреваю, что он жил и по сей день живет в мире грез, не желая знать действительности, которая не соответствует его мечтам. Я убежден, что из него вышел бы образцовый монах, в монастыре он был бы счастлив.
Пабло лежал на спине, скрестив руки под головой.
– Нужно иметь в виду, доном Дионисио с юношеских лет владеют два страха. Первый – это страх смерти, толкнувший его в объятия церкви. Он силен в теологии, наверно, ничуть не меньше архиепископа-примаса. Второй страх – это страх перед коммунистами, которые, захватив власть в свои руки, конфискуют его состояние и лишат его свободы вероисповедания и других свобод, для него жизненно важных. И тем не менее он по-настоящему хороший человек, поверьте, Гленда. Он делал трогательные, хотя и безуспешные попытки найти со мной общий язык.
– И как вы реагировали на эти попытки?
– Мальчиком я питал к нему сочувственную привязанность и уважение. Но когда я вырос, я восстал... И восстание это завершилось поступком, о котором я уже вам говорил. Я считаю, что спас жизнь Грису не только из дружеских чувств к старому учителю, но также и в знак протеста против убеждений моих родителей, которым противостояли идеи Гриса, агностика и сторонника социализма. Разумеется, я понял это много позднее...
– Как сложна жизнь! – Гленда вздохнула.
– Когда мне было лет пятнадцать, я уехал на каникулы в Соледад-дель-Мар, где у нас была усадьба и плантации. Там я влюбился в дочь пеона, примерно своего возраста, звали ее Пия. Мы с ней забирались в заросли сахарного тростника и подолгу лежали там, лакомясь фруктами, смеясь и рассказывая друг другу всякие истории. И случилось неизбежное, ведь мы были так юны... Грехопадение наше свершилось вечером, инициатива принадлежала Пии, такой же неискушенной и неловкой в любви, как и я. И тогда мы влюбились друг в друга и продолжали тайно встречаться, иногда в зарослях на берегу реки после объятий, нагие мы бросались в воду и плавали... До сего дня, если я слышу запах патоки, зелени, нагретой солнцем земли, я неизбежно вспоминаю Пию. Но однажды нас кто-то увидел и рассказал об этом матери, разразился страшный скандал... Можете себе представить, что было с доньей Исабелью Ортега-и-Мурат! Ее сын, ее плоть, ее кровь, занимался недостойным делом в зарослях сахарного тростника, да еще с дочерью пеона! Я был изгнан из Эдема. Мать плакала, проклинала меня и наконец, утерев слезы, спросила: "Ты хочешь убить своего отца? Неужели ты не знаешь, что его сердце может не выдержать?" Она решила не рассказывать ему о моем "преступлении". Скандал замяли, отца Пии уволили, и ему пришлось со всей семьей перебраться на другую плантацию. Меня же отправили в иезуитский колледж, где я изучал богословие, выслушивая постоянные угрозы адскими муками. Думаю, что два года, которые я провел в этом заведении, заложили фундамент моего агностицизма. Я убедился, что заниматься религией скучно, а бог – слишком строгий наставник... Моя мать мечтала сохранить меня до брака непорочным и рано женить на какой-нибудь девушке нашего круга, с которой мы народили бы детей для продления рода Ортега-и-Мурат, а те в свою очередь расширили бы наши земли, умножили богатство. В восемнадцать лет, когда я поступил в университет, мне уже подыскивали невесту. Кандидаток было три или четыре, все из видных семей Серро-Эрмосо. Я снова восстал. У меня не было никакого желания вступать в брак по расчету, но и склонности к аскетизму тоже, поэтому я часто менял женщин, и совсем не все они были проститутками. Впрочем, вам, наверно, неприятно все это слушать.
Гленда ответила не сразу. Ей вдруг показалось, что рядом с нею тот истерзанный негр.
– Почему? Просто это меня огорчает... Я не сторонница стихийных страстей.
– В том году, когда я собирался получить диплом бакалавра, мне пришлось покинуть Сакраменто по известным вам причинам. И сейчас я изо всех сил стараюсь ничем не ранить сердца дона Дионисио или гордости доньи Исабели.
Пабло замолчал и стал смотреть на мигающие огни самолета, который на небольшой высоте летел к аэропорту. Теперь он пришел к заключению, что Гленда очень напоминает Пию: тот же рот... длинные ноги. Правда, Пия была смуглой. А глаза? Какие у нее были глаза? Он не мог вспомнить.
– И все же вы больше любите отца, не так ли, Пабло?
– Я стараюсь не думать об этом. Мы с матерью часто ссоримся, когда встречаемся, и даже в письмах. Но у меня сейчас же возникает чувство вины перед ней, потому что к отцу я всегда испытывал нежность, а может, это была жалость? Моя совесть неспокойна оттого, что я никогда по-настоящему не попытался сблизиться с ним с тех пор, как стал взрослым...
Под деревьями мелькали силуэты гуляющих, на противоположном берегу светились огни. Над городом стояло мерцающее красновато-желтое зарево.
– Вы хотите вернуться домой? – спросила Гленда, тотчас почувствовав, что могла бы спросить об этом и себя.
– И хочу и не хочу. Я боюсь. Мой мир очень непохож на мир моих родителей, а может, наоборот, я обнаружу, что в сущности я такой же, как они, и это будет для меня тяжелым разочарованием. Действительно, все очень сложно.
– Но когда-нибудь ваш отец умрет, – прошептала Гленда после некоторого колебания.
– В тот же день мать изобретет новый способ шантажа, лишь бы продлить свою власть надо мной. Когда сердце отца перестанет биться, а тело его будет погребено в фамильном склепе Ортега-и-Мурат, донья Исабель начнет спекулировать на памяти дона Дионисио, уважать которую я обязан. Она будет напоминать мне непрестанно, какие надежды возлагал на меня старик: я должен охранять семейные владения и уважать социальный строй, опорой которого он являлся... и который я считаю жестоким, абсурдным и несправедливым.
– Вы социалист?
– Забавно, американцы боятся слова "социализм" и в то же время подготовлены к нему, как ни одна другая нация. Но я отвечу на ваш вопрос. Если хотите, можете наклеить на меня ярлык социалиста, утопического социалиста, сочувствующего либерала, гуманиста – какой угодно, название меня не интересует. Меня интересует установление социальной справедливости. В моей стране около двух миллионов жителей, а управляется она всего тридцатью семействами да двумя крупными американскими компаниями. Население Сакраменто обречено на бесправие, нищету, голод, болезни, большую смертность... Вы думаете, вернувшись в Сакраменто, я стану служить сохранению этого строя?
– А что вам еще остается?
Пабло перевернулся на живот и подпер голову руками.
– Это я и стараюсь понять.
29
Мишель Мишель сделал еще одну короткую запись в своем дневнике: "Двадцать минут девятого. Сегодня вечером Г. Э., панибратски подмигнув мне, что лишний раз доказало его невоспитанность, велел приготовить ужин на двоих, который я должен подать в 10 часов, когда посол спустится с любовницей из спальни.
Через несколько минут после нашего разговора я услышал звонок и пошел открыть. Я был поражен: вместо мадам В. Передо мной предстала мадемуазель Ф. А., белокурая американка, улыбавшаяся, как красотка с рекламы зубной пасты. Bon Diea! Сейчас они наверху, вероятно, уже разделись и предаются любви на изабелинской кровати: мраморная статуя и бронзовый фавн. Великолепный контраст! Я бы не отказался посмотреть на эту сцену, отчасти из научного интереса, отчасти из любопытства. Ho hélas" .
Росалия, прежде чем раздеться, всегда требовала, чтобы Габриэль погасил огонь, оставив только ночник. Фрэнсис же разделась при свете обеих ламп, ничуть не смущаясь, словно выступала со стриптизом. Посол, переодевшийся в шелковую пижаму, наблюдал за ней из ванной, предвкушая наслаждение, которое подарит ему эта белокурая женщина. Если принять во внимание его страсть и нетерпение, ухаживание, длившееся несколько недель, затянулось. Порой ему лишь с трудом удавалось владеть собой. Сколько раз они бывали в кабаре и ресторанах, сколько нежностей прошептали друг другу во время танцев, он слышал и обещания, и отказы, и слова надежды, и опять отказы. Посол дарил мисс Андерсен украшения с полудрагоценными и драгоценными камнями, заказал для нее платиновое кольцо с большой черной жемчужиной из Мексиканского залива, которое сейчас было на ней.
Фрэнсис лежала обнаженная, с закрытыми глазами, ее грудь дышала спокойно, как показалось Габриэлю Элиодоро. Белая... белая и такая чистая... Никогда в жизни у него не было женщины, от которой веяло бы такой чистотой и недоступностью.
Он медленно подошел к кровати. Ему нечего было говорить. Для их любви слова были не нужны.
Габриэль сел на кровать, и Фрэнсис улыбнулась, почувствовав его близость, но продолжала лежать с закрытыми глазами. Габриэль наклонился и нежно поцеловал грудь американки. Она слегка вздрогнула и инстинктивным движением плотнее сдвинула ноги. Габриэль снял пижаму и бросил ее на пол, положил руку на живот Фрэнсис, любуясь контрастом бронзовой и ослепительно-белой кожи. Потом потянулся к ее губам, но она отвернулась. Тогда он стал целовать ее волосы, лицо, подбородок, шею, снова грудь, живот... И Фрэнсис вдруг вцепилась ему в волосы, будто хотела вырвать их. С шумом переводя дыхание, он лег рядом с ней, обнял ее и прижал к груди, опять попытавшись поцеловать ее рот, но Фрэнсис откинула назад голову, и разозленному Габриэлю захотелось впиться зубами в эту нежную шею.
"Неужели я ей противен? – промелькнуло у него в мозгу. – Постой, я тебя проучу, белая сучка, ты у меня узнаешь". Какое-то жестокое желание унизить ее, надругаться над этим великолепным телом поднималось в Габриэле. Он все сильнее прижимал к себе Фрэнсис.
– Подожди, Габриэль, – прошептала она. – Не надо торопиться. У нас впереди целая вечность, дай мне немного передохнуть.
Он отпустил ее и лег на спину. В комнате было прохладно, и все же Габриэль почувствовал, что тело стало влажным. Фрэнсис с улыбкой смотрела на него.
– Что ты почувствовал, когда убил впервые?
Его обескуражил этот неожиданный вопрос.
– А кто тебе сказал, что я убивал?
– Ну, Габриэль, мне же отлично известна твоя жизнь. Расскажи, что ты тогда чувствовал. Был ли охвачен холодной ненавистью или яростью?
– Я никогда не убивал хладнокровно.
– Трудно поверить.
– Почему?
– Да потому, что ты был партизаном, а они обычно нападают ночью и убивают часовых без шума, то есть ножом. Говори же, что ты чувствовал?
– Я не помню, когда убил впервые. У меня очень плохая память, и я ненавижу прошлое.
– Но что чувствует человек, когда убивает?
– В бою? Радость. Это та же игра, по ее условиям врага надо отправить в ад, прежде чем он отправит тебя.
– А потом? Начинаются угрызения совести?
– Откуда мне знать? По-моему, ты добиваешься от меня признаний, потому что думаешь, будто наслаждение в объятиях убийцы будет особенно острым.
– А почему бы и нет! Мне надоело спать с красивыми здоровыми мужчинами, для которых я что-то среднее между любовницей и матерью. Они настолько чисты, целомудренны и порядочны, что у меня пропадает желание.
– Я не гожусь тебе в сыновья, да и в отцы тоже, несмотря на свои годы. И вообще, не хватит ли разговоров?
Он снова потянулся к ее губам, но Фрэнсис опять отвернулась.
– Сколько человек ты убил? Скажи, Габриэль!
Он пустил в ход все известные ему ласки, но Фрэнсис оставалась равнодушной.
– Сколько? – повторяла она. – Десять, двадцать, пятьдесят?
– Я не считал! – крикнул он, едва удерживаясь, чтобы не надавать ей пощечин.
– Что же ты испытывал при этом?
– Когда у меня в руках был пулемет, я нажимал на гашетку и стрелял. А люди, которые падали, мертвые или раненые, были моими врагами. Они не имели ни лиц, ни имен.
– И все же сколько?
– Пятьдесят, сто, двести... Какое это имеет значение?
– А ты сможешь убить меня, если я не отдамся тебе сейчас?
– Нет. Я не хочу тебя убивать, наоборот, я хочу убедить тебя, что мы оба живем и что жизнь прекрасна.
– Но я знаю, что ты убийца, Габриэль. Не надо это отрицать! Ты, наверно, убивал не только гранатами или из пулемета, но и собственными руками. Расскажи, как это было, прошу тебя, расскажи!
Но он не хотел вспоминать. Мертвецов он похоронил в своей памяти, в братской могиле без надгробья и надписи. Они ее не заслужили. Полный желания, он обнял Фрэнсис, еще крепче прижал ее к себе, однако скрип кровати напомнил ему...
– Ладно, слушай. Мне был двадцать один год, и я скрывался от полиции, так как участвовал в провалившемся заговоре; мы собирались бросить бомбу в автомобиль Чаморро...
– Ты должен был бросить бомбу... своими руками, с риском для жизни?
– Нас было четверо. Мы еще не кинули жребий, кто принесет себя в жертву. Нашелся предатель, и полиция ворвалась в дом, где мы обычно собирались. Трех товарищей арестовали, но я сумел убежать...
– А если бы жребий пал на тебя... Ты бы убил президента и сам подорвался на той же бомбе?
– Что ты! Я, конечно, ненавидел диктатора. Ведь его солдаты убили моих друзей... ни в чем не повинных крестьян из деревни, где я родился. Но я был еще очень молод, мне хотелось жить. Жить, чтобы ненавидеть. А мертвые ненавидеть не могут.
Фрэнсис улыбнулась.
– Так, может, ты и выдал товарищей, чтобы избавиться от этого поручения?
Габриэлю опять захотелось дать ей пощечину, но он сдержался.
– Твой вопрос оскорбителен, и я не буду на него отвечать.
Фрэнсис погладила любовника по спине, ласково прошептав:
– Продолжай же! Итак, ты убежал... Где же ты прятался?
– У знакомой проститутки... Ее звали Эльвира.
– Она была хорошенькая? Молодая?
– Не хорошенькая, но и не уродлива. С крашенными перекисью волосами. Пожалуй, ей уже было за сорок, но тогда мне она казалась старухой...
– Она была влюблена в тебя?
– Не знаю. Я ей нравился.
– Где же она тебя прятала?
– В маленькой комнате, которую она снимала в старом доме, в квартале, где жили проститутки. Комната была бедно обставлена, и в ней стоял запах ее тела, ее дешевых духов, мужского пота...
– Куда ж ты девался, когда приходил клиент?
– Эльвира обычно торчала у окна, заманивая проходивших мимо мужчин. И пока клиент поднимался по лестнице, я убегал на чердак и сидел там среди мышей и пауков...
– И ты слышал, что происходило в комнате?
– Я старался не слушать, обливаясь потом и изнывая от жары. Но в потолке были щели, поэтому волей-неволей я становился свидетелем сцен, которые разыгрывались подо мной. Кого только и чего только я не повидал! Приходили и мальчишки, впервые имевшие дело с женщиной... А после того как клиент уходил, я спускался. И так всю ночь. Лишь на рассвете Эльвира запирала дверь на ключ и я, умирая от усталости, наконец ложился.
– С нею?
– В комнате была одна кровать.
– И долго так продолжалось?
– Две недели или три, не помню. Эльвира приносила мне еду, сигареты и даже одежду. Но мне надо было бежать из города...
– А теперь расскажи мне о человеке, которого ты убил впервые.
Габриэль на мгновение заколебался.
– Я не уверен, что убил его...
– Ты же сказал, что убил. Рассказывай!
– Может быть, это был кошмарный сон.
Фрэнсис рассмеялась.
– Тогда рассказывай сон.
– Однажды я почувствовал себя плохо, у меня был жар, перемежавшийся с ознобом, но я ничего не сказал Эльвире. Она, как обычно, сидела у окна. Я слышал, как мужчины останавливались, торговались с нею и уходили. Но вот один решил подняться. Эльвира сделала мне знак. Я едва добрался до чердака и улегся на одну из балок... Все тело ломило, меня била дрожь, наверно, начинался бред... А может, я уснул и все дальнейшее видел во сне. Вошел клиент. По голосу он мне показался человеком уже немолодым. Он разделся и потребовал, чтобы Эльвира тоже сняла с себя все. Я услышал, как скрипнула кровать, потом мужчина что-то сказал, я понял, что он хочет, чтобы Эльвира о чем-то попросила его...
– О чем же?
– Чтобы он сделал ей ребенка. Она ответила: "Не дури, давай побыстрее". Но мужчина настаивал: "Я прибавлю две луны, если ты попросишь, чтобы я сделал тебе ребенка". Она не соглашалась: "Зачем? Я не хочу никакого ребенка". – "Но ведь это просто так, мне так больше нравится. Я добавлю пять лун, если ты скажешь: "Сделай мне ребенка!"" Едва преодолевая неловкость, Эльвира начала повторять эти слова. И вдруг меня захлестнули ненависть и отвращение к этому мужчине и особенно к его голосу. "Скажи еще раз: "Сделай мне ребенка!" Еще..." И Эльвира со смехом говорила. А мужчина рычал, как животное.
Краем простыни Габриэль вытер вспотевший лоб.
– Я не помню точно, что произошло. Все вокруг было словно в тумане. Я как будто сбежал с чердака, бросился на мужчину, который лежал с Эльвирой, и всадил ему в спину нож... Он закричал, Эльвира тоже. Я понял, что пропал, что единственное мое спасение – бежать... Я выбежал на улицу, свернул в первый же переулок и скрылся...
– По-твоему, это был сон?
– Не знаю. Когда рассвело, я был уже за городом, жар у меня спал, я был мокрый от пота, но со свежей головой. В кармане нашлось немного денег. Я сел на поезд и поехал в Соледад-дель-Мар, но соскочил, не дожидаясь, когда поезд подойдет к станции, и спрятался в зарослях. Пока было светло, я не мог появиться в городе, где меня все знали. Вечером я пошел к своему другу падре Каталино.
– И рассказал, что убил человека?
– Рассказал, но он убедил меня, что все это – плод больного воображения...
– Почему?
– Потому что ни на моей одежде, ни на моих руках мы не нашли ни единого пятнышка крови. И еще я хорошо помнил, что никакого ножа у меня не было.
Габриэль Элиодоро встал и направился в ванную; там он вытерся полотенцем, провел ароматическим карандашом под мышками и вернулся в комнату.
– Двое суток я прятался на церковной колокольне. Падре Каталино принес мне серро-эрмосские газеты за последние три дня, и ни в одной из них ни слова не было об убийстве в квартале проституток... Однажды ночью я выбрался из города, поднялся в горы и присоединился к партизанам Хувентино Карреры...
Американка улыбнулась.
– Допустим, это действительно было сном или бредом, и все же что ты почувствовал, когда ударил ножом этого человека?
– Что-то вроде радости, которую я испытал, впервые овладев женщиной... Только ощущение это было более резким и мгновенным...
Фрэнсис вдруг приникла к Габриэлю, жадно впилась в его губы; ее язык, подобно жалу, вошел в его рот, и, задыхаясь, как в схватке, они слились в неистовом объятии.
В это время Панчо Виванко нервно ходил по тротуару напротив посольства. Стояла удушающая жара, воздух был неподвижен, от камней и асфальта поднималось горячее влажное дыхание. Панчо чувствовал, что рубашка стала мокрая от пота и противно липнет к телу. Он то и дело проводил платком по лицу, поглядывая на два светящихся окна в верхнем этаже посольства. Там, в этой комнате, сейчас были Габриэль Элиодоро и его любовница-американка, а бедняжка Росалия мучается, сидя с распухшими и покрасневшими от слез глазами у немого телефона...
Виванко остановился, чтобы перевести дух, и, прислонясь к дереву, стал наблюдать за сторожем, совершавшим ночной обход парка.
Он пытался вообразить, что происходит сейчас в апартаментах посла, и со странным сладострастием представлял не только наготу американки, но и обнаженного Габриэля Элиодоро. Сначала он воображал себя послом, ласкающим Фрэнсис, потом женщиной, которую обнимает этот великан. Вот он всаживает нож ему в шею и выпускает из него кровь, как из борова. Кровяные колбасы! А вот кровяные колбасы! Две луны за штуку! Кровяные колбасы! И когда этот боров потеряет сознание и станет белым как мел, он, Франсиско Виванко, воскликнет: "Это тебе за зло, что ты нам причинил!"
Он снова вытер лицо. Платок был совсем мокрый. В горле пересохло. Нет. Лучше пристрелить его. Он всадит в это чудовище пять пуль. Его арестуют и отправят в Сакраменто, там отдадут под суд и приговорят к тридцати годам тюрьмы. Габриэль Элиодоро близкий друг президента, и ни один суд не посмеет оправдать его убийцу. Тридцать лет в грязной тюремной камере. Они наверняка найдут способ отравить его... Либо умертвят с помощью изощренных пыток. Нет. Остается один выход – самоубийство. Росалию он потерял навсегда. Пустить пулю в голову? Или броситься с виадука?.. Виванко увидел, как его череп раскалывается о бетонную мостовую. Ему стало жаль себя. Пожалуй, лучше всего принять большую дозу снотворного и тихо заснуть навеки...
Виванко побрел к Висконсин-авеню, где оставил машину. Захотелось пить. Он нашел еще открытую аптеку, взобрался на высокий табурет у прилавка, заказал лимонаду, выпил его залпом и попросил ванильного мороженого.
– С шоколадом? – спросила девушка.
Врач запретил ему кушанья, от которых полнеют, но Виванко очень любил мороженое, политое шоколадом. Надо было бы сбросить по крайней мере килограммов восемь-десять. Но какое это имеет значение, если он решил покончить с собой?
– С шоколадом, – сказал он твердо.
Девушка выдавила из пластмассового тюбика жидкий шоколад. И Панчо жадно, как ребенок, принялся за мороженое.
Верный своим монашеским привычкам, Хорхе Молина лежал на полу у себя в спальне, положив голову на низкую подушку. Свет он погасил, в комнате было тепло, и лишь жужжание кондиционного аппарата нарушало тишину.
Министр-советник подводил итоги дня. Сегодня он замечательно поработал. После сомнений и долгих споров с самим собой он пришел к окончательному решению: биографию архиепископа – примаса Сакраменто он будет писать, согласуясь со своим первоначальным планом. Дон Панфило станет героем, а падре Каталино останется в безвестности, об этом сельском священнике вряд ли стоит даже упоминать. В конце концов своим поразительным долголетием церковь обязана владыкам – епископам, архиепископам и кардиналам, которые обладали не только глубоким знанием теологии, но и политической дальновидностью, историческим чутьем и здравым смыслом, к тому же людей этих, их мысли, речи и поступки осеняла величественная тень папы, или, вернее говоря, свет, исходящий от него. Если бы делами церкви ведали чрезмерно чувствительные священники, невежественные или простодушные, как соледадский викарий, – а наивность в политике иногда является смертным грехом, – католицизм понемногу левел бы, пока не попал в ненасытную пасть коммунистического дракона...
Сохраняя позу, рекомендованную йогами для придания телу идеальной расслабленности и покоя, отчего оно перестает быть бременем для разума, Молина пытался представить себе персонажей и сцены первой главы своего труда. Строгой хронологии он не станет придерживаться, используя свободную композицию современного романа. Например, "Ясное майское утро 1915 года". (Описание Серро-Эрмосо: крыши зданий в колониальном стиле, башни церквей и т.д. ... Не забыть озеро, чистый воздух плоскогорья.) Празднично звонят колокола. Стрелки часов приближаются к десяти, толпы народа стекаются к мессе в собор на Оружейной площади. (Описание вычурного фасада, краткая история храма.) Всеобщее оживление говорит о том, что ожидается что-то необычное. (Может, стоит привести диалог между двумя стариками на паперти собора: "Неужели ты не слышал? Сегодня молодой падре Панфило Аранго-и-Арагон произнесет свою первую проповедь!" Другой с удивлением: "Сын дона Рамиро?" Нет, не надо прибегать к дешевым трюкам. Автор сам опишет происходящее.)
Молина видит внутренность собора, слышит шумы и запахи, его наполняющие. Пышные барочные алтари, множество свечей, изображения святых на колоннах храма и в нишах, некоторым из них двести-триста лет. Поднимается благоуханный дым ладана. Звуки органа наполняют собор. Начинается месса. И вот долгожданная минута – молодой падре Панфило поднимается на амвон. В храме раздается приглушенный шепот. Кто-то кашляет. Скрипит скамейка. Затем воцаряется тишина. Падре Панфило великолепен в своем расшитом золотом облачении (подарок доньи Рафаэлы Чаморро), он окидывает взглядом прихожан, выразительным жестом поднимает руку, и его красивый, звучный голос разносится по всему храму. (Посмотреть точный текст проповеди, напечатана в первом томе его труда "Проповеди и пасторали".) Дать реакцию верующих, выражение их лиц глазами дона Панфило, затем чувства молодого священника, произносящего свою знаменитую проповедь против войны и насилия, в которой были осуждены Хуан Бальса и его бандиты.
А вторая глава? Было бы интересно совершить прыжок назад и привести читателя в дом Аранго, где в 1890 году раздался плач новорожденного...
Однако министр-советник тут же вспомнил другой дом, где тоже кричал новорожденный и рыдал мужчина. Этот мужчина был его отцом. На этот раз Хорхе Молина не гнал от себя печальных мыслей о матери, умершей родами.
30
Всю вторую половину июня Вашингтон изнывал от жары, продолжавшейся почти две недели. Влажный воздух словно загустел, и к четырем часам дня уже некуда было деваться от неумолимого зноя. Однако и вечером облегчения не наступало, и назавтра вашингтонцев ждало то же самое.
Габриэль Элиодоро уехал на один из пляжей в Виргинии и взял с собой Фрэнсис Андерсен.
А похудевшая Росалия целыми днями валялась в кровати, без всякого интереса листая журналы, и часто плакала, томясь тоской по Габриэлю. Когда возвращался из канцелярии Панчо, она запиралась у себя в спальне и больше не выходила. Тогда муж, печально понурив голову, принимался ходить по гостиной. Иногда он обедал в ресторане или бродил по набережной Потомака, где его снова одолевали мысли о самоубийстве. Если и после прогулки жена не пускала его к себе, он, поплакав перед запертой дверью, брал револьвер, который недавно купил, и, разглядывая его, снова и снова рисовал себе сцену убийства Габриэля Элиодоро. Но порой, когда Панчо не удавалось побороть желание, он, растянувшись на софе, воображал обнаженную Росалию в объятиях посла и предавался запретному греху.
Молина не очень страдал от жары. Его холостяцкая жизнь не выходила из обычного русла, министр-советник даже переживал счастливые минуты: ему удалось написать три главы биографии дона Панфило, которыми он остался доволен.
По воскресеньям он ходил к мессе в церковь святого Фомы. Преклонив колени, Молина пытался проникнуть всеми своими чувствами в таинство мессы и думал, как было бы хорошо, если бы он мог прийти на исповедь, очистить ум и сердце, а потом причаститься. Но почему бог не желает существовать в его помыслах, если существует в его душе?
Чета Угарте также укрылась от жары на морском пляже. Генерал быстро нашел себе компаньонов, говорящих по-испански, для бесед и покера. А Нинфа, демонстрируя свои телеса, обтянутые купальным костюмом, купленным на дешевой распродаже, тупо глядела в море, вздыхала от тоски по Альдо Борелли и пыталась флиртовать, хотя и безуспешно, с молодыми и атлетически сложенными спасателями.
Титито не покидал Вашингтона, оставаясь, по своему обыкновению, оживленным и веселым. Он поведал Клэр Огилви, что собирается устроить в своей квартире, выдержанной в розовом и черном цветах, вечеринку, о которой заговорит весь Вашингтон. "Приглашу только мужчин, – сообщил он, лукаво улыбаясь. – И догадайся, кто будет почетным гостем?" Мисс Огилви покачала головой, и Титито хвастливо бросил: "Вик Трой!" Клэр знала этого сейчас очень модного киноактера, двухметрового, широкоплечего великана, белокурого, с немного женственным лицом. Женщины с ума сходили по нему, рвали на нем одежду, отрезали кусочки его галстука и даже волосы, чтобы завладеть хотя бы частицей своего идола, этого чуда рода человеческого. Титито познакомился с ним недавно в Нью-Йорке, и Вик Трой согласился принять приглашение приехать в Вашингтон в начале осени на праздник к господину Вильальбе. Разве не душка? Клэр пожала плечами. Она чувствовала себя усталой. Ее план провести летние каникулы на музыкальном фестивале в Колорадо провалился. Мерседита и другие машинистки уехали в горы, и в канцелярии было тихо, как в склепе... "О Титито! Как я завидую твоему энтузиазму: думать о гостях в такую жару!" Но Титито не унывал. "Мы устроим что-то вроде маскарада, понимаешь?" Если бы она могла понять!
Орландо Гонзага уехал отдыхать в Бразилию. «Я рад, – сказал он Пабло, – бежать из этого ада на берегу Потомака, чтобы насладиться прелестями бразильской зимы».
В жизни Годкина не произошло никаких изменений. Иногда он встречался с Пабло, они завтракали или обедали. Пабло казался ему озабоченным.
И вот однажды вечером он, образно выражаясь, коснулся кровоточащей раны друга.
– У тебя не ладится с Глендой?
– Честное слово, Билл, чем чаще я встречаюсь с этой девочкой, тем меньше я ее понимаю. Иногда мне кажется, что она увлечена мной, готова на все, а потом вдруг ведет себя так, будто ненавидит меня.
– Извини, что я вмешиваюсь в твои интимные дела, – нерешительно начал журналист, – но ты не боишься связать свою жизнь с... хм... хм... невропаткой?
– Боюсь, и все же свяжу или, вернее сказать, уже связал. Меня безудержно влечет к этой девушке.
– Ты думаешь, что она... ну, я хочу сказать, у нее уже есть определенный опыт в любви?
– Если он и был, то очень неприятный и оставил в ее жизни след, который до сих пор не изгладился.
– С южанками всегда сложнее, чем с женщинами Запада. Я думаю, что большое число негров...
Пабло прервал друга:
– А не кажется ли тебе, что Гленда их ненавидит? Как-то на днях мы обсуждали сообщение в газете о том, как сенатор из Алабамы потребовал сжечь одну детскую книгу, потому что там была сказка о белом зайчике, который женился на черной зайчихе. Естественно, я сказал, что нахожу это требование нелепым и смешным. Гленда разъяренно взглянула на меня и крикнула: "Вы тоже Negro lover ?"
Годкин медленно покачал головой.
– Другой раз,– продолжал Ортега, – мы гуляли, взявшись за руки, любовались гиацинтами и водяными лилиями в садах Кенилворса. Я вдруг решился и обнял Гленду, поцеловал ее в губы и замер, ожидая пощечины или оскорбления... Но Гленда не только позволила себя поцеловать, но и ответила на мой поцелуй. Кровь у меня вскипела, сердце забилось... Я уже тебе говорил, что зелень, голубое небо, запах травы и цветов всегда возбуждают меня. Но, почувствовав мое желание, Гленда оттолкнула меня. Иногда мне кажется, что ее пугает цвет моей кожи, она, наверно, думает, что у меня в жилах течет негритянская кровь.
– Глупости, у тебя типично испанская внешность!
Изнуряющая жара стояла уже несколько дней и, по сообщениям газет, явилась причиной смерти более десяти человек.
Душным вечером Пабло Ортега сидел за рулем своей машины, весь мокрый от пота, с мутными глазами и раскалывающейся от боли головой. Он ожидал, когда полицейский даст сигнал ехать, и вдруг увидел, что тот падает, сраженный солнечным ударом. Пабло едва добрался до дому, бросился на кровать и заснул одетым. Ему снились какие-то кошмары, и все же он встал лишь утром, чувствуя себя гораздо бодрее. После ночной грозы воздух был чистым и свежим, и город будто тоже стряхнул с себя мучительный, тяжкий сон.