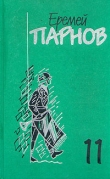Текст книги "Собрание сочинений в 10 томах. Том 3. Мальтийский жезл"
Автор книги: Еремей Парнов
Жанр:
Исторические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 30 страниц)
– Устав нашего общества не позволяет нам носить какие-либо знаки светских отличий. Если мы и служим монархам, а также подданным их, то единственно к вящей славе господней.
Павел пришел в восторг. Подобное бескорыстие не часто встречается при дворе, где погоне за богатством и почестями подчинены все думы и помыслы.
С той минуты двери царского кабинета были открыты для Грубера. Ему разрешено было входить без доклада. Привилегия почти немыслимая!
– К вящей славе господней, – шутливо приветствовал иезуитским девизом нового лейб-медика царь.
Их встречи становились все более частыми, беседы – продолжительными и откровенными. Выходя за рамки медицины и как-то привязанных к ней восточных таинств, Грубер осторожно касался вопросов политики. При помощи нунция Литты он вовлек императора в ватиканские интриги и даже заручился обещанием содействовать формальному возобновлению ордена.
Явившись однажды к утреннему приему, Грубер застал государя за чашкой шоколада.
– А я только что вспоминал вас! – посетовал Павел. – Мой кондитер совершенно не умеет варить шоколад. Сколько я ни требую, никак не могу добиться, чтобы сделали как следует. Самый вкусный напиток мне довелось отведать в одном из ваших монастырей, где мы случайно остановились, путешествуя по Италии.
– Это действительно наша тайна, государь, вроде ликера братьев бенедиктинцев. Мне известен самый лучший испанский рецепт. Если вашему величеству будет угодно, я берусь приготовить по-своему.
Влияние Грубера, перескочившего из лейб-медиков в государевы шоколадники, росло со сказочной быстротой. Никогда и ничего не прося для себя лично, он шутя потеснил и Лопухина, папеньку фаворитки, и самого Кутайсова, постоянно готового схватить любой кусок.
Скоропалительная переменчивость к явлениям и лицам не могла не сказаться и на внешней политике, пересмотр которой наметился к концу уходящего в Лету восемнадцатого столетия. Грубер чутко уловил едва заметные изменения в отношении Павла к Наполеону и постарался незаметно подстегнуть этот желательный для иезуитов процесс.
Когда-то камер-фрейлина Нелидова упрекнула наследника за решительный поворот во взглядах на просвещение и просветителей.
– Вы вправе сердиться на меня, Катя, все это правда, – с грустью признал Павел. – Но правда также и то, что с течением времени человек становится слабее и снисходительнее. Вспомните Людовика Шестнадцатого! Он начал уступать и кончил эшафотом.
Зная о стойком отвращении Павла к революционной Франции, едва ли можно было вообразить, что он не только пойдет на союз со вчерашними цареубийцами, но и решится изгнать из пределов империи Людовика Восемнадцатого со всем его семейством. Однако такое произошло.
Симпатии Павла качнулись в сторону первого консула, чей военный гений снискал восхищение даже в стане врагов. Тем более что Наполеон выгодно проявил себя и на поприще государственного устройства, укротив разбушевавшуюся чернь, а вместе с ней и революционную стихию.
К тому же глупость и легкомыслие Бурбонов, пригретых матушкой Екатериной, довели Павла до крайней степени раздражения. Русская знать, достаточно натерпевшаяся от засилья немцев, с трудом сносила французскую спесь. Тем более что в свите двора – в изгнании, как нарочно, подобрались почти одни вертопрахи, ловцы чинов и богатых невест. Отличаясь крайней невоздержанностью, они частенько болтали лишнее, что сейчас же становилось известно Павлу. Это был не тот человек, чтобы долго сносить подковырки.
В Париже вскоре стало известно о назревающем перевороте симпатий и чувств. Возможности возникали обширнейшие. Проинформированный Талейраном, Наполеон сразу же сделал ставку на Грубера, в кратчайшие сроки ставшего одним из наиболее доверенных лиц русского императора. В своих письмах к скромному труженику науки первый консул заклинает его во имя конечного торжества религии сделать все возможное для установления доброго согласия между Францией и Россией.
Когда таковое стало свершившимся фактом и петербургские газеты, как по команде, начали взахлеб расхваливать все французское и поносить все английское, Грубер, пользуясь правом входить без доклада, проскользнул в императорский кабинет.
– Что нового? – спросил Павел, неохотно отрываясь от письма Лизакевича, сообщавшего о согласии папы посетить Петербург. – О чем говорят в городе?
– Смеются над последним указом вашего величества, – с присущей ему смелостью ответил Грубер, намекая на передачу церкви святой Екатерины иезуитскому духовенству.
Стрела угодила точно по назначению. Смех подданных вернее всего мог привести импульсивного монарха в состояние, близкое к невменяемости.
– Кто посмел?! – вскрикнул он, багровея.
– Извольте, ваше величество, – иезуит преспокойно развернул заранее заготовленный список, в котором перечислялось двадцать семь имен. Среди других неугодных ордену представителей духовенства был назван и митрополит Сестренцевич.
– Арестовать! – распорядился Павел, едва пробежав глазами. – Выслать! – И велел срочно сыскать фон дер Палена.
Приказ петербургский генерал-губернатор, понятное дело, выполнил, но, зная крутой нрав самодержца, не стал допытываться, кого сажать, а кого лишь препроводить в родовые имения. Просто взял и выслал из столицы всех скопом – одних раньше, других, более именитых, позднее.
Среди лиц, внесенных Грубером в список, был скромный ювелирных дел мастер Янкелевич из Белостока. Вся его вина состояла лишь в том, что он изготовил по приложенному к заказу рисунку золотую разъемную палочку с крестом и всякими финтифлюшками. Заказчик на расходы не поскупился, хоть и пожелал остаться анонимным, на что имел полное право.
Белостокскому кустарю было невдомек, что его палочка, похожая на указку для чтения свитка, в качестве священной регалии фигурировала на мальтийской коронации самого царя.
Шоколадник пережил своего государя и уже под конец жизни достиг той вершины, к которой стремился. При Александре папа специальным бреве восстановил орден, и Гавриил Грубер был избран его генералом. Он погиб в 1805 году в Петербурге при пожаре, охватившем коллегиум.
Глава тридцатая
Гностическая гемма
Директора гастронома Вячеслава Кузьмича Протасова арестовали в ту самую минуту, когда он небрежным движением бросил в ящик рабочего стола сберкнижку на предъявителя. Обозначенная в ней довольно крупная сумма, хотя в масштабах Протасова ее скорее можно было счесть пустяковой, была его долей за реализацию дефицитных деликатесов: осетровой икры, лососины и прочих вкусных вещей, не столь уж часто появляющихся даже в столах заказов.
Все случилось настолько скоропалительно, что Вячеслав Кузьмич не сразу сообразил, откуда и, главное, для какой такой надобности возникли у него в кабинете трое энергичных молодых людей. Один из них, не говоря ни слова, воспрепятствовал попытке захлопнуть злополучный ящик, другой столь же бесцеремонно сдавил Вячеславу Кузьмичу руки, а третий, еще шире распахнув дверь, поторопил понятых. Мелькнувшая в глубине приемной зареванная мордашка секретарши оказалась для Протасова новым чувствительным ударом. Операция, судя по всему, была тщательно подготовлена и рассчитана на полную внезапность. Когда же выяснилось, причем очень скоро, что номер счета, а заодно и сберкассы, где он был открыт, записан на заранее припасенном листочке, отпала последняя надежда. И все же свыкнуться с тем, что с ним, избранником судьбы, вознесенным над прочими смертными, перед которым заискивали иные могущественные начальники, может приключиться такое, оказалось далеко не просто.
За четверть века он не только убедился в полнейшей безнаказанности, усвоив железные законы корпоративной взаимовыручки, но чуть ли не уверовал в общественную необходимость тайных махинаций, которыми занимался большую часть жизни. Начав с рядового продавца, он прошел все ступеньки служебной лестницы, добравшись до ответственного поста замначальника торга. И всюду ему приходилось прибегать к действиям, прямо подпадавшим под соответствующие статьи Уголовного кодекса. Когда же три года назад случилось досадное недоразумение и какие-то безответственные, явно склонные к авантюрам субъекты попытались дать этим статьям должное применение, Вячеслава Кузьмича, а с ним вместе и подчиненных ему директоров магазинов, достаточно ловко вывели из-под огня. Враждебной стороне не помогли даже наскоки в печати. Протасов лишний раз смог убедиться в могуществе системы. Пронизанная питательными сосудами самых разносторонних и очень далеко простирающихся связей, она вознаграждала за преданность более чем по-царски. Ведь такого образа жизни и такой непотопляемости при всем желании не мог бы гарантировать даже самый снисходительный конституционный монарх.
Когда же несколько слабонервных дурачков, схваченных за руку на самом примитивном воровстве, начали топить друг друга и называть такие имена, что даже следователям становилось не по себе, кое-кем пришлось, конечно, пожертвовать, кое-кого переместить на менее заметные должности. Разумеется, временно. Все, кому положено, знали, что, едва минет непосредственная угроза, положение восстановится. Так происходило почти всегда, и не было основания опасаться, что на сей раз сложится как-то иначе.
По крайней мере, Вячеслав Кузьмич ничуть не испугался, когда ему по причине упомянутого недоразумения пришлось оставить торг и, вновь возвратясь на круги своя, взять гастроном. Стоило запастись терпением. Протасову не пришлось пожертвовать ничем, даже самой малостью. Он по-прежнему крупно играл на бегах и просаживал сумасшедшие деньги в пульку. Не ради выигрыша или там щекочущего нервы азарта. Исключительно для препровождения времени. Так было принято в их кругу. Вячеслав Кузьмич умел и брать, и давать, хотя не одобрял любителей крайностей. Ему одинаково претили дешевка вроде полетов к морю на один день и купеческий шик, когда под банкет откупался целый ресторан. Именно на таком и сгорали. Оргии в финских банях, скупка валюты, погоня за каратами – на это он взирал с легкой брезгливостью. С подлинно достойным мыслящей личности жизненным стандартом вся эта кичливая блажь не имела ничего общего. Иное дело мерседес с радиотелефоном и престижным номером или добротная, современно обставленная квартира, где под японским телевизором стояли видеомагнитофон с соответствующим набором кассет и последней модели стереофоническая система с беспроволочным управлением. Без этих милых удобств Протасову было бы не так интересно жить. Скрашивая существование, они были неотъемлемой составной частью общей атмосферы. Подобно фирменной одежде, смирновской водке или сигаретам «Данхилл». Любой из этих мелочей можно было безболезненно пожертвовать, но все вместе они составляли именно тот продуманный микромир, тот тщательно отмеренный уровень, ради поддержания которого столь неустанно трудился на своей ниве Вячеслав Кузьмич. И странное дело: при этом он отнюдь не пренебрегал такими вещами, как грошовая – опять же в его исчислении – премия или благодарность в приказе. Даже, напротив, яростно сражался за десятирублевую прибавку к зарплате, за лишний день, причисленный к отпуску. Во имя сохранения целого нельзя было пожертвовать ни единой пылинкой. В противном случае мог возникнуть чреватый опасностью дисбаланс. Ведь одно не только дополняло, но как бы легализовало другое. Протасов не без основания считал себя цельным человеком. Он жил открыто, не тая нажитого. И любые служебные привилегии, сколь бы мизерны они ни были, входили в общий ценз. Билет на торжественный вечер актива, оттиснутый, судя по затейливой сеточке, не иначе как на Гознаке, столь же приятно тешил самолюбие, как и золоченая зажигалка на пьезокристаллах. На чужое Вячеслав Кузьмич никогда не посягал, но все так или иначе относящееся к собственной личности, что полагалось ему официально и полуофициально, умел отстоять. Многое, впрочем, совершалось почти автоматически и не стоило ему ни единой копейки. Даже энергию не нужно было расходовать. Не приходилось, например, выцарапывать путевку в Дом творчества, приглашение на премьеру, дефицитную книгу. Напротив, все это чуть ли не навязывалось в обмен на праздничные заказы и прочие виды услуг, служа лишним доказательством общественной незыблемости.
Доступный и снисходительный, Протасов привык видеть вокруг заискивающие улыбки и почти искренне считал себя всеобщим благодетелем.
И, несмотря на то что через его руки прошли сотни и сотни тысяч, в сущности, краденых денег, он вполне искренне относил себя к числу честных тружеников, к людям благонамеренным и достойным. Он научился вести себя так, что месяцами не вспоминал о действительном происхождении исправно прибывающих казначейских билетов. Единственное, что заботило его в этой связи, была извечная проблема аккумуляции капитала.
Потратить его разумным образом было не на что, сберкасса, по понятным соображениям, исключалась, скупка золота и прочих активов – тоже. Дальнейшее накопление в столь неестественных условиях представлялось бессмысленным, но игра, в которую так легко и бездумно дал вовлечь себя Вячеслав Кузьмич, обратного хода не предусматривала. Приходилось дуть до горы, хотя забота об уже имеющихся тайниках и без того порядком отравляла существование.
Начав было скупать картины, он вскоре поостыл, так как ничего в живописи не смыслил, да и свободных стен в квартире для подобного предприятия явно недоставало. К тому же признанные шедевры появлялись в продаже достаточно редко, а в перспективность доморощенных авангардистов Протасов не верил. Платить же четырехзначные суммы за надпись: «Неизвестный художник» – он побаивался. Не лучше обстояли и его упражнения со старинными часами и бронзой. Наполнив дом позолоченными уродцами в стиле «второго рококо», Вячеслав Кузьмич признал свое поражение и на этом фронте.
Даже для того чтобы только суметь увидеть стоящую вещицу, требовался особый талант. По крайней мере, знания. Ни супруга Протасова, Мария Васильевна, ни он сам вместе со своими приятельницами этим свойством никак не обладали. Прежняя, с которой Протасову удалось сохранить чисто дружеские отношения, – еще туда-сюда, а уж новая – косметичка Альбинка – была абсолютной пустышкой. Все, сколько ни дай, могла выбросить на цветные камни. При этом ни бельмеса в них не смыслила. С ума сходила по фианитам и авантюрину, который называла почему-то «коварство и любовь», и, уж конечно, не могла отличить природный самоцвет от выращенного.
Нет, кто-кто, а одноклеточная Альбинка была ему не помощница.
Оставалось испробовать себя на букинистическом фронте. Особой мудрости, как почему-то казалось Вячеславу Кузьмичу, это дело не требовало, а цены на книги росли год от года, быстрее даже, чем на золото. Уважая во всем основательность, он приобрел четыре застекленных полированных шкафа, разжился недоступными простому любителю ценниками и горячо взялся за дело. Вскоре новоявленного библиофила знали чуть ли не во всех букинистических магазинах Москвы. Его стиль отличался смелостью и простотой. Короче говоря, Протасов предпочитал брать что подороже. Ему безумно импонировали толстые дореволюционные тома с золотым обрезом, благородно потертая кожа и узорное тиснение. Хватая все, что попадалось под руки, он обзавелся помпезными собраниями Пушкина, Байрона, Шиллера, торжественно водрузил на полки Элизе Реклю, «Мужчину и женщину», «Всемирную историю», «Живописную Россию».
Это было не столь уж и глупо, хотя подлинные редкости, конечно же, прошли мимо его совершенно дилетантского ока. Войдя во вкус, Вячеслав Кузьмич вскоре решился расширить ассортимент закупок и стал, невзирая на иностранные названия (языками он не владел), чохом приобретать альбомы по искусству. Это дело понравилось ему даже пуще прежнего. Книги хоть и стоили триста, а то и четыреста рублей, зато выглядели как новенькие. С ними промаха никак не предвиделось. Сверкая глянцем суперов, пахучие и гладкие, словно пачки обандероленных ассигнаций, они ласкали глаз завидным товарным видом.
Но и на этой стадии директор щедрого гастрономического оазиса даже не подозревал, что существуют издания, стоимость которых превосходит самые смелые устремления. И немудрено. В закупочных ценниках они не упоминались, а на прилавках если и возникали, то, по-видимому, не чаще чем раз в десять лет. Таким образом, Протасов хоть и сумел обзавестись в рекордно короткие сроки роскошной, невзирая на некоторую односторонность, библиотекой, но главной своей проблемы никак не решил. К моменту ареста в его тайниках хранилось еще столько хрустящих вещественных доказательств, что ни на какое снисхождение суда рассчитывать не приходилось. Если, конечно, сумеют их отыскать.
Вся обстановка ареста произвела на Вячеслава Кузьмича удручающее впечатление. Однако его вера во всемогущество корпорации и личную, чуть ли не от бога данную неуязвимость существенного урона не понесла. «Выручат, не дадут пропасть, не позволят, – вертелось в голове, когда его, словно напоказ, вели под руки к машине. – Не мне одному полная катушка грозит, за мной такое потянется!.. Даже подумать страшно. На это никто не пойдет. Значит, все отрицать, ни в чем не признаваться».
О том, что почти в одно время с ним были арестованы многие из тех, кому адресовались теперь его упования, он, конечно, не знал. Не знал и об обыске, хотя такое не столь уж и трудно было вообразить, у себя на квартире. Вячеслав Кузьмич еще находился в кабинете, когда белая как полотно Мария Васильевна впустила в прихожую людей в форме. Больше того, в тот же заранее назначенный час были обысканы и квартиры обеих приятельниц Протасова, «пассий», как именовала их Мария Васильевна.
И то обстоятельство, что в отличие от жены, сохранившей пристрастие к старомодным выражениям, сам Протасов предпочитал более невинное слово «подруга», ничего здесь не меняло. Для тех, кто долго и тщательно готовили операцию, эта часть жизни Вячеслава Кузьмича не составляла тайны, как, впрочем, и для самой Марии Васильевны. Она вполне достаточно знала и про первую «подругу» Стеллу Борисовну, прежде заведовавшую столом заказов, и про новейшую Альбинку. Первая была моложе обожаемого супруга на восемнадцать лет, вторая – на все тридцать. Но приходилось делать вид, что ничего особенного не происходит.
У следствия были все основания подозревать, что директор гастронома захочет припрятать у своих «подруг» кое-что, как говорится, на черный день. Тем более что обе не раз участвовали в разного рода развлекательных мероприятиях и хорошо знали клиентуру Протасова. Едва ли, например, можно было посчитать простым совпадением, что Стелла Борисовна уволилась с работы за какой-нибудь месяц до падения замначальника торга. Причем по собственному желанию! Понимающие люди лишь обменивались на сей счет многозначительными улыбками. Кто-то ловко упрятал концы, а умница Стелла получила вскоре новое, не менее хлебное местечко.
Речь, однако, далее пойдет не о ней, а о более молодой и счастливой сопернице, сумевшей околдовать вероломного Вячеслава Кузьмича. Так распорядилась судьба, слепо разбросав свои покрытые кабалистическими знаками карты. В шкатулке, где Альбина хранила всевозможные браслеты и кольца, была найдена гемма, похожая на солитовскую, подробно описанную в ориентировке. На вопрос следователя, каким путем к ней попала столь необычная вещица, она назвала некоего Алексея, с которым познакомилась в конце лета. Знакомство завязалось на веселой пирушке, которую Протасов устроил по случаю постройки садового домика в товариществе «Московский композитор».
В том, что, по сути, совершенно посторонний человек мог сделать ей такой подарок, сама Альбина не находила ничего странного. Признав не без наигранного смущения, что, действительно, случайное знакомство очень скоро вылилось в более тесные отношения, она не смогла, а может, и не захотела дать об Алексее более подробные сведения. Поскольку ожидаемого тайника с деньгами не обнаружилось, а других претензий к Альбине не было, ее оставили в покое.
На другой день гемма вместе с протоколом об изъятии уже лежала у Люсина в сейфе.
– Я пригласил вас для очень серьезного разговора, Альбина Викторовна. Надеюсь, вы не откажетесь нам помочь? – начал несколько издалека Владимир Константинович, исподволь разглядывая сидевшую перед ним женщину. Ее смуглое, тонко очерченное личико олицетворяло полнейшую безмятежность. Лишь бисеринки пота на лбу и чуточку оттененной пушком верхней губе свидетельствовали о некотором напряжении.
– Пожалуйста. – Она поправила затейливую прическу, заставив легонько звякнуть крупные серьги с серебристыми висюльками.
– Вот и превосходно! – приветливо просиял Люсин и энергично потер руки. Он и в самом деле находился в приподнятом настроении, потому что в деле, которое рисовалось абсолютно безнадежным, неожиданно обозначился перспективный след. – Меня, Альбина Викторовна, интересует все, что связано с этим камешком. – Лучась доброжелательностью, он убрал бумажную салфетку, скрывавшую гемму. – Узнаете, надеюсь?
– Конечно, – Альбина закинула ногу на ногу. – Все, что могла, я уже рассказала товарищам, которые… которые у меня были.
– У нас несколько разные задачи, так что не сочтите за труд повторить.
– Как вам будет угодно. – Альбина с видом оскорбленной добродетели вскинула голову. – Вас, конечно, интересуют интимные подробности?
– Все без исключения, вплоть до самых мельчайших!
– Не знаю даже, с чего начать… Может, вам лучше спрашивать?
– Можно, если вам так больше нравится. – Люсин привстал захлопнуть форточку, откуда била морозная тугая струя. – Начнем с пикничка. Кстати, какого числа это было?
– Двадцать шестого августа. Я этот день очень даже хорошо запомнила.
– Почему, не скажете?
– С самого утра голова разболелась. Я вообще и ехать сперва не хотела, но Протасов уговорил: «Будешь хозяйкой! Единственная леди!» – передразнила Альбина. – Он это умеет! – В ее голосе промелькнуло накипевшее раздражение. – Ну, делать нечего, пришлось собираться. Набили полный багажник: коньяк «Наполеон», ящик чешского пива, шампанское… Любил пыль людям в глаза пустить!
– Эка вы о нем в прошедшем времени.
– А для меня он и есть в прошедшем! – Альбина негодующе повысила голос. Исполненная праведного гнева, она как-то сразу подурнела, ее казавшиеся одухотворенными черты опростились, огрубели. – Да я представить себе не могла, что он ворует у государства!
– В самом деле? – Люсин снисходительно улыбнулся. – А мерседес цвета белой ночи, заморские вина, широкие кутежи? Вы полагали, что все это с неба падало?
– Мало ли. – Дрогнув плечиком, она опасливо сбавила тон. – Все же начальник. Может, им положено так…
– Не положено. – Не переставая улыбаться, Люсин медленно покачал головой. – Очень жаль, что вас вовремя не насторожили дорогостоящие подарки, финская сантехника, мебельные гарнитуры…
– Лично я никаких подарков от него не видала! – незамедлительно отреагировала Альбина. – Он все больше пустяками отделывался: ну там духи на Восьмое марта, цветочки… Что же касается украшений, то я сама себе все покупала. И мебель тоже моя! Вы не думайте, я вполне достаточно получаю. Некоторые клиенты даже очень благодарят за обслуживание. И на зарплату не жалуюсь.
– Конечно, конечно, – не стал спорить Владимир Константинович. – Мы знаем, Альбина Викторовна, что вы женщина самостоятельная. Лично я на ваши драгоценности нисколько не покушаюсь.
– Скажете тоже, драгоценности! Пара колечек – смотреть не на что. Вы небось и не видали настоящих-то драгоценностей, которые у людей бывают.
– О, вот тут вы коренным образом заблуждаетесь, милая Альбина Викторовна. Именно мы и знаем настоящий толк в таких делах, уж поверьте на слово… Однако не будем отвлекаться от темы. Итак, утречком двадцать шестого августа вы с Вячеславом Кузьмичем выехали на дачу. На том самом мерседесе, если не ошибаюсь?
– Очень ему надо! Чтобы сидеть и зубами щелкать, когда другие поддают?.. Николай Аверкиевич, шофер его, на своей «Волге» заехал.
– У Протасова есть еще и частный шофер? – на всякий случай решил уточнить Люсин. – Очевидно, для подобного рода оказий?
– Я же говорю: вы не видели, как люди живут! Взять хоть Гурама Васильевича с Комсомольского проспекта. Наш Славик ему и в подметки не годится. Он, когда дочь замуж выдавал, целый рейс закупил для гостей. Только свои в самолете были. – При воспоминании о золотых денечках Альбина невольно вздохнула. – Его что, тоже вчера арестовали? – поинтересовалась она с тревожным любопытством.
– Вполне может быть, – Люсин незаинтересованно пожал плечами. – Кто еще сел с вами в машину?
– Больше никого не было. Остальные своим ходом прибыли.
– Перечислите, пожалуйста, всех.
– Ну, Зуйков Геннадий Андреевич, который, значит, строил, еще районный архитектор Петров, потом шабашники, двое их было… И все, и больше, кажется, никого… Ах нет, еще композитор зашел – Витя Фролов. Он уже с утра был теплый…
– А этот ваш Алексей?
– Так ему и приезжать не надо было! – Альбина удивленно заморгала подмазанными ресницами. – Он чуть не все лето в доме прожил заместо сторожа.
– И откуда же он такой взялся?
– Мало ли их увивалось всяких вокруг Протасова!
– И в самом деле… Только сдается, он немножечко из другого теста. Вам не кажется? Мне так определенно нравится этот сторож, направо и налево раздаривающий античные геммы! У него их что, куры не клюют?
– Я-то почем знаю?.. Она правда такая старинная?
– Правда, Альбина Викторовна. Полторы тысячи лет.
– Дорогая, должно быть, вещица! – Альбина не могла отвести взгляда от геммы. – Мне ее вернут, как считаете?.. Когда все закончится?
– Сомневаюсь, Альбина Викторовна. – Люсин устремил на нее долгий испытующий взгляд. – Судите сами: камешек, которым вас столь щедро одарил, по сути, первый встречный, имеет самое непосредственное отношение к убийству.
– Вы шутите! – Альбина испуганно вскрикнула.
– Ничуть. Такими вещами вообще не шутят. Гемма принадлежала человеку, который был убит и ограблен поблизости от места вашей веселой пирушки. Она была вправлена в браслет, но кто-то – не исключено, что убийца, – счел нужным ее выковырять. Зачем? Надеюсь, у нас будет возможность задать такой вопрос непосредственному виновнику. Пока же я вынужден вновь спросить, Альбина Викторовна, как это очутилось у вас дома? Дело, как вы теперь могли убедиться, исключительно серьезное.
– Но я же вам и так все рассказала!
– Положим, не все, но я не сомневаюсь в вашей добросовестности. Однако ваши ответы необходимо соответствующим образом отразить в протоколе. – Люсин принялся неторопливо заполнять бланк. – Здесь, кстати, содержится предупреждение об ответственности за дачу ложных показаний. Советую вам отнестись к этому со всей серьезностью.
– Вот уж не было печали! – Альбина с неподдельным отчаянием всплеснула руками. – Я-то тут при чем?
– Сочувствую и понимаю, но ничего изменить не могу. Что сделано, то сделано. Ваш Алексей оказал вам очень дурную услугу, просто-напросто подвел, я бы даже сказал, подставил вас… Будем выходить из положения вместе, Альбина Викторовна, я помогу. – Люсин демонстративно пощелкал по сеточке микрофона. – Итак, попробуем восстановить обстановку, в которой протекало застолье, так сказать антураж…
Альбина не нуждалась ни в чьей помощи. Все и так стояло перед глазами. Осязаемое, прилипчивое, будоражащее памятью запахов и прикосновений.
…Когда стало смеркаться, она зажгла керосиновую лампу – дом еще не успели подключить к линии – и к смолистой свежести сосновых плачущих досок примешался тягучий привкус угара. Все вдруг заторопились и стали прощаться, неохотно отрываясь от струганых лавок и тяжело нависая над разоренным, загаженным окурками столом. Их покачивающиеся тени, изломанные на стыках брусьев, напоминали нечистую силу из мультипликационных фильмов. Вооруженные трезубцами хищные лапы еще тянулись к мокнущим в рассоле кружочкам огурца и опрокидывали последние рюмки в широко разверстые пасти. По крайней мере, так ей казалось тогда, уставшей от хлопот и сальных шуток, наломавшейся возле печки-камина, пожиравшей дрова, как солому.
Сначала, предварительно спровадив ублаготворенных шабашников, отбыл строитель, осуществлявший прорабский надзор. Он был единственный, кто крепко стоял на ногах, и у него хватило ума прихватить с собой осоловевшего архитектора, задним числом утвердившего отступления от установленных норм и ограничений. Затем, пообещав вернуться к утру, распрощался трезвый как стеклышко Николай Аверкиевич, которому предстояло доставить до дому композитора Витю, сохранившего благородную молчаливость даже после обильных возлияний. Его удалось усадить в машину ценой немалых усилий, вернее, запихнуть, потому что он упорно сопротивлялся, силясь вернуться назад. Альбине даже пришлось дать ему напоследок хорошего тумака. Лишь после этого композитор удовлетворенно затих, разметавшись на заднем сиденье.
Потом незаметно исчез Алеша, сославшись на какое-то дело в хозблоке, который в ударном порядке переоборудовался под сауну. Альбина накапала хозяину дома лекарства и помогла взобраться по винтовой лестнице на верхний этаж, присела у запотевшего окошка, залитого непроглядной вечерней синькой. Погрустив в одиночестве, она с неохотой принялась собирать со стола. А вот что случилось потом, ей никак не удавалось вспомнить. Вернее, не что, а где, ибо она мысленно путалась в расположении дачных комнат. Кажется, это произошло возле лестницы в коридоре, куда она зачем-то заглянула по дороге в кухню. Даже половица не скрипнула, когда Алексей бесшумной тенью вынырнул у нее из-за спины, намертво сомкнув свои ручищи под самой грудью. Она враз ослабла и покорно дала себя увести. Уж очень боялась наделать лишнего шума. На все, кажется, была готова, чтобы только не разбудить ненароком Вячеслава Кузьмича. А вот в какой момент Алексей вложил ей в кулачок свой камешек и какие глупости при этом нашептывал, она позабыла. Вроде обещал чего-то, как бывает спьяну у мужиков, жаловался на то, что должен спешно куда-то уехать, и вообще на всю свою вконец загубленную жизнь. Врал, как ей сперва показалось, потому что грозился вернуться и жениться на ней, если, конечно, она его не забудет. Альбина, понятное дело, обещалась помнить до гробовой доски.
Вот, собственно, и все, что она могла сообщить.
– Если, как вы говорите, Алексей жил в хозблоке почти все лето, исполняя роль сторожа, то шабашники, а возможно, и композитор Фролов могли с ним как-то общаться? Так ведь?
– Почему нет? Свободно могли.
– А уж о Протасове и говорить не приходится! Верно? Уж он-то должен знать всю подноготную этого типчика?