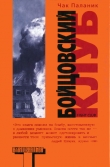Текст книги "Сумеречные люди"
Автор книги: Энтони Поуэлл
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 10 страниц)
– … Алло… простите, не слышно… кто?… кто?… кто?…
Голос на противоположном конце провода был еле слышен. Этуотер потерял к звонившему всякий интерес. Опять зашумело в голове. Он прислушался к голосу в трубке. Чье это такое странное, непривычное женское (или мужское?) имя прозвучало в трубке? И тут он сообразил. Это же Лола.
– …да… конечно, с удовольствием… да… да… нет, конечно нет… значит, во вторник… – Этуотер положил трубку. Мир вновь заявил о себе. Материальный, вещественный мир. Он открыл блокнот и записал, что во вторник с ней встречается. Что мне с ней делать, подумал Этуотер и вспомнил унылый роман, который он завел с женой своего зубного врача сразу после приезда в Лондон.
Из более срочных дел предстояло еще отдать в перевод скучнейшую лекцию финского профессора, причем сделать это надо было срочно – лекцию назначили на следующую пятницу. Найти переводчика было не так-то просто. Имелось, впрочем, и еще одно, и тоже неотложное, дело: освежить в голове деловую переписку в связи с установлением в его квартире газовой колонки. Переписка эта состояла из его писем владельцу квартиры и владельца квартиры к нему, из его писем в газовое управление и ответов на них, а также из обмена с водопроводчиком. Ситуация осложнялась еще и тем, что водопроводчик, человек немолодой и нездоровый, недавно умер, и теперь вместо него действовала новая, перекупившая права фирма, с которой ему приходилось иметь дело. Кроме того, в газовом управлении произошли существенные административные изменения, отчего процесс установки газовой колонки затягивался, а переписка между тем росла. Этуотер решил, что если он разберет все эти письма, а заодно даст резкую отповедь владельцу квартиры, отошедшему от дел галантерейщику, живущему в Беркхэмстеде, то в голове у него прояснится. Однако не успел он взяться за это письмо, прикидывая в уме, каковы будут первые строки, как в комнату вновь вошел посыльный и вручил ему неказистую, мятую визитную карточку, на которой значилось: «Доктор Дж. Кратч».
Юный болван извлек ее из кармана с видом фокусника, деловито показывающего давно и хорошо известный, при этом довольно скучный фокус, который он хочет поскорей закончить и перейти к чему-то более увлекательному.
– Что, опять?
– Он хочет получить назад свою книгу.
– Свою книгу?!
– Книгу, которую он вам дал.
– А разве он давал мне книгу?
– В сложенном виде. Я вам ее приносил, – настаивал юнец, мучительно вдумываясь в смысл сказанного и переложив то, что он смачно жевал, за правую щеку, отчего щека раздулась, как будто у него был флюс.
– Буклет! – вскричал Этуотер. – Боже! Буклет!
Буклет исчез. На столе Этуотера громоздились отчеты общества «Стародавние обычаи» за 1906–1908 и за 1911–1913 годы. Здесь же лежали кое-какие письма, несколько подержанных книжных каталогов, какие-то графики, карта вин, вырезки из газет, фотографии одежды минойского периода, конверты в коробках, мелко нарезанная промокательная бумага и несколько музейных бирок. Мусорная корзина под столом тоже была полна. Этуотер принялся искать буклет. Он искал его на полу, в мусорной корзине и по карманам. Посыльный не сводил с него глаз, словно помогая ему взглядом. Буклета как не бывало. Этуотер отправился в кабинет Носуорта. Носуорт что-то писал.
– У вас буклет?
– Какой буклет?
– Об унификации краниометрических расчетов.
Носуорт продолжал писать. Он переводил за деньги датские стихи.
– Мой дорогой Этуотер, – сказал он, – о чем вы?!
– О буклете, который нам оставил этот безумец.
– Безумец?!
– Он приходил сегодня утром.
– Сэр Грегори Уильямс?
– Да нет же. Тот, про кого вы сказали, что он приходил пять лет назад.
– Я разве что-то вам про него рассказывал?
– Доктор Кратч.
– О да, – сообразил наконец Носуорт, не выказывая при этом ровным счетом никакого интереса.
– Вы представляете, что будет, если мы его не найдем?!
– Что?
– Он будет приходить сюда каждый божий день, пока его не упекут в психушку, что может произойти очень и очень нескоро.
– Ничего, вы с ним разберетесь.
Все это время Носуорт продолжал писать.
– Мне нужен эпитет к слову «море», ну, например, «чернильное», – сказал он. – Нет, не подходит. Не придумаете ли что-нибудь подходящее?
Этуотер отчаялся.
– Скоро у меня отпуск, – сказал он.
Носуорт оторвал перо от бумаги и поднял на него глаза.
– С чего вы взяли, что буклет у меня?
Они обыскали комнату. Посыльный, не отходивший от Этуотера ни на шаг, тоже внимательно смотрел по сторонам. Буклета не было.
– Посмотрите в карманах, – сказал Этуотер.
Носуорт вывернул карманы. В карманах было много всякой всячины, но буклета не было. Носуорт даже заглянул в бумажник. Буклет, сложенный вчетверо, лежал между двух десятишиллинговых купюр.
– Кто бы мог подумать… – сказал Носуорт и вновь взялся за перевод.
Этуотер передал буклет посыльному.
– Быстрей, а то джентльмен не дождется и уйдет, – распорядился он.
Этуотер медленным шагом вернулся к столу. Утро выдалось непростое. Тем не менее, он взял ручку и начал писать длинную жалобу владельцу квартиры относительно газовой колонки. Его не покидало какое-то тревожное чувство. Дописывая первый абзац, он почувствовал, что кто-то стоит рядом. Это был посыльный, он издал странный звук одновременно губами, языком и зубами, нечто вроде всхлипа, имевшего, вероятно, своей целью привлечь внимание Этуотера и в то же время указывавшего на то, что рот его в этот момент был, против обыкновения, почти пуст.
– Ну?
– Джентльмен оставил записку, что ждать больше не может. Он придет завтра или послезавтра.
– Черт бы его взял!
Посыльный вышел. В комнату вошел Носуорт.
– Какой сегодня день недели? – спросил он.
– Суббота.
– Точно?
– Кажется, да.
Утро подходило к концу. Этуотер порвал начатое письмо владельцу квартиры. Он подошел к окну, открыл его и, высунувшись, стал смотреть на проходивших внизу людей. По листьям деревьев пробежал легкий, точно слабый вздох, ветерок. Под окном, по газону прохаживались студенты-индусы в светло-серых фланелевых брюках. До него доносились их голоса:
– Прекрасно, старина! Как это мило с вашей стороны.
И тут, раздумывая о дружеских чувствах, Этуотер вспомнил, что сегодня днем он пьет у Барлоу чай. Он вернулся к столу, взял книгу и вновь погрузился в чтение:
«…отдавая, пусть и не вполне осознанно, отчет в том, что его воображение претерпевает постоянные изменения, он внимательно следит за тем, чтобы использованный продукт этого воображения не лег в основу его новых трудов. Форма, которую он придает определенной метафоре или же неким специфическим связям между близко или далеко отстоящими друг от друга полотнами, никогда не передается элементам картины a priori, а развивается в соответствии с требованиями композиции…»
6.
В квартире Барлоу было две комнаты и кухня. В одной комнате стояла кровать, и по полу были разбросаны многочисленные предметы туалета. Другую, побольше, Барлоу использовал под мастерскую. Здесь посередине стоял диван-канапе викторианских времен, в одному углу, у стены, был матрац, в другом, напротив, лежали холсты, в рамах и без. Дверь открыла Софи. Она здесь не жила, но Барлоу дал ей ключ.
– Привет, Уильям, – сказала она, увидев Этуотера.
– Привет, Софи.
– Барлоу еще нет.
Она улыбнулась. Полненькая блондинка, Софи была типичной подружкой художника, вроде Евы у Тинторетто[7]. Работала она в магазине женской одежды. Они прошли в мастерскую. Этуотер снял шляпу и присел на диван. Софи, подперев руками пышные бедра, стояла поодаль и смотрела на него. Что-что, а продемонстрировать свои стати она умела ничуть не хуже любой профессиональной натурщицы.
– Гектор писал тебя последнее время? – спросил Этуотер.
– Ты еще не видел вот этот портрет, Уильям, – сказала Софи. К друзьям Барлоу она обращалась по имени; к друзьям, но не к самому Барлоу – он был для нее слишком значителен. Среди сложенных у камина холстов она отыскала свой портрет: обнаженная Софи сидит на табурете на фоне стены, обтянутой вощеным ситцем.
– Нравится? – спросила она.
– Вставь холст в раму.
Она вставила холст в одну из прислоненных к стене рам и поставила его на мольберт, после чего отступила на несколько шагов, взглянула на портрет невидящим взглядом и слегка улыбнулась про себя, словно бы удивляясь тому эффекту, какой производит нанесенная на холст краска.
– Пойду поставлю чайник. Барлоу скоро придет.
Она вышла на кухню, и до Этуотера донесся звон тарелок: Софи была неловка.
– Как тебе вечеринка? – спросила она из кухни. Барлоу никогда не брал ее с собой на вечеринки, и они вызывали у нее живой интерес.
– Было неплохо.
– Барлоу здорово напился.
– Правда?
Этуотер осмотрелся. В комнате было пустовато, и в то же время казалось, что она набита вещами. Все здесь было каким-то временным, недолговечным; впечатление создавалось такое, словно вещи, здесь находившиеся, кто-то по случайности забыл или ленится переложить на другое место. Картины Барлоу были хороши, но их было слишком много. А вот книг было наперечет, на глаза Этуотеру почему-то попалась «Так говорил Заратустра»[8]. Не успела Софи принести чай, как пришел Барлоу.
– Прости, что опоздал, – сказал он. – Весь день сегодня мутит. Чуть не вырвало по дороге.
Он поцеловал Софи и спросил:
– Чай готов?
– Только что заварила, – ответила Софи. – Уильям пришел минуту назад.
– Я прямо от Прингла, – сказал Барлоу. – Демонстрировал мне все свои работы за последние пять лет.
– Он позвонил мне сегодня утром и позвал выпить чаю к себе в мастерскую, – сообщила Барлоу Софи.
– Черт бы его взял. Позвонил в магазин?
– Да.
– Откуда он узнал телефон? Ты говорила ему, как называется магазин?
– Ты же сам на днях упомянул о моем магазине. А номер он узнал по телефонной книге.
– И что ты ему сказала?
– Сказала, что придти не смогу, потому что пью чай с тобой.
– А он что?
– Сказал, что еще позвонит.
– Я бы на твоем месте не ходил, – сказал Барлоу. – Он, в сущности, мерзкий тип. Тебе он не понравится.
– Меня он мало интересует.
– Он ужасен.
Софи вновь взяла чайник для заварки и начала разливать чай. Барлоу повернулся к Этуотеру и сказал, закатив глаза:
– Съешь пирожное. Оно, впрочем, довольно черствое.
– Ты хорошо знаешь Сьюзан Наннери? – спросил Этуотер.
– Что она поделывает?
– Кто-то вспоминал о ней вчера вечером.
– Да, знаю. Она ведь была вчера на вечеринке?
– Да.
– Она по-прежнему живет с Гилбертом?
– А разве она жила с Гилбертом?
– Не знаю, – сказал Барлоу. – Может, и не жила. За такими девицами, как она, не уследишь.
Этуотер пил чай. Софи вышла на кухню поставить чайник.
– Вчера здесь была Мириам, – сказал, понизив голос, Барлоу. – Стоило бы, наверно, на ней жениться.
– С какой стати? Ты что, ее обесчестил?
– Нет.
– Что так?
– Сдается мне, ей этого не слишком хотелось.
– Она славная.
– Да, я непременно на ней женюсь.
– Ты ее часто видишь?
– Нет, не особенно.
В комнату вошла Софи.
– Чайник течет, – сообщила она. – Надо купить новый.
– Купим, – сказал Барлоу. – Я не говорил тебе, – обратился он к Этуотеру, – что на прошлой неделе мне удалось продать несколько своих вещиц. В том числе и маленький портрет Софи.
– На нем я очень на себя похожа, – сказала Софи.
– Да, тот самый.
– Как твой брат? Пришел в себя?
– Да, сегодня утром уехал на поезде.
– И как он?
– Вроде бы в порядке.
– Я бы не сказала, что он в порядке, – вмешалась Софи. – Бедный мальчик…
– За завтраком у него немного тряслись руки.
– Выглядел он не приведи Господь, что и говорить! – сказала Софи и, в подтверждение своих слов, энергично встряхнула головой.
– Ничего, придет в себя, – сказал Барлоу. – Попадет в кают-компанию, или на бак, или в кубрик – сразу станет самим собой!
– Вчерашняя вечеринка удалась.
– С кем это ты уехал?
– Ее зовут Лола.
– Кто она такая?
– Плакатистка.
– Я так и думал, – сказал Барлоу. – Имей в виду, теперь, ты от нее не отделаешься. От девиц, которые так одеты, отделаться невозможно. Как она тебе?
– Говорит, что читает Бертрана Рассела.
– Ты от нее в жизни не отделаешься. А как она попала на вечеринку?
– Ее Вочоп привел.
– Очередная подружка Вочопа?
– Она ходит на его занятия.
– Вочоп приводит на вечеринки своих девиц, – сказал Барлоу. – А потом таким, как мы с тобой, приходится тратить на них все свое время и деньги.
– Точно.
– Собираешься с ней встретиться?
– Она звонила сегодня утром.
– Ну, что я говорил!
– А мне она, пожалуй, нравится.
– Не сходи с ума. А впрочем, не будем спорить о таких мелочах. Пойдешь сегодня вечером с нами в кино?
– Я ужинаю у Наоми Рейс.
– Ужин – вещь хорошая, – сказал Барлоу. – Утоляет муки голода. По крайней мере, в большинстве случаев. Помню, правда, один раз этого не произошло. Это было во время экономического кризиса. Я подъел, помнится, весь имевшийся в наличии соленый миндаль.
Софи поднесла к сигарете Этуорта тлеющий жгут. Внизу раздался звонок.
– Подойди к окну и посмотри через занавеску, кто это, Софи, – распорядился Барлоу.
Софи поставила чашку на стол, подошла к окну и выглянула на улицу из-за занавески. Некоторое время она всматривалась в стоящую под окном фигуру, а потом сказала:
– Фозерингем.
– Фозерингем? В самом деле?
– По-моему, он меня видел. Он мне помахал.
– Он не пьян, как тебе показалось?
– Нет.
– Ты уверена?
– Ну, конечно. – Софи засмеялась.
– Пойди открой ему дверь, – сказал Барлоу. – Если только он не пьян в стельку.
– Я пару раз встречал его у Андершафта, – сказал Этуотер.
– Да ты его тысячу раз видел! Стоит мне выйти на улицу, как он тут как тут.
– Как-то вечером я сидел с ним и с Андершафтом, и он уговаривал Андершафта написать в его газету статью про оккультную музыку.
– Да, он один из издателей спиритуалистической газеты. Сам он, по его словам, спиритуалистов ненавидит. А впрочем, большого значения это не имеет – в газете он отвечает только за рекламу, да и работа эта, как он сам говорит, временная, поэтому жаловаться нечего. В газете он работает всего-то пять лет.
– В целом, работа, надо полагать, неплохая.
– Он хотел, чтобы я сделал серию карандашных портретов известных спиритуалистов, но потом почему-то раздумал.
Голоса поднимающихся по лестнице Фозерингема и Софи приближались. Фозерингем, коренастый молодой человек с розовыми щечками, вошел в комнату первым. Он был небрит, в одной руке держал котелок, в другой – несложенный зонтик. Журналистикой от него веяло за версту.
– Послушай, старичок, – с порога заговорил он с некоторой, впрочем, нерешительностью в голосе, – буду груб и прям. Ты ведь не станешь возражать, Гектор, если я первым делом воспользуюсь твоим телефоном?
– Вон он, на ящике.
Фозерингем поднял трубку, назвал номер и улыбнулся Софи.
– Ради Бога, извини, Софи, – сказал он, – я ужасно себя веду, – а затем, уже в трубку, выпалил: – «…Привет, любимая… да, я знаю… мне очень жаль… ужасно виноват… правда… совсем немного… нет, боюсь, не смогу… да, конечно… в другой раз… до свидания, любимая… до свидания.» – И положил трубку.
– Бедняжка, – сказал он, – ужасно не хотелось ее огорчать. Но ничего не поделаешь. Иногда приходится быть жестоким – из лучших соображений, да… звучит это, конечно, пошло, но другого выхода нет.
– Вы знакомы? – спросил Барлоу.
– Мы встречались у Андершафта, – сказал Этуотер. – Вы слышали, что он в Америке?
– Да, – отозвался Фозерингем, – и, кажется, неплохо устроился.
– Кое-что зарабатывает.
– Надеюсь, мы с ним скоро увидимся, – сказал Фозерингем. – Я и сам туда собираюсь.
– И когда же? – поинтересовалась Софи.
Фозерингем ей нравился. Это был единственный мужчина, способный отвлечь ее, пусть ненадолго, от Барлоу, и в то же время единственный мужчина, который почему-то не вызывал у Барлоу ревность, не воспринимался как потенциальный соперник.
– День отъезда еще не установлен. Но будет это довольно скоро.
– И вы уходите из газеты?
– Газета – тупик, в ней мне делать нечего.
– Почему ты не пришел на вечеринку? – спросил Барлоу. Он взял со стола нож и начал точить карандаш.
– На вечеринку? – переспросил Фозерингем. – Какую вечеринку?
– Вчерашнюю.
– А, вчерашнюю… Я было собрался, но так и не доехал. Разговорился с каким-то типом в маленьком баре за Стрэндом. Этот бар мало кто знает.
– И проговорил с ним весь вечер?
– Он повел меня в клуб под названием «На огонек». Свое название этот клуб не оправдывает.
– Софи, дай гостю чаю, – сказал Барлоу, кладя нож на стол. – И перестань пожирать его глазами.
– Нет, нет, нет, – сказал Фозерингем. – Спасибо. Чай я не пью.
– И чем же ты, интересно, собираешься заняться? – спросил Барлоу. Он снова взялся за нож; говорил Барлоу таким тоном, как будто на самом деле предпочел бы не знать, чем Фозерингем собирается заняться. Он бы с удовольствием оказывал на Фозерингема такое же влияние, как и на Прингла, однако Фозерингем отличался определенной, хорошо скрытой проницательностью и к его советам оставался невосприимчив.
– Больше всего мне бы хотелось работать на свежем воздухе, – сказал Фозерингем. – Просыпаешься на рассвете посвежевшим и отдохнувшим, трудишься в поте лица часов до одиннадцати, в одиннадцать возвращаешься, выпиваешь кружку пива в пабе, а затем трудишься снова до обеда. А остаток дня валяешься на кровати и перечитываешь классику.
– Классику?
– Ну да, Марло и всех прочих… Вийона[9], к примеру.
– Как жаль, что мы никогда не ездим загород, – сказала Софи.
– Ты же знаешь, я всегда заболеваю, даже если уезжаю из Лондона совсем ненадолго, – сказал Барлоу.
– Понимаете, – сказал Фозерингем, – у меня не остается времени на чтение, серьезное чтение. Поверь, Гектор, эти спиритуалисты продыху мне не дают. Я часто завидую вам, художникам, – у вас столько свободного времени.
– Все наше свободное время, все наши жизненные силы уходят на то, чтобы продавать свои работы. И ты это хорошо знаешь.
– Жизненная сила, витальность! – подхватил Фозерингем. – В ней-то все дело. Если хочешь знать, в Америку я еду отчасти потому, что там у них, говорят, потрясающая витальность.
– Вам надо познакомиться с нашим приятелем, его зовут Шейган, – сказал Этуотер. – Вот у кого витальность!
– А он найдет мне работу?
– Обязательно, – сказал Барлоу, – при условии, что в этот момент вы оба будете трезвы.
– Только не подумайте, что я деру нос, – сказал Фозерингем, – но, мне кажется, я заслуживаю лучшей работы, чем моя теперешняя.
– Продавай мои картины, и с каждой выручки будешь получать тридцать три и три десятых процента комиссии.
– Послушай, что я тебе скажу. Возможно, я не так талантлив, как ты, Гектор, и не так хорош собой, как Софи, но, согласись, я ведь еще человек не конченый.
– Еще нет.
Фозерингем рассмеялся.
– Ты все шутишь, – сказал он. – А я с тобой серьезно.
– И я серьезно. Тебе очень повезло, что у тебя вообще есть работа.
– Что ты хочешь этим сказать?
– То, что сказал.
– Вздор! – сказал Фозерингем. – Когда ты говоришь такое, я тебе не верю.
– Никакой не вздор.
– Как бы то ни было, мне нужна новая работа. Где бы я мог общаться с людьми. С людьми именитыми, влиятельными. С писателями, например.
– Мы с Софи сегодня вечером идем в кино, – вздохнув, сказал Барлоу. – Сеанс в половине седьмого. После фильма отправимся в ресторан. А сейчас, может, пойдем куда-нибудь выпьем?
– Нет, погоди, Гектор, ты что, в самом деле считаешь, что я не зря работаю в этой газетенке?
– Зря не работаешь даже ты.
– По-моему, ты хочешь меня обидеть, Гектор.
– И нисколько этого не отрицаю.
– Послушай, всему есть предел. Люди, которые не знают тебя так, как знаю я, никогда бы не догадались, что ты шутишь.
Барлоу взял смешную маленькую шляпу, лежавшую на коробке возле телефона.
– А сейчас мы идем выпить, – объявил он и надел шляпу.
– Нет, ты безнадежен, – сказал Фозерингем и опять засмеялся.
– Пошли.
Они спустились по лестнице и вышли на улицу.
– Куда пойдем? – спросил Барлоу.
– Я знаю одно местечко, – сказал Фозерингем.
– Это далеко?
– За углом.
Фозерингем шел впереди, размахивая несложенным зонтиком и что-то насвистывая. В баре, довольно уютном заведении с тяжелыми, отделанными стеклярусом занавесками, никого, кроме них, не было. На голове у официантки красовался изысканный перманент.
– Как самочувствие, молодой человек? – обратилась она к Фозерингему.
– Мейзи, я должен перед тобой извиниться за вчерашний вечер.
– Будет вам.
– Правда, Мейзи.
– И что вы можете сказать в свое оправдание?
– Ну-с, – сказал Барлоу, – что будем пить?
– Учтите, плачу я, – сказал Фозерингем.
Мейзи принесла выпивку.
– Глаза б мои вас не видели, – буркнула она Фозерингему.
– Перестань, Мейзи, не надо так говорить.
– Смотрите, спиртное не пролейте, – сказала она.
– Мейзи, я, правда, вел себя вчера безобразно?
– Не то слово.
– Какой ужас, – сказал Фозерингем и, обращаясь к Барлоу, пожаловался: – Выпил-то всего две порции – и уже безобразен!
– Ты находишься у опасной черты, за которой безобразничать начинают не после двух порций, а до них.
– Хватит, Гектор, прошу тебя, – сказал Фозерингем и, повернувшись к Этуотеру, спросил:
– Вы сегодня вечером свободны?
– Нет, я ужинаю у Наоми Рейс.
– А то могли бы поужинать вместе. Что ж, Наоми от меня привет. Может, загляну к ней попозже вечером.
– Нам с Софи пора идти в кино, – спохватился Барлоу. – Может, успеем еще по одной?
Они выпили еще по одной. Барлоу и Софи встали.
– До свидания, старичок. До свидания, Софи, любовь моя.
– Заходи как-нибудь, – сказал Барлоу.
– Зайду, зайду.
Они вышли.
– Какая прелесть эта Софи! – воскликнул Фозерингем. – Вот бы и мне такую.
– На ней свет клином не сошелся.
– Вы правы, не сошелся. Весь вопрос в том, где их брать.
Этуотер ничего не ответил. Он огляделся. На стенах висели зеркала, много зеркал, с красными, синими и золотыми надписями на стекле. На стене напротив он заметил фотографию принца Уэльского, закуривавшего сигарету.
– Ах, – вздохнул Фозерингем. – Où sontelles, vierge souvraine? Mais où sont les neiges d’antan?[10]
– В самом деле, где?
– По-моему, эта девушка влюблена в Гектора.
– По-моему, тоже.
– Нет, я вовсе не собираюсь ее у Гектора отбивать. Просто забавно.
– Да.
Мейзи, которая стояла за стойкой, подперев голову обеими руками и не отрываясь смотрела на них, сказала:
– Между прочим, мистер Фозерингем, вы еще толком не извинились.
– Не приставай, Мейзи.
– Это я к вам пристаю?!
– Ты, Мейзи, ты.
– Тоже скажете!
– Будет, Мейзи, всему свое время.
Официантка засмеялась. Потом взяла тряпку и вытерла стойку: она положила Этуотеру в джин слишком много мяты, и джин вылился. Хорошенькой ее назвать было трудно, но у нее было смышленое личико и вьющиеся волосы. Насухо вытерев стойку, она подошла к той части бара, где находились холодные закуски, и стала делать сэндвичи с ветчиной. Фозерингем вздохнул.
– Иногда, – сказал он, – я думаю о том, что молодым людям вроде нас с вами будущее не сулит ничего хорошего.
И он повертел стакан в пальцах. Вид у него сделался вдруг печальный.
– Еще джина? – спросил Этуотер.
– Да, пожалуйста. Что мы видим перед собой? Пивные, сотни, тысячи пивных с тошнотворным запахом. Армии мертвецки пьяных журналистов.
– Выбросьте вы их из головы.
– Миллионы официанток, которые говорят одно и то же.
Этуотер кивнул.
– Выпивка, которая так ужасна, что от нее с души воротит. Женщины, которые причиняют одни страдания.
– А Америка?
– Ах, – вздохнул Фозерингем. – Америка! Но день отъезда еще не установлен.
– Разве это имеет значение?
– Как знать.
– Почему?
– И вы еще спрашиваете меня, почему, – недоумевал Фозерингем. – А позвольте спросить вас, даже если я и поеду в Америку, что, собственно, это изменит? – Теперь он был мрачнее тучи. – Что это изменит? – повторил он. – К чему приведет? Я вас спрашиваю, Этуотер.
– Не знаю.
– Вот именно, не знаете. И я не знаю. Никто не знает. Мы просто продолжаем жить, как жили. Живем себе и живем.
– Согласен.
– Сидим здесь, а ведь в это самое время мы с вами могли бы задумать и осуществить нечто грандиозное.
– Вы в этом уверены?
– Вы вот знаете, чем мы сейчас занимаемся?
– Нет.
– Сказать вам?
– Да.
– Мы прожигаем нашу молодость.
– Вы находите?
– Каждую минуту улетают драгоценные секунды. Бьет час. С каждым мгновением мы все ближе и ближе к роковому концу.
– И что же он собой, этот роковой конец, представляет?
– Вы не боитесь узнать правду?
– Нет.
– Я не могу сказать вам правду. Всю правду. Она слишком ужасна.
– Я настаиваю.
– Для одних это боковые места в клубах, где прячешься за мятой газетенкой. Для других – оглушительные, пронзительные до боли голоса маленьких детей.
– Но у нас с вами есть настоящее.
– Да, сегодняшнее, сиюминутное, – сказал Фозерингем. – Я – человек, искалеченный своим будущим. Для меня настоящего и прошлого не существует.
– Постарайтесь об этом не думать.
– Теперь я начинаю понимать, что имел в виду Гектор, когда говорил, что для своей работы я слишком хорош.
– Он никогда ничего не имеет в виду.
– Верно, – сказал Фозерингем. – Верно. Как же мило, как же трогательно, что вы это говорите. Но если слова Гектора ничего не значат для него самого, для меня они значат, и значат очень много, поверьте! Вот человек! Талант. Гений – не побоюсь этого слова. Красивые женщины без счета. Мир у его ног. А кто такой я? Что делаю я? Что я могу сказать? Знаете, я часто удивляюсь, что люди вроде вас с Гектором во мне нашли?
– Мой дорогой Фозерингем…
– Я серьезно говорю.
– Вы не должны так думать.
– А я думаю.
– Не говорите так.
Фозерингем поднял два стакана.
– Буду говорить. Скажу – и не раз.
– Нет, нет, не говорите.
– Скажу, – сказал Фозерингем. – И повторю не один раз, как мне повезло, что у меня такие друзья, как вы; и что бы там не говорили про дружбу, никто не знает лучше, чем я, что, хотя качество это в наши дни часто ценится не так высоко, как сиюминутные, чувственные связи между полами, которые строятся на песке, – тем не менее, это та вещь, от которой в конечном счете более всего зависит счастье людей вроде вас и меня, – вы, надеюсь, простите, что равняю вас с собой, – людей, для которых жизнь – это постоянная борьба, безумный Армагеддон, неистовое, лихорадочное сопротивление; и когда мы, наконец, окажемся в этой серой, жуткой и страшной пустыне безнадежного отчаяния, непереносимой тоски и полного отсутствия чувства юмора, в пустыне, в которую нас влекут спиртное, долги, женщины, бесконечное курение и нежелание двигаться, а также тысячи безнадежных, бессмысленных, утомительных и незапоминающихся удовольствий нашей пустой, я бы даже сказал, тщетной жизни; когда нескончаемый и непроницаемый туман банальности, а у некоторых и догмы, покроет нас с головой; когда мы прекратим последние, слабые попытки оставаться самими собой и опустимся на самое непроницаемое дно деградации, страданий, невзгод и унижений, чем кончают все те, кто готов продать за кружу пива свое имя, свой ум, свою любовницу, свою старую школу, даже собственную честь; когда любовь выродится в самую вымороченную похоть; когда власть будет приравнена к бессмысленным мешкам денег; когда слава уподобится самой вульгарной публичности; когда мы ощутим, что навсегда изгнаны с изумрудных пастбищ жизнерадостной беспечности (прошу простить, что так выспренно выражаюсь), что явится, на мой взгляд, единственным возможным оправданием нашего разнузданного, несообразного существования, – тогда и только тогда мы осознаем, поймем в полной мере, что мы узнаем, и узнаем наверняка… О чем я? Я, кажется, сбился…
– О дружбе.
– Ну да, конечно. Простите… Так вот, мы поймем, что значит дружба для каждого из нас в отдельности и для всех вместе взятых, и почему только благодаря ей есть смысл…
– Смысл в чем?
Фозерингем красноречиво взмахнул рукой.
– Во всем, – сказал он.
– Ну, например?
– Я ведь человек не религиозный. В такого рода вещах я мало что смыслю. Но я знаю одно: в жизни имеет значение не только один секс.
– Бесспорно.
– Вы того же мнения?
– О да. Примерно того же. Какого же еще?
– И что бы вы сказали?
– Трудно сказать что-то определенное.
– То-то и оно.
– А отчего вы так расстроились?
– Расстроился?
– Ну да, расстроились.
Фозерингем залпом допил джин.
– Наверно, я говорил что-то очень невеселое. Наверное, обед был слишком сытный.
– Скорее всего.
– Сами ведь знаете, как портится настроение, когда переешь.
– Особенно во второй половине дня.
– Да, – согласился Фозерингем, – особенно во второй половине дня. Боюсь, я вам здорово надоел.
– Ничуть.
– А мне кажется, вы от меня устали. Вы должны меня извинить. Вы меня извиняете? Скажите, что извиняете, Этуотер.
– Извиняю.
– В такую погоду лучше в середине дня столько не есть.
– С кем вы обедали?
– С Джорджем Наннери. Вы его наверняка знаете.
– Он случайно не родственник девушки с этой фамилией?
– Ее отец. Ее-то вы знаете?
– Да, мы знакомы.
– Она хороша собой, согласитесь? Никак не могу решить, кто лучше, она или Харриет Твайнинг.
– Да они обе прехорошенькие.
– Вы должны познакомиться со стариком Наннери.
– Был бы рад.
– Это один из тех блестящих людей, у кого в старости совершенно отказали мозги, – сказал Фозерингем.
– Правда?
– Можете вообразить, какой он превосходный собеседник.
– Да, действительно.
– Когда мозги в таком состоянии, человек просто не может надоесть.
– Об этом можно только мечтать!
– Вот именно, можно только мечтать.
– И когда же вы нас познакомите?
– В любое время. Позвоните мне.
– Обязательно, – сказал Этуотер. – А теперь мне надо идти.
– Почему?
– Я ведь ужинаю у Наоми Рейс.
– Нет, не уходите.
– Но мне пора.
– Нет, – сказал Фозерингем. – Ради бога, не уходите.
– Я вынужден.
– Вы не можете оставить меня в таком состоянии.
– Поверьте, я с радостью бы остался.
– Выпьем еще по одной?
– Нет.
– Да. Да. Прошу вас.
– Нет, не могу.
– Я настаиваю, Уильям, – сказал Фозерингем. – Теперь я буду называть вас «Уильям». Я настаиваю.
– Нет, нет, не могу.
Неожиданно Фозерингем смирился и обронил:
– Так я жду звонка. – И, повернувшись к официантке, сказал: – Мейзи, чем резать ветчину, скажи-ка лучше, что я учинил вчера вечером.
7.
– Я начала заниматься ужином чуть позже, – сказала миссис Рейс. – У меня не было времени дать вам знать.
Она еще не переоделась, но в тот вечер выглядела великолепно; Этуотер заметил, что у нее новая прическа. Никто не знал, сколько ей лет и чем занимался покойный Рейс; известно было лишь, что он был знаком с Россетти[11] и что миссис Рейс вскоре после свадьбы присутствовала вместе с мужем на праздновании первого юбилея[12]. Этуотер ужинал у нее примерно раз в два месяца.
– Вчера видел вас на вечеринке, – сказал Этуотер. – Хотел поговорить, но было столько народу – не пробиться.
– Они все придут сегодня, – сказала миссис Рейс. – Харриет Твайнинг, Уолтер Брискет, Вочоп. Будет одна дама, чью фамилию я никак не могу запомнить. Зовут ее Дженнифер. Вам она не понравится. Она и мне тоже не нравится.