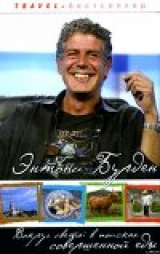
Текст книги "Вокруг света - в поисках совершенной еды"
Автор книги: Энтони Бурден
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 20 страниц)
Не-а. То есть не совсем. Устрицы не виноваты. На вкус они оказались примерно такими же, какими я их помнил, – солоноватые, не слишком холодные (кстати, устрицы не должны быть очень холодными в противоположность мнению, распространенному в Штатах, – там их часами держат во льду и подают замерзшими; возможно, так они легче открываются устричным ножом, но вкус у них не тот). Это были прекрасные устрицы. Может быть, даже самые лучшие. Рядом со мной, как и тогда, стоял мой брат. Я воссоздал все факторы, которые присутствовали в юности. Но почему-то снова не почувствовал настоящей радости. Все-таки чего-то не хватало. И я понял: просто я здесь не за этим. Все это предприятие, вся эта погоня за «идеальной едой» – обман. Совсем не того я искал у моря в Аркашоне, на пустых улицах Ля Тест, в старом саду у дома № 5 по улице Жюль Фавр, на продуваемой январским ветром вершине песчаной дюны.
Отец всегда был для меня человеком таинственным. Возможно, ему приятно было бы услышать это, потому что сам он считал себя простым, незамысловатым малым. Но он испытывал по-настоящему сильную, сентиментальную и даже страстную любовь к литературе, кино и особенно к музыке. Он понимал их очень глубоко, и то, что я всегда считал его истинной сутью, его натура разочарованного романтика, скрывалась в тени. Он был робким человеком, друзей имел немного, не любил конфликтов, больших компаний, приходил в ужас от перспективы надеть пиджак и галстук. Он был непритязателен. Обладал острым чутьем на абсурдное и смешное. Его забавляли притворство и аффектация. Он радовался как ребенок очень простым вещам. Обожал фильмы о французских школьниках – такие как «400 ударов» и «Ноль за поведение». Они и мне навсегда запомнились: шалости, граничащие с правонарушениями. Примерно так я и представлял себе своего отца в детстве. Его воспитывала овдовевшая мать-француженка, и вырос он по соседству от того места, где теперь жили мы, – вот и все, что мне было известно о его детстве. Не могу представить его себе играющим в парке Риверсайд, что прямо у меня под окном, а ведь, наверно, ему случалось там играть. Не вижу его выходящим из дома с учебниками подмышкой. Не вижу его в частной школе в пиджаке и галстуке. У меня сохранилась одна его школьная книжка – «Эмиль и сыщики» на французском с его рисунками на полях: тупые нацисты и пикирующие бомбардировщики «штука». Он читал мне эту книжку – английскую версию, – как читал «Ветер в ивах», «Доктора Дулитла» и «Винни-Пуха». Я помню, как он в лицах изображал Тоуда Жабу, Иа-Иа и Пятачка.
В молодости он служил в армии, сержантом по снабжению в послевоенной Германии, – об этом я тоже ничего не знаю. Знаю только, что немецкий язык он всю жизнь считал «забавным», но всегда подозревал, что за всяким немецким акцентом стоит какая-нибудь страшная военная тайна. Его смешили немцы в комедиях Мела Брукса, но я всегда знал, что за этим смехом таится глубокая горечь. Я уверен, что в этих комедиях было для него нечто отвратительное и вместе с тем увлекательное. К старости он полюбил мрачноватые, многослойные шпионские Триллеры Джона Ле Карре и Лена Дейтона, обожал такие фильмы как «Человек внутри», «Третий человек», «Похороны в Берлине» и считал черную комедию «Доктор Стрейнджлав» самым смешным кино на свете.
Я знаю его лучше всего по тем занятиям, за которыми он бывал счастлив: лежать на диване в выходные; читать Жана Лартеги по-французски; глотать бесконечные романы Джона Макдональда – приключенческие, обычно романтические, немного печальные, действие происходит в дальних странах; смотреть новые фильмы Кубрика; слушать новые записи на своей громоздкой акустической системе «Джи-би-эл», настраивать радиоприемник «Маранц»; взять у себя на работе, в «Коламбиа рекордс», отпуск на две-три недели, приехать к нам во Францию и сидеть на берегу мыса Ферра; есть чесночную колбасу с хрустящим французским хлебом, пить красное вино, ходить в белой рубашке из махровой ткани и похожих на боксерские купальных трусах, ковырять пальцами ног в песке. Делая все это, он чувствовал себя легко и свободно. В легкий шторм он входил в воду со мной или Крисом на плечах и пугал нас приближавшейся большой волной.
А потом, когда нам надоедали игры в Тентена, широкое покрывало пляжа, припорошенные песком сэндвичи с минеральной водой «Виттель», мы с Крисом бежали исследовать дюны мыса Ферра. Мы строили укрепления из плавника, который в изобилии находили на диком пляже, играли в массивных блиндажах, оставшихся после немцев, исследовали «паучьи щели» – замаскированные окопы для снайперов, тоннели, которые часто тянулись под землей от орудийных окопов. Мы играли в войну на бывшем поле боя: охотились на мертвых нацистов, про которых ходили слухи, что они все еще не сгнили под песком, взрывали хлопушки в вентиляционных трубах и осыпавшихся лестничных шахтах. Это был просто рай для мальчишек: угрюмые серые горы, растущие из песка среди огромных пустынных дюн, чуть в стороне от края воды, великолепная водная гладь и пляж, который казался бесконечным.
Меня посетила блестящая идея: нам с Крисом надо взять напрокат по мотороллеру и снова проделать весь путь от Аркашона через Ля Тест и Гужан-Местра, вокруг бухты, до мыса Ферра. Мы с семьей проделывали этот путь много раз – сначала в старом «седане ровер», потом во взятых напрокат «симках» и «рено». Но когда едешь на мотороллере, чувствуешь все гораздо острее, решил я. Вдыхаешь этот воздух, а городки, которые проезжаешь, видишь не через ветровое стекло. Я так размечтался, что совершенно забыл об обжигающе холодном ветре и моросящем дожде. Мы оделись как можно теплее, взяли с собой традиционный завтрак Бурденов – колбаса, пахучий сыр, багеты из булочной в Ля Тест, минеральную воду «Виттель», бутылку красного бордо, и отправились в путь. Крис, едва мы успели выехать с гостиничной стоянки, налетел на дорожный знак, упал и сильно ободрал себе плечо и спину. Однако по-солдатски бодро вновь уселся в седло и продолжал нести службу – всякий здравый смысл покинул нас обоих давным-давно.
Было холодно, до крайности холодно. На моем мотороллере можно было ехать довольно быстро (я, как старший, конечно же, взял себе тот, что получше), но Крис тащился со скоростью двадцать пять миль в час и сильно задерживал нас. Шлемы оказались нам маловаты. Сгорая от желания вернуть прошлое, мы их и не примерили, ограничились беглым взглядом. Очень скоро у меня возникло ощущение, что в моей голове просверлили дырку. Дождь хлестал по щекам, одежда вскоре стала удручающе мокрой.
Но мы ехали и ехали мимо дач с заколоченными окнами, закрытых ресторанов и учреждений. Это ведь подвиг, не так ли? Благородная попытка установить связь с прошлым, какой бы отчаянной и глуповатой она ни казалась в январе. Поездка заняла у нас около двух часов, возможно, чуть больше – из-за частых остановок, – надо же было иногда снимать шлемы и давать отдых нашим несчастным черепным коробкам. Наконец мы добрались до пыльной развилки, свернули на дорогу, обсаженную соснами, остановились, слезли с мотороллеров и полмили шли пешком до пляжа. Ничего не было слышно, кроме ветра, стука наших тяжелых туристских ботинок и шума прилива вдали.
– Кажется, я узнаю вон тот, – Крис указал на покрытый граффити блиндаж вдалеке, на полпути между пляжем и сосновым лесом.
– Как насчет пикничка? – предложил я.
– Отличная идея!
Мы довольно долго ковыляли по дюнам и вязли в песке и наконец вскарабкались на толстую, крутую, бетонную стену и уселись на ней. Там, где мы детьми играли в войну, я расстелил салфетку, достал наш скромный завтрак, и мы молча его сжевали. Наши пальцы немели на холодном ветру, который дул с моря. У колбасы был такой же вкус, как в детстве, сыр был хорош, а вино пришлось очень кстати – мы согрелись.
Я достал упаковку фейерверков, и скоро двое мужчин за сорок уже играли в войну, как тридцать лет назад: бросали хлопушки в вентиляционные отверстия, набивали ими пустые бутылки, и глухие звуки взрывов немедленно уносил ветер или гасил песок. Мы гонялись друг за другом вокруг железобетонного убежища, а когда устали взрывать всякую дрянь, а точнее сказать, когда у нас вышли все запасы этой дряни, сунулись внутрь и исследовали лестничные колодцы, где много лет назад играли в «Комбат» и «Крысиный патруль».
Мелкими перебежками мы спустились к пляжу, туда, где было полно плавника, в прежние времена сулившего огромные строительные перспективы, а теперь только нагонявшего тоску. Мы с братом долго молча стояли у кромки воды, глядя на яростные волны.
– Папе это понравилось бы, – сказал я наконец.
– Что? – спросил Крис, оторвавшись от собственных мыслей.
– Сама идея вернуться. Что мы снова пришли сюда – мы вдвоем. Ему бы понравилось. Ему было бы приятно узнать об этом.
– Ага, – согласился мой младший брат, который теперь был не ниже, а выше меня ростом. Мой взрослый младший брат.
– Черт, как мне его недостает!
– Мне тоже, – сказал Крис.
Задумывая эту часть своего кругосветного путешествия, я надеялся попасть в самую точку. Я думал: попаду – и все сразу станет волшебным. Еда будет казаться вкуснее от воспоминаний. Я сразу сделаюсь счастливее. Я изменюсь – вновь стану таким, каким был когда-то. Но никому не дано снова стать десятилетним или хотя бы по-настоящему почувствовать себя десятилетним. Ни на час, ни даже на минуту. Так что вкус у этой поездки получился… кисло-сладкий.
Я понял, что вернулся во Францию, на этот пляж, в этот городок не за устрицами. Не за рыбным супом, не за колбасой с чесноком, не за булочками с изюмом. Не затем, чтобы посмотреть на дом, где теперь живут чужие люди, не для того, чтобы вскарабкаться на дюну, не за идеальной едой. Я искал там своего отца. И его там нет.
Почему не хочется быть телезвездой
(первая серия)
– Пока мы тут, на месте, давайте посмотрим, как готовят фуа-гра, – сказали креативные менеджеры из Телевизионной Страны. – Мы же снимаем программу о еде, вы не забыли? Поездка за воспоминаниями – это, конечно, прекрасно, но где же еда? Ну-ка! Ведь вы же любите гусиную печенку, вы сами говорили.
– Конечно, – отвечаю я.
Почему бы и нет. Очень познавательно. Интересно. Я люблю фуа-гра. Даже очень люблю. Гипертрофированная свежая утиная или гусиная печенка, приготовленная в горшочке террин, подавать с сотерном; или обжаренная на сковороде в яблочном или айвовом желе – возможно, она несколько уменьшится в объеме… Хороший толстый кусок гусиной печенки, поданный с подсушенным бриошем. Что может быть лучше!
Мы как раз неподалеку от Гаскони, эпицентра приготовления фуа-гра, так что, конечно, давайте снимать… Даешь коммерческое, информативное телевидение! Попробуем гусиной печенки, раз уж так все сошлось. Это точно не повредит.
Накануне вечером перед камерой я проглотил порцию абсолютно отвратительной, кое-как приготовленной, трехдневной свежести «телячьей головы» – ужасный опыт. Обычно, когда я это ем, я ограничиваюсь ломтиком свернутой в трубочку бескостной части, практически соскобленной с черепа, и трубочка эта нафарширована «сладким мясом», и подается в небольшом количестве кипящего бульона, с овощами и кусочком языка. В таком виде блюдо приобретает нужный вкус, а точнее, нужную фактуру, плотность: прозрачный жирок, голубоватая телячья кожица, кусочки щеки и зобной железы – все это вы отметите еще до того, как насладитесь вкусом. Это нечто волнистое, эластичное, переливающееся, слизистое, довольно нежное и ароматное. В сочетании с капелькой чесночного соуса или соуса грибиш это блюдо может считаться своеобразным триумфом старой французской кухни, побеждающим в нас все страхи и предрассудки. Я очень люблю его готовить. Несколько клиентов (в основном, это французы) обожают его и всегда мне заказывают. «Ах! Tête de veau! [13]13
Телячья голова (фр.).
[Закрыть] – восклицают они. – Как давно я этого не ел!» Я хорошо это готовлю. И те, кому рекомендую это блюдо, всегда остаются довольны. Я и сам его с удовольствием ем время от времени.
Но то, что мне приготовили на этот раз… Во-первых, согласившись это попробовать, я пренебрег своим собственным советом, который всегда даю клиентам. Добровольно погрузившись в туман неведения, я упустил из вида тот факт, что в течение трех дней ходил мимо этого ресторанчика и видел гордую надпись мелом на доске: «TETE DE VEAU». То есть, учитывая, что в Аркашоне сейчас не сезон, это была одна и та же, за три дня не востребованная «tête». Дела у владельца ресторана шли не настолько хорошо, чтобы каждый день готовить свежую порцию. И вообще, сколько, интересно, у них в городке за неделю бывает телячьих голов? А за месяц? Еще того хуже, я нарушил другое свое золотое правило: заказал редкое мясное блюдо в ресторане, который специализируется на дарах моря.
Мой брат, в последнее время довольно смелый в кулинарных пристрастиях, заказал морской язык. А я не последовал его примеру. Пока я ел, он смотрел на меня так, как если бы я ободрал кожу с пальцев мертвеца и пожирал ее, запивая мочой. Блюдо было омерзительно во всех отношениях: сыровато, жестко, отдавало затхлым холодильником и, что хуже всего, утопало в густом, гадком на вкус соусе грибиш – то есть в чем-то среднем между майонезом и соусом тартар, состряпанным из яичных желтков. Стараясь сохранять жизнерадостный вид, я проглотил столько, сколько смог, и исключительно на камеру, а потом просто послал все к черту и украдкой сложил остатки еды в салфетку (мне не хотелось обижать шеф-повара).
И вот на следующее утро, в восемь часов, чувствуя себя весьма нехорошо после вчерашнего ужина, я уже стоял в холодном сарае и смотрел, как наш уважаемый хозяин, фермер, поставщик гусиной печенки мсье Кабернасс, запихивает длиннющую трубку в глотку вовсе в этом не заинтересованной утки, а потом начинает набивать туда нечто мелко перемолотое. Порция кукурузной муки с кулак величиной исчезает в горле несчастной божьей твари. И все это я вижу рано утром, до завтрака.
Трубка, похоже, доходила до самого дна утиного желудка. Месье Кабернасс сначала поглаживал очередную утку, потом слегка зажимал ее между своих ног, отводил ей голову назад и тогда уже осуществлял всю процедуру. Когда в желудке у тебя остатки несваримой тет-де-во, то наблюдение за подобными манипуляциями вызывает рвотный рефлекс. Вездесущий Алан, оператор, видимо, чувствовал то же самое: он внезапно позеленел, выбежал вон и отсутствовал все утро.
Мне тоже пришлось несладко, но я все же выдержал до конца демонстрацию откармливания уток и гусей, из чьей печени впоследствии приготовят фуа-гра. Это было даже не так жестоко, как я предполагал. Лапки птиц не прибивают гвоздями к доске, как мне рассказывали некоторые. И трубка не постоянно вставлена им в глотку, и еду в них закачивают не беспрерывно, как в какого-нибудь кота из мультфильма. Да, их принудительно кормят дважды в день, при этом каждая новая порция меньше, чем предыдущая, и гораздо меньше, чем, скажем, «завтрак Большого Шлема» от Денни. Месье Кабернасс не произвел на меня впечатления бесчувственного человека, напротив, мне показалось, что он искренне любит своих птиц, и утки часто сами шли к нему, когда приближалось время кормления. Он просто протягивал руку – и утка подходила. Так ребенок идет к матери, чтобы она вытерла ему нос.
Придержав одну особенно упитанную уточку, он позволил мне потрогать ее надувшийся живот, ее выпирающую печень. Было еще не время «собирать урожай», но он показал мне несколько фотографий – нечто напоминающее инструкцию о правилах безопасности на дорогах и столь же «аппетитное». Обычно я ничего не имею против крови и кишок, но не с раннего утра. И не в присутствии операторов, давящихся и хрипящих поодаль. К тому времени как мы вернулись в небольшой магазинчик, где семейство месье Кабернасса торгует своей продукцией, я чувствовал себя совсем скверно.
Желая угостить меня как следует, мадам Кабернасс приготовила паштет из гусиной печенки, мусс из гусиной печенки, утиный паштет, конфит. К столу она подала гренки и бутылку сотерна. Продукция Кабернасса – высшего качества. Она всегда берет призы на конкурсах и дегустациях. Но я люблю свежую гусиную печенку: не консервированную, не в баночках, не в виде мусса, не замороженную. Со дня «сбора урожая» прошло много времени, и свежая была давно продана. Все остальные кулинарные изыски, наверняка, весьма интересны, но это уже не то. И я действительно люблю запивать фуа-гра сотерном, но не в девять утра. Гусиной печенкой следует наслаждаться на досуге, а не давиться ею перед камерой холодным утром после съеденной накануне тошнотворной тет-де-во.
Там было полно всякой еды. И снова, боясь обидеть добрых хозяев, я все съел, улыбаясь и одобрительно кивая, беседуя (с помощью моего невозмутимого брата) на ломаном французском. Возвращение в Аркашон, в гостиницу имени Нормана Бейтса, было самым длинным путешествием в моей жизни. Вездесущий Алан в передней машине то и дело высовывал голову из окна под каким-то сумасшедшим углом – его рвало прямо на славные маленькие деревушки, церквушки времен крестоносцев и милые старые фермы. Альберто, ассистент режиссера, который вел первую машину, тоже скоро почувствовал себя плохо. За рулем нашей машины сидел мой брат и чувствовал себя прекрасно. Он закладывал такие повороты, что мой желудок начинал бурлить и клокотать, точно пробуждающийся вулкан Кракатау. Я держался из последних сил, надеясь дотерпеть до туалета в отеле. И дотерпел.
Последовали пять часов жестокой агонии. Я лежал в полузабытьи в своем отвратительном номере, справа от меня стоял тазик, меня то бросало в жар, то знобило под розовым, с примесью синтетики, одеялом, а пульт от телевизора валялся на полу вне зоны досягаемости. Только я подумал, что когда-нибудь же мне должно стать легче, как внезапно телевизионное шоу, которое я, впрочем, и не смотрел, закончилось, и на экране появились титры следующей передачи. И вот тут-то Франция и показала всю свою гнусную сущность! Как жестоко она насмеялась надо мной. Неужели? Ради бога, только не это! Но это было это. Полуторачасовая биография – с клипами – любимца Франции, обладателя всех высочайших французских наград, Джерри Льюиса. Все творения великого человека – у меня на телеэкране. Он будет полтора часа бомбардировать мой и без того уже отравленный токсинами мозг своими ужимками, прыжками и хныканьем.
Это было слишком. Я попытался дотянуться до пульта, почувствовал, как кровь отхлынула от головы, а желчь подступила к горлу, и снова упал на подушку, мучимый новыми позывами к рвоте. Я не мог выключить этот чертов телевизор, не мог переключить на другую программу. Сцены из «Беспорядочного порядка» уже терзали мой размягченный мозг, я уже начинал познавать новое измерение боли и дурноты. Я взял телефонную трубку и позвонил Мэтью, одному из телевизионщиков, который пока не пострадал. Я умолял его зайти ко мне и переключить на другую программу.
– «День, когда клоун заплакал»? – спросил Мэтью. – Мне говорили, что это просто недооцененный шедевр. Американский зритель его не видел. Там Джерри играет заключенного концлагеря. Один итальянец получил Оскара за ту же идею! Как же это называлось-то… «Жизнь прекрасна» что ли… Так вот Джерри-то придумал это раньше!
– Пожалуйста, помоги мне! – взмолился я. – Я умираю. Я не смогу этого вынести. Если ты не поторопишься, считай, я покойник. И тогда снимать в Камбодже пригласят Флая. Хочешь увидеть Бобби Флая в саронге?
Мэтью призадумался:
– Сейчас приду.
Он появился через несколько секунд – с включенной камерой. Он постоял у моей постели, настраивая «баланс белого» по моему бескровному лицу. Он снимал и снимал, а комната качалась и ходила ходуном вокруг меня и даже сквозь меня, стонавшего на взмокших от пота простынях, и показывали Джерри в «Мальчике на побегушках». Мэтью снимал крупные планы, а я содрогался и умолял. Он фиксировал недосягаемый пульт – этот источник моих страданий – под разными углами, он делал медленные наезды на пульт, он снимал пространство между мною и пультом… пока я стонал, сулил ему золотые горы, угрожал. Наконец он сжалился и сунул пульт мне в руку. Я тут же выключил сцену из шедевра Джерри «Чокнутый профессор», а Мэтт сказал: «Бесценные кадры, малыш! Войдет в золотой фонд комедии!»
Никогда не снимайтесь на телевидении.
Глава 3
Ожог
Назад в Нью-Йорк. Рождественский обед, проснуться, обменяться подарками – и адская машина снова запущена: из Нью-Йорка во Франкфурт, из Франкфурта в Сингапур, из Сингапура в Хошимин. Самолеты, в которых нельзя курить, – эти круги ада: рядом сидит самый вонючий человек на свете, моторы гудят на одной ноте, заставляя меня мечтать о турбулентности, да о чем угодно, только бы разогнать тоску, только бы избавиться от ощущения, что я персонаж какого-то отвратительного застывшего на стоп-кадре мультфильма. Есть ли на свете что-нибудь столь же дорогостоящее и одновременно унижающее человеческое достоинство, как долгие авиаперелеты «эконом классом»? Вы только посмотрите на нас! Усаженные по десять человек в ряд, глядящие мутными глазами прямо перед собой, – ноги поджаты, шеи вытянуты под неестественным углом в ожидании, когда до нас доедет тележка со всяким пойлом. Этот знакомый тошнотворный запах пережженного кофе, пластиковые подносы с распаренной едой, которая спровоцировала бы бунт в любой государственной тюрьме. О боже мой, еще один фильм с Сандрой Баллок или с Брюсом Уиллисом – и я не выдержу. Если Хелен Хант еще раз скосит на меня глаза с туманного экрана, клянусь, я открою запасной выход. И пусть меня вытянет наружу – это лучше. Я ищу хоть какого-то отвлечения, хоть чего-нибудь, чтобы не думать о никотине. Сконцентрируемся на храпящей через проход туше, притворимся, что если смотреть на нее долго и пристально, она взорвется.
Теперь я знаю зоны для курения чуть ли не во всех аэропортах мира. Я видел, как такие же исстрадавшиеся и несчастные, как я, судорожно перекуривают в двадцати футах от выхода во Франкфурте. В Сингапуре две, представляете, целых две зоны для курящих: весьма дурно пахнущий стеклянный аквариум в торговом центре огромных размеров, и вторая – на свежем воздухе, там можно встретить интереснейшие экземпляры курильщиков. Они сидят на скамейках в горячем зное, держа в руках бутылки пива «Тайгер» и безмятежно посасывая сигареты. Они дымят как паровозы в пронизанный ослепительным светом, чистейший утренний воздух. Они говорят на осси, киви [14]14
Австралийский и новозеландский варианты английского языка.
[Закрыть], английском, французском, голландском, – все пьяные, краснолицые, измочаленные. Каждая сумка на ремне – это целая жизнь, проведенная не дома.
Аэропорт Тан Сон Нхат. Город Хошимин. Его до сих пор называют Сайгон. Закурить можно сразу, как приземлишься. У таможенного инспектора во рту сигарета. Что ж, Вьетнам мне уже нравится. Последняя решающая битва вьетнамской войны (которую здесь называют американской войной) разворачивалась на этих самых бетонированных полосах, в этих вот холлах. Построенные американцами из гофрированного металла ангары все еще стоят по краям взлетной полосы. Вы видели кино. Вы читали книги. Или я должен вам рассказывать о горячей волне, которая бьет вам в лицо, когда, получив свой багаж, вы выходите через стеклянную дверь? О людях, которые стеной стоят снаружи? Сайгон. Не думал, что когда-нибудь увижу этот город.
Я просыпаюсь в 3 часа утра в холодной сырой комнате. Меня бьет озноб. Я на десятом этаже гостиницы «Нью Уорлд». Я весь вспотел, мне приснился еще один дикий и страшный сон. Должно быть, это от таблеток против малярии. Нет никакого другого объяснения ярким цветным ночным кошмарам, которые преследуют меня с тех пор, как я сюда приехал. Я все еще чувствую запах крови и бензина – сны обладают плотностью реальности, они пульсируют, я чувствую напряжение и сопротивление материи. На этот раз я мчался в автомобиле с отказавшими тормозами, совершал головокружительные повороты и крутые спуски. Я чувствовал, как ударяюсь о дверцу, подскакиваю на сиденье, как меня беспорядочно болтает в кабине. Я слышал, как разбивается стекло на щитке, я видел, как ветровое стекло трескается и трещины расползаются звездными лучами.
Я просыпаюсь. Руки у меня болят – я крепко обхватил себя во сне, чтобы уберечься от удара. Я рассеянно провожу ладонью по волосам, чтобы смахнуть несуществующие осколки стекла.
А может, все дело в змеином вине?
Накануне вечером я посетил мадам Дай в ее крошечной «юридической-конторе-кафе-салоне», и после фаршированных блинчиков, рисовой лапши и кусочков говядины, завернутых в листья мяты и окунаемых в соус ныок мам, она спросила меня на своем великолепном, изысканном французском, не нужен ли мне диджестив. Я, разумеется, сказал, что нужен, очарованный этой миниатюрной, но статной вьетнамской женщиной в черном платье – в прошлом она наверняка разбила сердце не одного мужчины. Она на минутку отлучилась на кухню, а я от нечего делать рассматривал фотографии ее друзей и знакомых на стене: Пьер Трюдо, римский папа, глава Центрального Комитета, Франсуа Митерран, военные корреспонденты, бывшие любовники, ее портрет в молодости (1940-е) – настоящая женщина-дракон в облегающем ао даи. Мадам Дай вернулась, держа в руках стеклянный сосуд со змеями и оплетенной ими птичкой внутри, – чистое рисовое вино.
Я до сих пор ощущаю его вкус.
Это я сплю или бодрствую? Весь Сайгон кажется мне сплошным сном. Бреду по улице Донг Кхой, бывшей рю Катина, мимо отеля «Мажестик», поворачиваю за угол, и вот они, отели «Континенталь», «Каравелла», безвкусный «Рекс». Я лавирую в море мотороллеров, велосипедов и мотоциклов, ныряю в узкую боковую улочку, где среди пыльных коробочек для пилюль, сломанных часов, иностранных монет, поношенной обуви, мундштуков, обкусанных брелоков для собачьих ошейников продаются зажигалки (как действующие, так и декоративные), украшенные душераздирающими девизами их бывших владельцев:
ВЬЕТНАМ
Чу Лай 69-70
Расхристанный, всегда бухой,
Я пробыл год – пора домой.
Я нашел еще одну и прочитал, чувствуя себя при этом довольно мерзко:
РАЗЫСКИВАЮТСЯ:
Да Нанг
Ки Нгон
Биен Гоа
Сайгон
На обратной стороне зажигалки я обнаружил сентиментальную надпись:
Когда я умру, похороните меня лицом вниз —
Пусть весь мир поцелует меня в зад.
Этот город назван в честь повара. Может, вы не знали, но Хо Ши Мин действительно был прекрасным поваром и получил классическое кулинарное образование. Прежде чем основать вьетнамскую коммунистическую партию, он работал в отеле «Карлтон» в Париже и был таким же шеф-поваром, как и великий Огюст Эскофье. Говорят, старик его очень любил. Еще говорят, что Хо Ши Мин специализировался на соусах, а позже служил на трансатлантическом лайнере, а потом – кондитером в «Доме Паркера» в Бостоне. Он был – если забыть обо всей этой коммунистической кухне – одним из нас, нравится нам это или нет: этот парень простоял немало часов у плиты, он поднялся по всем ступеням мастерства, предусмотренным старой школой, он был профессионал. И он еще находил время путешествовать под самыми разными именами, писать манифесты, заигрывать с китайцами и русскими, хитрить с французами, бороться с японцами (с помощью США, между прочим), потом разбить французов, создать нацию, потерять эту нацию и развязать партизанскую войну против Америки. К чертовой матери коммунизм, но Дядюшка Хо был интересный тип!
И вот он, предел его мечтаний: с десятого этажа отеля «Нью Уорлд», этого переохлажденного высотного мавзолея в центре города, сидя у бассейна, поднятого на недосягаемую для уличного шума и суеты высоту, потягивая коктейль, который тебе только что смешали, ты видишь (хотя градостроители сделали все, чтобы замаскировать эту панораму листвой) ветхие жилые дома – рай для рабочих, где босые пожилые женщины живут меньше чем на доллар в день.
Из сумасшедшего уличного зноя можно пройти в огромный, просторный и прохладный вестибюль гостиницы мимо пряничной рекламы веселого отдыха («Праздничный стол!»), мимо холла с коктейлями, где вьетнамская группа «Трое бешеных» наяривает мелодии Барри Манилова, подняться в бесшумном лифте на административный этаж, или в тренажерный зал, или на теннисный корт. Можно посидеть на закрытой террасе на десятом этаже, потягивая местное пиво «333» (еще оно называется «Ба-ба-ба»), или выпить портвейна и закусить сыром стилтон, вертя при этом в руке зажигалку убитого солдата.
Так это из-за противомалярийных снадобий, которые я принимал перед поездкой в дельту Меконга и Камбоджу, мне снятся такие леденящие душу сны? Или от змеиной настойки? Или дело в том, что я нахожусь во Вьетнаме моих сновидений, в стране, целиком состоящей из сновидений? Это, кажется, наш дорогой Трики Дик много лет назад назвал все, что мы тут натворили – смерть, бесчинства, легализованный и до сих пор пронизывающий здесь все цинизм, – «нашим долгим ночным кошмаром». Когда ходишь по улицам Сайгона, трудно отделить реальность от вымысла, кошмарный сон от последовательности киноизображений, навеки утвердившихся в нашем сознании благодаря клипам. Вентилятор на потолке из «Апокалипсиса сегодня»; медленно, с характерным звуком «вуп-хуп, вуп-хуп» продвигающиеся рубщики сахарного тростника; обожженная напалмом бегущая девочка, у которой отрываются от рук клочья мяса; черная, с заостренным концом пуля; самосожжение буддийских монахов; эта роскошная зелень, которая веками влекла к себе мистиков, сумасшедших, технократов, безумных стратегов. Между тем французов и американцев десятилетиями били маленькие тщедушные
земледельцы в черных пижамах, привыкшие брести за буйволами по своим прекрасным рисовым полям. И все это так красиво… так непостижимо.
Я проснулся от очередного кошмара. Этот был еще хуже прежних. Я присутствовал при казни. Проснувшись, все еще чувствую запах дыма и пороха. Испытывая тошнотворное чувство вины, я некоторое время пытаюсь читать, потому что боюсь уснуть. В пятый раз перечитываю «Тихого американца» Грэма Грина. Это роман о Вьетнаме, о раннем периоде французской авантюры в этой стране. Говорят, Грэм Грин написал большую часть романа в отеле «Континенталь» на этой самой улице. Прекрасная, щемяще печальная книга. Но в моем настроении она не помогает, мне делается еще тошнее. Надо убираться из этой комнаты. Даже при том что здесь есть кондиционер, все – влажное. Ковер – сырой на ощупь, и запах от него спертый. Простыни – мокрые насквозь. Моя одежда – влажная. Даже деньги отсырели. Пачка почти ничего не стоящих донгов мокнет на тумбочке. Я выхожу из отеля и отправляюсь на рынок Бен Тхань, что в нескольких кварталах отсюда.








