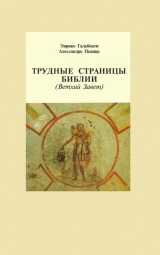
Текст книги "Трудные страницы Библии. Ветхий Завет"
Автор книги: Энрико Гальбиати
Соавторы: Алессандро Пьяцца
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 27 страниц)
4) Как могло получить сверхъестественные дарования человечество, находящееся, согласно эволюционной теории, на низшей ступени психического и нравственного развития? Цель четвертой гипотезы – дать ответ на этот вопрос.
Обладание этими дарованиями, действительно, имело место, но было лишь потенциальным, а не актуальным, как, например, использование разума новорожденным, или индивидом, разумность которого, из-за природного изъяна или болезни никогда не актуализируется, или «отключается». В самом начале сверхъестественного развития, подкрепляемого благодатью, человек низвергся на уровень чисто естественной эволюции со всеми его поражениями и нравственными потерями. По этой гипотезе, если бы не вмешательство греха, человечество, при поддержке благодати, пришло бы к состоянию, в котором свободный выбор Бога одержал бы победу над инстинктами и страстями, в чем и состоит неподвластность «похоти».
Кроме того, конец человеческой жизни переживался бы не как болезненный разрыв, а как спокойный переход – спокойный, поскольку человеку была бы в опыте дана уверенность в соединении с Богом. В этом могла бы состоять неподвластность смерти, такой, какую мы знаем.
То, что состояние первоначальной праведности носило «потенциальный» характер, может быть подтверждено некоторыми аспектами библейского портрета четы прародителей. Адам и Ева находились во временном состоянии, т. е. для них существовала возможность избежать смерти при условии свободного положительного ответа на предложение дара Божьего.
В самом деле, заслуживает название «бессмертие» только окончательное состояние, состоящее в эсхоталогическом блаженстве, в лицезрении Бога и обладании Им в преображенном теле.
***
Как уже отмечалось, Магистерий Церкви пока не счел нужным запретить или отвергнуть такие дискуссии. Но вместе с тем он не принял решение использовать их результаты, чтобы изменить, уточнить или даже только «ретушировать» положения, входящие в постановление Тридентского Собора о первородном грехе [111]111
Более полное толкование вопроса с соответствующей библиографией можно найти в следующих книгах: М. Flick – Ζ. AIszeghy, II peccato originale, Queriniana, Brescia 1972, pp.305368; Fondamenti di una Antropologia teologica, Libr. Edit. Fiorentina. Firenze 1982; Н. Gazelles e R. Lavocat, Poligenisme, «Dictionnaire de la Bible Supplement.», fase. 42 (1967), col. 90-110; A.-M. Dubarle, II peccato originale nella Scrittura, A. V. E., Roma, 1968, pp. 199–224; P. Grelot, Riflessioni sul problema del peccato originale, Paideia, Brescia 1968, pp. 92-112; P. Grelot, Peche originel et redemption examines a partir de l'épitre aux Romains, Desclée, Paris 1973, pp. 115–154; Ζ. Alszeghy-M. Flick, I primordi della salvezza, Marietti, Casale Monferrato 1979, pp. 111–132; V. Marcozzi, Le origini dell'uomo, Massimo 1983, pp. 270–274.
[Закрыть].
Представления Древнего Востока
39. Обзор представлений древнего Востока даст читателю возможность установить, насколько близки соответствующие понятия и язык понятиям и языку Ветхого Завета. Благодаря этому он сможет глубже оценить священный текст, предстающий на фоне той обстановки, в которой он появился на свет, а также точнее определить его литературный жанр.
Где бы люди ни задумывались над печальными условиями человеческой жизни, они всегда задавались двумя вопросами: «Всегда ли было так? Почему это так?»
На первый из этих двух вопросов отвечают предания о первоначальной эре благоденствия, классическим примером которых является описание золотого века в поэме Гезиода «Труды и дни» (см. ст. 109–126).
Некоторые другие памятники древнего Востока также говорят об отдаленной эпохе, когда жизнь отличалась от современной, но не изображают ее, как особенно счастливую и привлекательную:
«В Дильмуне ворон еще не каркал, коршун не издавал еще своего крика.
Лев не поражал насмерть, шакал не похищал ягнят…
Больной глаз не говорил: я больной глаз, больная голова не говорила: я больная голова…
Надзиратель каналов не приказывал еще очистить их…,
Надсмотрщик еще не вертелся на своем участке.
Имеющий власть не налагал тяжелых работ, не звучали в городских стенах жалобные вопли» [112]112
G. Rinaldi, Il mito sumerico di «Enki e Ninhursag in Dilmum», e Gen. 2–3, «Scuola Catt.» 76, 1948. 36–50; M. Witzel, Texte zum Studium Sumerischer Tempel und Kultzentren, Roma, 1932, 9-11.
[Закрыть]
Именно эти строки шумерской поэмы «Эн-е-ба-ам» могут привести читателя к мысли, что речь здесь идет о чем-то вроде земного рая. В действительности смысл этого и других подобных текстов совсем иной: это однообразный и бесплодный покой жизни без цивилизации. Отмечается отсутствие некоторых неприятных черт цивилизации, чтобы показать отсутствие самой цивилизации, которая в контексте [113]113
См. поэму об основании Эриду, ibid., pp. 38–52.
[Закрыть] представлена, как божественный дар, в высшей степени желанный. Так что в памятниках, ближайших к израильской литературе, нет никаких упоминаний об истинно золотом веке.
Что касается второго вопроса, «Почему это так?», то вавилонская мысль дает на него только один ответ: «Так пожелали боги: судьба человека неотвратима». Тень пессимизма ложится на все представления Древнего Вавилона о человеческой судьбе.
Существует целая поэма, главная цель которой, очевидно, выразить в пластической форме стремление человека к жизни, не имеющей конца: это знаменитая поэма о Гильгамеше. Этот герой, которого шумерская традиция считает пятым царем Урука после потопа, совершает великие подвиги вместе со своим другом Энкиду. Но Энкиду умирает. Видя перед собой бездыханное тело друга, Гильгамеш не может примириться с неизбежностью смерти:
«Энкиду, которого я любил, стал подобным грязи, а я, не лягу ли и я, как он? И никогда больше не встану?»
И тогда он отправляется в далекое путешествие, туда, куда не попадал никто из смертных, в поисках своего предка Ут-Напишти, вавилонского Ноя, который после потопа был обожествлен. Жена Ут-Напишти, которого он нашел после долгих странствий, просит мужа помочь бедному Гильгамешу, но тот получает такой ответ:
«Человечество дурно, оно причинит тебе зло!»
Однако, прежде чем отпустить героя, Ут-Напишти рассказывает ему о «траве жизни», которую Гильгамешу удается достать со дна моря:
«Гильгамеш сказал Ур-шанаби, лодочнику:
Ур-шанаби, эта трава – трава знаменитая, благодаря ей человек возвращает себе дыхание жизни.
Я принесу ее в Урук и угощу ей всех, раздам ее всем!
Имя ее: старик становится юным; я отведаю ее и вернусь в свою юность…»
Но радость героя продолжается недолго: на обратном пути
«Гильгамеш увидел колодезь, вода его была свежа; он спустился в него и омылся водой. Змей почуял запах травы…
поднялся и унес траву…
Тогда сел Гильгамеш и заплакал, по щекам его побежали слезы…»
Следует сделать вывод: вечная жизнь недостижима, если даже самому Гильгамешу не удалось обрести ее. А в отрывке из поэмы, написанной во времена Хаммурапи (XVIII в. до Р. X.), мы находим этот вывод, весьма недвусмысленно изложенный: это результат философских изысканий древнего Востока:
«О Гильгамеш, зачем ты мечешься во все стороны?
Жизнь, которую ты ищешь, ты не найдешь!
Когда боги создали человечество,
смертный удел отвели людям,
жизнь они удержали в своих руках.
Ты, о Гильгамеш, наполняй свое чрево,
день и ночь веселись, ты;
каждый день устраивай праздник.
Любуйся ребенком, который держит тебя зa руку, пусть супруга радуется на твоем сердце» [114]114
Цит. по Р. Dhorme, Choix de textes religiuex assyro-babyloniens, Paris, 1907, 183–316. Cp. J. B. Pritchard, o.c., p. 96 и р. 90. Подробный пересказ «Поэмы о Гильгамеше» см. в широко распространенном издании Dai Sumeri a Babele, Murerà. Milano 1978, pp. 46–57.
[Закрыть]
Но в этом своеобразном эпикуреизме явно ощущается горький привкус, что находит подтверждение и в другом вавилонском произведении: мифе об Адапе [115]115
P. Dhorme, o.c., pp. 148–157; J.B. Pritchard, o.c., pp. 101–102. Надо заметить, что миф не присваивает Адапе роль первого человека: у него нет ничего общего с Адамом.
[Закрыть].
Адапа был сыном Эа (или Энки), бога премудрости, и жрецом Эа в храме Эреду. Адапа готовил для своего бога еду, ловил для него рыбу. Эа любил его и научил его мудрости богов:
«Знание дал ему, но жизни вечной не дал ему».
Впрочем, Адапа, как и Гильгамеш, был близок к тому, чтобы получить вечную жизнь, но и ему это не удалось. В порыве ярости он сломал крылья Южному ветру, и должен был явиться к верховному божеству Ану, чтобы дать отчет в своем проступке. Эа тревожится за своего любимца и, опасаясь беды, советует ему:
«Поднесут тебе пищу смерти – не ешь!
Поднесут тебе воду смерти – не пей!»
Однако Ану решил, что Адапа знает слишком много, чтобы оставлять его среди людей:
«Зачем Эа открыл человеку нечистому дела небесные и земные? дал ему великое сердце (ум), сделал ему имя?
Что сделаем ему мы?
Предложите ему пищу жизни – чтобы он ел ее!
Предложили ему пищу жизни ·.и он не ел ее, предложили ему воду жизни – и он не пил ее…»
Ану крайне удивлен этим, но печальный вывод неизбежен:
«Возьмите его и отведите на его землю».
Заметим, что часть этого мифа была найдена в Египте, вместе со знаменитыми таблицами из Эль-Амарны (XV–XIV в.) [116]116
См. G. Ricciotti, La storia d'Israele, vol. I, paragr. 43–45, S.E.I., Torino 1932, 1964; S.Moscati, L'oriente Antico, Piccin – Nuova Libraria, Padova – Milano, 1952, pp. 42–45; C. H. Cordon, II Vecchio Testaniento e i popoli del Mediterraneo orientale, Morcelliana, Brescia 1959, pp. 84–90.
[Закрыть]. Это значит, что такие взгляды не были только плодом размышлений замкнутого кружка вавилонских мудрецов, но примерно во времена Моисея распространились уже по всему Востоку вместе с другими элементами месопотамской культуры.
Имея в виду стоящую перед нами цель, обратим внимание на то, что в этих рассказах с философской подоплекой мысль выражается не абстрактными терминами, а передается конкретным языком, обозначающим вещи, хорошо известные в той среде, из которой вышли эти писания, а именно:
трава жизни, символ недостижимой вечной жизни;
знание в магическом смысле, которое, однако, бессильно дать человеку то, к чему он стремится;
змей, быть может, больше как дух, ведающий жизнью и растительностью, чем как злое существо.
Трава жизни, как «литературный символ», появляется и вне философского контекста, просто как образное выражение. Так, в одном ассирийском письме мы читаем: «мы были мертвыми собаками, но царь, мой господин, вернул нам жизнь, поднеся к нашим ноздрям траву жизни [117]117
Другие примеры см. в статье J. Plessis, Babylon et la Bible, «Dict, de la Bible Supp].», ι. I col. 738.
[Закрыть]. Ассаргаддон, царь ассирийский, говорит: «Мое царство будет спасительно для плоти людей, как травы жизни» [118]118
cm. A. Deimel, Genesis, cc. 2–3 monumentis assyriis comparata, «Verbum Domini», 4 (1924), 285.
[Закрыть]. В одном религиозном гимне Мардук восхваляется как «(даритель) травы жизни» [119]119
cm. A. Deimel, ibid.
[Закрыть]. Ассиролог о. Деймель насчитывает по крайней мере десять изображений на камне или керамике этого растения, с божеством-хранителем возле него [120]120
cm. A. Deimel, о. с., pp. 286–287.
[Закрыть].
Итак, в культурной среде, наиболее близкой к библейскому миру, мы находим философские размышления о судьбах человеческих, воплощенные в примерах, которые призваны внушить мысль об абсолютной тщетности человеческих попыток обрести лучшую участь.
Это взгляд чисто пессимистический и безотрадный, не дающий даже искорки надежды на лучшее будущее, той самой надежды, которую оставляет эпилог третей главы книги Бытия. Таким образом, человеческое страдание, с его кульминацией – смертью, не только неизбежно, но и не имеет удовлетворительного объяснения. Здесь совсем не говорится о вине человека и о заслуженном им наказании, так что вся ответственность за печальную участь человечества падает на богов. Поэтому некоторые места поэмы о Гильгамеше представляют собой обвинительный акт против богов за их отношение к человеку.
Перед нами философия чрезвычайно пессимистическая, крайне абсурдная и богохульная. Библейское повествование о первородном грехе вкладывает ее именно (случайное совпадение?) в уста «змея» соблазнителя, который внушает первой женщине подозрение в ревности и недоброжелательстве Бога по отношению к людям.
И именно это сомнение в любви Господа было первым шагом к падению, которое означало гибель человечества.
Библейский рассказ о первородном грехе предстает перед нами в новом свете. И здесь есть философские размышления о судьбах человека, но они оказываются апологией Бога. Значит, они внушены совершенно новым понятием о Боге: мудрый и добрый Бог не является причиной печальной судьбы человечества. Причина – факт виновности человека. И эта связь с фактом, позволяющим ответить на вопрос: «Всегда ли было так?» (который находится вне вавилонской проблематики) и на другой вопрос: «Почему это так?» (относящийся к современному состоянию человечества), эта связь совершенно нова и создана Откровением.
Литературный жанр 3-й главы книги Бытия
40. После всего сказанного в предыдущих параграфах мы можем считать, что литературный жанр 3 главы книги Бытия приобрел достаточно четкие очертания.
В рассказе о грехопадении священнописатель ставит цель историко-доктринальную. Итак, соответствующие исторические факты следующие: привилегированное положение прародителей, возвышенных до дружбы и близости с Богом, избавленных от смерти; испытание их покорности Богу; искушение; падение и утрата привилегий; обещание будущего искупления; передача всему человечеству тяжкого наследства.
Все это составляет историко-доктринальное наследие, которое, как сказано выше (см. пар. 34), совершенно ясно обозначено в священном тексте и еще более ясно освещено Магистерием.
Поэтому предметом осторожной дискуссии и дальнейших исследований должен быть не литературный жанр центрального ядра библейского рассказа, а только точное значение отдельных элементов пластического изображения: дерева жизни, дерева познания добра и зла, змея-искусителя, райского сада.
Авторитетное оправдание такого экзегетического метода и такого разделения мы находим в следующих высказываниях секретаря Папской Библейской комиссии в письме к кардиналу Сюару: «… первые одиннадцать глав книги Бытия… сообщают простым и образным языком, приспособленным к восприятию менее развитого человечества, основополагающие истины, лежащие в основе домостроительства спасения, и в то же время содержат доступный рассказ о происхождении рода человеческого и избранного народа».
Итак, в данном случае нам нужно уточнить пределы «простого и образного языка, приспособленного к восприятию менее развитого человечества», которым боговдохновенный автор рассказал об историческом факте первородного греха.
Предварительно заметим, что библейский рассказ, должным образом истолкованный, не содержит в себе ничего сказочного или детского и потому неприемлемого. Детали рассказа должны пониматься, как и логика подсказывает, в свете основных идей учения, которые они действительно должны выразить и которые образуют самый глубокий сюжет великой драмы. Ни дерево жизни, ни дерево познания, ни змей-искуситель, ни райский сад сами по себе не являются, как мы увидим, элементами неправдоподобными, такими, которые следует понимать не в буквальном смысле, а в переносном.
Переход от буквального смысла к переносному возможен только по причинам чисто литературного характера, которые имеют отношение только к форме и никак не затрагивают содержание. Таким образом, мы должны выявить черты сходства между выражениями (близости между понятиями, как мы уже подчеркивали, нет), которыми пользуется автор библейского текста, и аналогичными формулами, фактами и идеями, распространенными на древнем Востоке и способными подсказать священнописателю определенную форму рассказа и образный язык. [121]121
См. иные точки зрения в кн. A. Dubarle, op. cit… p. 52 и Υ. Laurent, Le caractére historique de Gen. II–III dans l'exegése francaise au tournant du XIX siede, // «Eph. Theol. Lov.», 23 (1947) 36–69 и C. Castellino, La storicità dei capi 2–3 del Genesi, S. E. I., Torino 1951, p. 22; G. Lambert, Le drame du jardin d'Eden, «Nouvelle Revue Theol.», 76 (1954) 917–948; 1044–1072.
[Закрыть]
При нынешнем состоянии исследований мы не располагаем еще достаточными данными, которые позволили бы сделать окончательные выводы о том, каков в точности литературный вид 3-й главы книги Бытия, хотя, например, по результатам анализа рассказа о сотворении мира в 1-й главе книги Бытия, такие выводы были сделаны.
Перейдем теперь к рассмотрению отдельных подробностей.
Дерево жизни
41. То, что в библейском тексте используются специфически литературные выразительные средства, побуждает нас к известной осторожности при строго буквальном его толковании. Из сказанного выше ясно, что на древнем Востоке идея бессмертия часто, с некоторыми оттенками, передается конкретно словами: растение жизни, трава жизни.
Быть может, эти древние восточные понятия помогли боговдохновенному автору выразить в литературном символе, состоящем из общеизвестных элементов, исторический факт и идею, неизвестные никому: возможность жить вечно! В то время, как Гильгамеш напрасно гонится за травой жизни (что значит: вечная жизнь – лишь несбыточная мечта, потому что боги не желают, чтобы люди обладали этим даром), первый человек имеет в своем распоряжении знаменитое дерево жизни; а это означает, что Бог не стремился к безраздельному обладанию бессмертием. Он дал человеку возможность жить вечно [122]122
Образ дерева жизни появляется, как литературный символ, в следующих местах Библии: Притч 3, 18; 11, 30; 13, 12, 15; 15. 4; Апок 2, 7; 22, 2; 22, 14. Во 1-й главе мы уже разъяснили, что подразумевается под литературным символом.
[Закрыть].
Но после грехопадения великий дар вновь превращается в несбыточную мечту: «Херувимы{8} и пламенный меч обращающийся» (стр. 24) отныне преграждают навсегда доступ к дереву жизни.
В оригинале говорится скорее не о Херувимах, вооруженных мечом, а о двух различных и самостоятельных субстанциях: с одной стороны о Херувимах, и с другой – о «пламени меча».
В месопотамской культуре мы встречаем весьма значительные соответствия. Херувимы именем. и назначением напоминают ассировавилонских «Карибу», которые имели вид крылатых львов или быков с человеческими головами и помещались в качестве стражей при входе во дворцы. Их высекали из громадных каменных глыб. [123]123
Dhorme et Vincent, Les Cherubins, «Revue Bibl.», 35 (1936) 328 след., 481 след, справедливо отмечают, что эта аналогия в высшей степени поверхностна. Месопотамские херувимы – хотя и второстепенные, но божества, а в Библии говорится не более чем о реально воспринимаемых посланниках единого и абсолютного Бога, демонстрирующих Его невидимое присутствие и символизируещих Его действие.
[Закрыть]
Один текст, опубликованный ассирологом Тюро-Данженом, как кажется, помогает в какой-то степени понять, что же означает выражение «пламя обращающегося меча», которое долгое время оставалось элементом довольно загадочным. Около 1100 года царь Тиглат-Палассар I заявляет в связи с завоеванием некоего города: «Я сделал молнию из бронзы и написал на ней о добыче, завоеванной с помощью моего бога Ассура; написал я на ней и о запрещении занимать город и восстанавливать его. В этом месте я построил дом и на нем поставил молнию из бронзы» [124]124
Ср. F. Ceuppens, Quaestiones selectae ex historta primaeva, 2 ediz. Torino 1948, p. 225.
[Закрыть]. Правда, как замечает Гейниш [125]125
Das Buch Genesis, Bonn 1930, р 131.
[Закрыть], в библейском тексте говорится не о «молнии», а «пламени» и «мече»; однако, кажется, что между этими двумя понятиями существует заметная близость.
Эти аналогии говорят о том, что и Херувимов, и «пламя меча обращающегося» можно рассматривать, как символы, введенные, чтобы облечь в пластическую форму запрещение вступать в рай и иметь доступ к дереву жизни.
Дерево познания добра и зла
42. «Знание добра и зла» – синоним «всезнания» или, во всяком случае, божественной прерогативы. Поэтому ясно, в чем состояла цель искушения и грехопадения прародителей.
Сам по себе и этот эпизод вполне позволяет полагать, что предмет веры и покорности Богу находит конкретное выражение в воздержании от плода «познания добра и зла», поскольку вкушать или не вкушать от него означает для человека выбор: признает он для себя какие-то границы, или пытается преодолеть их.
Однако отметим, что такого рода связь между «знанием» и «деревом» является скорее косвенной. В этом случае дерево можно было бы с большим основанием называть деревом «послушания». Но автор упорно настаивает на том, что существует прямая связь между деревом и «познанием добра и зла».
Так как речь идет о вещах весьма разнородных – реальном дереве и знании, нам не легко представить себе конкретно эту прямую взаимосвязь, так что метафорическое толкование кажется наиболее приемлемым: «дерево познания» есть не что иное, как само знание в образе дерева. Тем более, что в действительности человек, вкусив от плода, не получил того знания, к которому так стремился.
Литературных параллелей, которые бы позволяли предполагать, что этот эпизод имеет переносное значение, почти нет. Действительно, в месопотамской литературе, по-видимому, нет ничего подобного «дереву познания добра и зла». Впрочем, упоминается «дерево истины»: одно шумерское божество носит имя Нин-гиш-зида, что означает: «господин дерева истины» [126]126
Cp. P. Dhorme, L'arbre de la verite et l'arbre de la vie, «Revue Bible», 7 (1907) 271–274.
[Закрыть].
Не исключено, что боговдохновенный автор в самом деле не имел никакого месопотамского литературного образца, но, поскольку он воспользовался образом дерева, чтобы выразить конкретно идею вечной жизни, то по аналогии и ради симметрии он не нашел ничего лучшего, чем воплотить в другом дереве идею божественного знания.
Вновь священный писатель языком, доступным современникам, выражает совершенно новую идею: в то время, как Адапа получил от своего бога-покровителя знание тайн неба, но не вечную жизнь, первый человек, удостоившись этой последней привилегии, должен был признать ограниченность своих возможностей, воздавая Богу дань веры.
Змей – искуситель
43. Змей 3-й главы книги Бытия не является, как мы уже говорили, говорящим животным (это придало бы его изображению неправдоподобный и сказочный характер); он – разумное и зло-действенное существо.
Хотя на древнем Востоке змей никогда не выступает в качестве соблазнителя человека и подстрекателя ко греху, но очень часто он упоминается в связи с жизнью и плодородием, на которые распространяется его власть. Такую же специфическую функцию он выполняет у хананеян, финикиян, египтян, да и у греков [127]127
См. К. Galling, Biblisches Reallexicon, p. 458 ss.; J. Coppens, La connaissance du bien et du mal et le péché du paradis, Louvain 1948, p. 92–117, с обильной документацией литературной и археологической (правда, не всегда относящейся прямо к защищаемому автором тезису о половом характере первого греха) и богатой библиографией; Р. Heinisch, Problemi di storia primordiale biblica, Morcelliana, Brescia 1950, pp. 112–113.
[Закрыть].
Можно также отметить, что змей был предметом идолотрического культа у хананеян и что Израиль стоял перед искушением принять культовые обычаи ближайших соседей. Это может натолкнуть на следующее сравнение: подобно тому, как Израиль уступил соблазну и принял хананейские культы и, в частности, культ змея, и тем самым отошел от чистоты веры в Ягве, единого Бога Израиля, так же и Адам, а прежде него Ева, нарушили верность Богу-творцу, подчинившись змею-искусителю. При этом, правда, следует иметь в виду то, что мы подчеркивали выше: нужно представлять искусителя божеством, способным составить конкуренцию Ягве [128]128
A. Fanuli, o. с. // II messaggio della salvezza, III, Elle Di Ci, Torino-Leumann 1977, p. 130.
[Закрыть].
Как мы видели, именно змей похищает у беспечного Гильгамеша траву жизни. В библейском рассказе змей выполняет отчасти ту же задачу: он отнимает у прародителей бессмертие. Не только в 3-й главе книги Бытия мы встречаем эту связку змей – смерть, но и в книге Премудрости Соломона указывается ясно, что «завистью диавола (змея) вошла в мир смерть» (2, 24).
И вновь представляется вполне вероятным, что упомянутые элементы внушили священнописателю мысль воспользоваться известным символом, чтобы выразить новую идею: что бессмертие было отнято у человека существом злодейственным, врагом Бога и человека, предстающем в образе «змея», благодаря чему рассказ становится более доступным для современников автора, и одновременно он избегает опасности изобразить искусителя как некое иное божество.
Райский сад
44. В книге Бытия 2, 8-14 есть описание и указано местоположение земного рая. Он находится в Эдеме, и его пересекает поток, из которого рождаются четыре реки – из них две известны нам: Тигр и Евфрат, а две неизвестны: Фисон и Геон. Очень трудно, чтобы не сказать – невозможно, перечислить все различные толкования этих стихов; достаточно сказать, что земной рай переносился с Дальнего Востока (Коппенс) на Северный полюс (!) (Уоррен – Грюн) или вообще за пределы земли (Унгнад) [129]129
Ср. Heinisch, o. с, р. 76.
[Закрыть]
В настоящее время этот вопрос неразрешим и, возможно, не найдет разрешения и в будущем [130]130
См. A. Bea, De Penlateucho, Roma 1933, p. 15. Ср. выше пар. 29, прим. 12 бис.
[Закрыть].
Ничего невероятного нет в том, что человек на абсолютно первобытной стадии развития цивилизации жил в роскошном саду. Однако, можно указать, что библейский автор и еще больше – католическое Предание рассматривают этот сад, как рай. Ясно, что сад, как таковой, является только скромным коэффициентом счастья, и рассматривать его лучше при свете Предания, как совокупность всего, что может сделать человека счастливым, если считать этот сад также и символом. Подобным образом Иоанн Богослов описывает в 21 главе Апокалипсиса небесный Иерусалим со стенами из всевозможных драгоценных камней, чтобы символически изобразить блаженство избранных, которым они несомненно обязаны причинам куда более высокого порядка.
Кроме того, хотя в месопотамской литературе нет следов земного рая, на какое-то короткое время доступного человеку, однако царство Сидури предстает именно в виде области, в которой произрастают растения из драгоценных камней, приносящие плоды «прекрасные на вид и великолепные на вкус» (ср. те же выражения в Быт 2) [131]131
См. J. Plessis, o.c., col. 737.
[Закрыть].
Все это мы говорим не для того, чтобы подвергнуть сомнению реальность сада-рая (ведь прародители должны были жить где-то на земле, и при этом, естественно, пользоваться богатством растительного мира), но чтобы подчеркнуть что, вероятно, по мысли автора сад выступает также в качестве символа, чтобы выразить идею совершенного блаженства первых людей.






