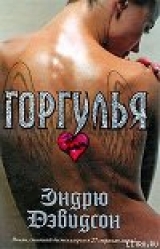
Текст книги "Горгулья"
Автор книги: Эндрю Дэвидсон
Жанры:
Триллеры
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 29 страниц)
– Ты нашел ее средь бела дня, так? – Джек имела в виду тот день, когда мы с Грегором вернулись в крепость. – Знаешь, я ведь работаю! Я не то, что ты… я сама свои счета оплачиваю! Не могу же я закрыть галерею и целый день с ней дурака валять! А если бы ты хоть позвонить додумался, я бы сразу примчалась в больницу! Но нет…
Так мы и спорили, кто в чем виноват, пока молодая пара не стала коситься в нашу сторону. Я кинул на них самый убийственный взгляд, чтобы, черт возьми, в чужие дела не лезли!
Джек сочла это прекрасным поводом напомнить мне, что я живу на деньги ее покупателей. Я возразил, что те же покупатели оплачивают и ее собственную жизнь, что она паразитирует на таланте Марианн Энгел.
– Ты, наверное, с ума сходишь от радости, ведь она снова ваяет!
Вся злость сползла с лица Джек, уступив место искреннему удивлению.
– Она – что?!
Атака моя захлебнулась. Когда я подтвердил, что так и есть, Джек явно запереживала.
– Раньше на нее гораздо реже находило… Такая мания – примерно раз в год… Два раза – в плохие годы.
Я вдруг возненавидел Джек за то, что она разделила двадцать лет жизни с Марианн Энгел. То была ненависть самого бурного свойства, ненависть, замешанная на зависти, но эту ненависть требовалось отложить в сторону. Джек обладала бесценным опытом, так что я постарался заговорить как можно ровнее:
– Что мне теперь делать?
– Не знаю! – Она перевернула табличку с «ОТКРЫТО» на «ЗАКРЫТО», выпроводила из магазина остававшихся покупателей, и мы вышли на улицу. – Но что-то делать надо!
У Джек был знакомый юрист, спец по принудительной госпитализации. Ничего удивительного, после стольких-то лет общения с психическими больными – сначала с матерью, потом с Марианн Энгел…
Старик Кленси Макрэнд сидел за огромным письменным столом, на котором красовался компьютер, весь оклеенный желтыми стикерами. Макрэнд все время тянул себя за лацканы пиджака, как будто пытаясь прикрыть живот, настолько огромный, что этого и признавать не хотелось. Он часто прочищал горло, хотя говорил почти все время я. Юрист делал пометки в большом желтом блокноте, а если я не знал ответов, Джек добавляла от себя. Макрэнд, кажется, уже немало знал о Марианн Энгел, судя по толстой папке, которую вытащил из ящика, как только мы пришли. Джек, очевидно, раньше уже пользовалась услугами этого юриста, быть может, и для оформления опеки.
Расспросив нас обо всем в подробностях, он сообщил, что попробовать можно, но будет нелегко. «Легко ничего не бывает, – подумал я, – адвокатам лишь бы дело затянуть». Впрочем, послушав его объяснения, я понял: задержки происходят не от жадности юристов. Так уж устроена система.
Обычно родственник пациента подавал ходатайство о принудительной госпитализации.
Как объяснил Макрэнд, по закону это мог сделать кто угодно, но дело затягивалось, если ходатайствовать брался не ближайший родственник. Поскольку родных у Марианн Энгел нет, ее должны освидетельствовать два врача – просто чтобы можно было подавать заявление. Если она откажется от осмотра (а я знал, что откажется), мне придется заявить под присягой, что она «существенно нездорова». Макрэнд испытующе взглянул на меня, как бы сомневаясь, захочу ли я на это пойти. Я заверил, что захочу, но он, конечно, уловил в моем голосе колебание.
– Гммм, гммм…
Откашлявшись, Макрэнд продолжил. После того как ходатайство мое оформят по всем правилам, Марианн Энгел должна будет явиться в больницу для осмотра. Если она откажется (а я опять знал, что откажется), закон обяжет ее предстать перед врачом.
В воображении моем нарисовалась картинка: два мясистых копа напяливают на Марианн Энгел смирительную рубашку и тащат в зал суда.
Если врач, как и я, сочтет Марианн Энгел опасно нездоровой, ее принудительно госпитализируют на семьдесят два часа. По окончании этого времени главврач в больнице может подать свое собственное прошение о более длительной госпитализации. Важный момент: поскольку ни я, ни Джек не состояли в родстве с Марианн Энгел, мы не могли это сделать самостоятельно. Без поддержки главврача у нас не будет права ходатайствовать снова.
Дальше, при условии, что главврач согласится, последует слушание, во время которого Марианн Энгел обяжут дать показания, равно как и меня, и Джек в качестве опекунши. Возможно, вызовут и других людей, тех, кто в последнее время наблюдал поведение Марианн Энгел. К примеру, Грегора Гнатюка и Саюри Мицумото. Дело будет слушаться в комитете по охране психического здоровья, хотя у Марианн Энгел есть юридическое право и на судебное разбирательство. И если дойдет до этого, она сможет нанять собственного юриста.
Мистер Макрэнд предостерег, что уж в суде, вне всякого сомнения, возникнут вопросы по поводу моей персоны. Учитывая мою карьеру в порнографии, мое открытое пристрастие к наркотикам и тот факт, что все мои медицинские расходы оплачивает Марианн Энгел, сомнительно, чтоб судьи захотели ограничивать ее в правах лишь по моей прихоти. Если уж говорить объективно, то скорее не я, а она здоровый член общества. Может, суд даже позабавят мои попытки признать ее недееспособной, при том, что она на первый взгляд гораздо лучше меня управляется с собственной жизнью. И (Макрэнд с очевидной неохотой, исключительно из добросовестности сослался на этот фактор) Марианн Энгел легко способна понравиться судьям.
– Вы же, напротив… – Все это понятно и без слов.
Я напомнил, что Марианн Энгел сама себе всю грудь исцарапала. Как еще доказывать, что она представляет угрозу для собственного здоровья? Макрэнд со вздохом согласился: «дело можно строить» и на данном случае, однако нет никаких доказательств, что Марианн Энгел опасна для окружающих.
– Если бы урон самому себе был поводом для принудительной госпитализации, психиатрические больницы были бы забиты курильщиками и любителями фаст-фуда.
Как бы я смог попросить всех знакомых свидетельствовать против Марианн Энгел в почти наверняка проигрышном деле? А главное: как бы смог я сам давать показания против нее? При всех ее теориях о заговоре, это было бы последнее дело; она бы только уверилась, что самые близкие друзья – вражеские агенты, пытающиеся воспрепятствовать раздаче сердец.
– Итак… – Мистер Макрэнд снова вздохнул, напоследок еще раз дернул за лацканы пиджака и сложил руки на своем круглом животе.
Я поблагодарил его, что смог уделить нам время, а Джек предложила прислать счет в галерею. Уже в дверях она приобняла меня за плечи и сказала, что очень сочувствует. И я ей поверил.
Единственное наше утешение заключалось в том факте, что у Марианн Энгел осталось только пять статуй на обратный отсчет. Пускай нам будет больно наблюдать, как она их доделывает, но по крайней мере скоро все закончится. Мне оставалось лишь заботливо ухаживать за ней. И когда она нанесет последний штрих на последнюю статую, то поймет, что резьба ее не убила.
Новая диета Бугацы включала в себя регулярное употребление свиных поджелудочных желез, в сыром виде, чтобы организм получал недостающие энзимы и мог переваривать другую пищу. Я близко познакомился с окрестными мясниками, которые долго удивлялись моим заказам, пока я не объяснил, для чего покупаю этот продукт. И тогда им всем было приятно почувствовать, что они помогают сопровождающей меня собаке, – ведь не часто мясник может представить себя доктором. С каждым днем Бугаца выглядела чуточку лучше, а Марианн Энгел – все хуже и хуже.
Она побледнела от недостатка солнечного света, хотя иногда выползала из подвала за сигаретами и очередной банкой растворимого кофе. Она превращалась в скелет, изукрашенный въевшейся пылью, плоть опадала от физического напряжения. Она исчезала, капля по капле, выветривалась, словно каменная крошка от ее химер. Статую номер 5 она закончила к середине апреля и немедленно стала готовиться к номеру 4.
Годовщина аварии – мой второй «день рождения» в Страстную пятницу – прошла, а Марианн Энгел даже не заметила. Я один поехал на место катастрофы, один спускался в овраг… Зелень травы уже совсем поглотила черные пятна пожара. Подсвечник предыдущего дня рождения по-прежнему торчал там, где мы его оставили, – замызганное за год свидетельство того, что никто сюда после нас не приходил.
Я воткнул в землю еще один подсвечник (якобы тоже выкованный Франческо) и вставил свечку в жадный железный рот. Зажег и произнес несколько слов: не то чтобы молитву, ведь молюсь я только в Аду, а просто воспоминания о прошлом. Жизнь с Марианн Энгел как минимум привила мне определенную приязнь к ритуалам.
Она работала весь месяц, но скорость резьбы значительно снизилась. Неизбежно. По завершении номера 4 ей пришлось передохнуть два дня, и лишь потом приступать к номеру 3. Тело бунтовало, и не обращать внимания на это не получалось. Хотя Марианн Энгел готовилась особо долго, на статую номер 3 ушло почти пять дней.
Номер 2 занимал ее до самого конца месяца, да и двигалась она теперь исключительно за счет силы воли. А закончив, она забралась в ванну и как следует вымылась, а потом (наконец-то!) упала в кровать и проспала два дня напролет.
Когда она проснется – останется одна, последняя статуя. Я не знал, бояться или бурно радоваться; впрочем, Марианн Энгел частенько вызывала во мне противоречивые чувства.
Она встала с постели в первый майский день и выглядела гораздо лучше – какое облегчение! Я вдвойне порадовался, что она не сразу бросилась в подвал, к своей последней статуе, а разделила со мной завтрак. Разговаривала она связными предложениями, а потом отправилась на прогулку со мной и Бугацей (та впала в экстаз от долгожданного внимания). Мы по очереди кидали собаке теннисный мячик, а она притаскивала его назад в слюнявой пасти.
Первой тему затронула Марианн Энгел.
– Мне осталась всего одна статуя.
– Да?..
– Знаешь какая?
– Наверное, еще одна химера?
– Нет, – произнесла она. – Это ты.
В последние несколько месяцев моя статуя стояла в углу мастерской в белой простыне, точно карикатурное привидение. Поначалу я был разочарован, что Марианн Энгел потеряла ко мне интерес, но скульпторша все истончалась, и я теперь уж радовался, что не должен позировать и смотреть, как она тает.
Недолго думая я предложил позировать, хотя вообще-то лучше бы она совсем отказалась от этих своих идей о «последней статуе». Впрочем, теперь, по крайней мере, я смогу за ней присматривать. Вдобавок, судя по предыдущим сеансам резьбы с натуры, над моей статуей Марианн Энгел будет работать куда менее неистово. Я же не чокнутая зверушка, которая воплями требует, чтобы ее вызволяли из бездны времени и камня; я дам ей все имеющееся у меня время и никогда не стану торопить.
Я не удержался и полюбопытствовал, знала ли Марианн Энгел, когда мы много месяцев назад приступили к моей статуе, что это будет ее последняя работа. Да, отвечала она, уже знала. И я опять спросил: зачем вообще было начинать, зная, что придется отложить работу?
– Это была часть твоей подготовки, – заявила она. – Я подумала, если статуя уже наполовину будет сделана, ты вряд ли теперь заартачишься. И, похоже, оказалась права.
Мы приступили в тот же день. Я всегда неловко чувствовал себя перед ней обнаженным, но теперь стеснялся меньше, ведь и она была физически несовершенна. Конечно, нездоровая худоба не шрамы по всему телу, но по крайней мере в уродстве мы теперь как будто сблизились.
Работа над моей статуей продолжалась дней десять, и почти половина этого времени ушла на мелкие детали. Марианн Энгел часто подходила к моему креслу и водила пальцами по моему телу, как будто пытаясь запомнить топографию ожогов, чтобы после как можно тщательней перенести ее на камень. Я подметил, с каким тщанием она относится к каждой складочке, а она заявила, что жизненно важно довести эту статую до совершенства, ничего не упустить.
Все шло более-менее так, как я надеялся. Марианн Энгел не упорствовала, как прежде; обычно работала не больше часа подряд, хотя теперь я мог позировать сколько нужно – ведь компрессионный костюм уже сняли. Она как будто наслаждалась заключительной работой. Меньше курила; банки с растворимым кофе оставались невскрытыми. Марианн Энгел вырезала, склоняясь близко-близко к камню, и нашептывала что-то очень тихим голосом. Мне ни разу не удалось расслышать хоть слово, как я ни напрягался: слух серьезно пострадал после аварии. Тогда я попытался выудить правду, отпуская как бы незначительные комментарии:
– Я думал, камень говорит с тобой, а не ты с ним.
Марианн Энгел подняла голову:
– Ты смешной!
И так продолжалось до неизбежного последнего взмаха молотком. Она отступила на шаг и целую вечность изучала моего каменного двойника. Наконец сочла, что между ним и мной различий больше нет, и удовлетворенно заявила:
– Я хочу добавить надпись. Оставь меня одну!
И работала над надписью допоздна, а я, хотя с ума сходил от любопытства, уважал ее просьбу об одиночестве. Наконец, выгравировав последнее слово, Марианн Энгел поднялась наверх. Я, конечно же, спросил, когда можно прочитать ее надпись.
– После будет куча времени, – ответила она. – А сейчас поедем на пляж, праздновать!
Прекрасная мысль! Возле океана Марианн Энгел всегда расслаблялась, это хороший способ отметить завершение трудов. Итак, она запихнула меня в машину, и вскоре мы оказались на берегу.
Волны ритмично накатывали; тело Марианн Энгел восхитительно прижималось к моему. Бугаца радостно носилась за мухами, вздымая тучи песка.
Поодаль подростки пили пиво и дурачились на потеху своим девчонкам.
– Итак… – заговорил я. – А теперь что?
– Конец нашей истории. Который, если ты забыл, начинается с того, что кондотьеры тебя подожгли.
Глава 31
Быстрее… Выдох. Вдох. Я сосредоточилась на дыхании. Ровнее. Спокойней. Целься. Спокойней. Я назвала цель вслух.
– В сердце.
Не знаю, что я ожидала увидеть, выпуская стрелу. Удивительно, но взгляд и впрямь сфокусировался на конечной точке воображаемой линии прицела, а не на самой стреле. Невзирая на снежную бурю, стрела неслась как будто по рельсу, ни разу не дрогнув. Всем известна история о воине, способном выстрелом расщепить стрелу, которая уже попала в яблочко. Вот так и моя стрела вошла тебе в грудь, в то же самое место, пронзенное прежде. Когда тебя подстрелили в первый раз, томик Данте замедлил движение стрелы и тем спас твою жизнь для меня. Вторая стрела не встретила сопротивления и забрала тебя у меня же.
От удара голова твоя запрокинулась, рот распахнулся, выдавив последний изумленный вздох. Подбородок дважды стукнулся о грудь, а затем ты поник и как бы весь опал, ссутулился, повис на пригвожденных ладонях, а вокруг пылала стена домика брата Хайнриха. Моя стрела избавила тебя от большей боли, и я в слезах поблагодарила Господа.
Наемники зароптали от удивления, а Конрад сурово вопросил, кто был настолько невнимателен, настолько туп, кто, вопреки строжайшему приказу, пристрелил тебя насмерть?! Он бесился, заподозрив своих собственных солдат в милосердии.
Мне не следовало столько времени тратить на благодарности Богу, надо было постараться бежать. При ближайшем рассмотрении моей стрелы выяснилось, что выпущена она не из арбалетов солдат, да и угол, под которым торчало древко, указывал на то, что стреляли с вершины холма. По мановению руки командира солдаты бросились в мою сторону. Они еще меня не видели, но знали, где искать.
Я уронила арбалет, понимая, что другого выстрела не сделаю. Лошадь моя стояла рядом, каменистый холм был скользкий, а густые заросли мешали движению. Пока солдаты карабкались наверх, я сумела отвязать лошадь и ускользнула буквально у них из-под носа. Впрочем, им понадобится несколько минут, чтобы оседлать собственных лошадей. Было у меня и другое преимущество: я знала эти места с самой юности, а наемники – нет. Вьюга все бушевала, и мне это, кажется, могло бы дать хоть шанс.
Как же я ошибалась!.. Солдаты гораздо более меня преуспели в верховой езде, а животные под ними были отдохнувшие и хорошо откормленные. Не прошло и нескольких минут, как они уже настигли меня на тропе. Я понимала: если не сверну, меня поймают в считанные секунды. Впереди была развилка, в одну сторону уводила безопасная тропинка, а с другой стороны – крутой обрыв над рекой Пегниц. В детстве я иногда гуляла по самому краю, совсем забывая об осторожности или желая проверить, есть ли у Господа для меня план и цель.
Теперь уж не до жиру – быть бы живу. Я, хоть и понимала, что для лошади места нужно в два раза больше, выбрала опасный путь. Животное почувствовало опасность, и мне пришлось пришпоривать и понукать его, а самой тем временем бормотать детские молитвы. Лошадь отчаянно сопротивлялась, я упрашивала ее продвинуться еще немного. Вскоре она споткнулась о заледеневший корень и, увлекая меня за собой, упала.
Мы скользили с обрыва, лошадь моя пыталась восстановить равновесие, цеплялась копытами, но не находила опоры. Она валилась на бок, испуганная и ничего не понимающая, и, наконец, скинула меня на землю.
Я поддалась неизбежности падения и на краткий миг почувствовала почти что невесомость. Какое-то нереальное ощущение, словно я парила в идеальном равновесии меж снегом и небом… И вдруг взглянула прямо в глаза своей лошади. У лошадей всегда такие темные, спокойные глаза… в детстве моем монахини шутили, что лошади видят все божественные тайны, даже если их не замечает настоятельница… Но глаза этого животного широко распахнулись от ужаса. Миг пролетел, едва начавшись, а наше головокружительное падение по снегу и веткам продолжилось.
Наконец мы остановились. Я не сразу смогла оценить, какой широкий след остался за нами в снегу, и испугаться за ребенка. Малыш почти немедленно пихнул меня в живот, наверное, выражая недовольство такими перегрузками, а я сочла это за знак того, что он не пострадал, и, кажется, еще никогда так не радовалась болезненным пинкам.
Солдаты не последовали за мной с обрыва, мудро решив остаться на безопасной тропе. По меньшей мере, один достал арбалет и прицелился, но потом передумал стрелять из-за расстояния и метели. Очевидно, ему не хватало моей веры в Бога.
Наемники найдут иной путь вниз. На это, прикинула я, понадобится не меньше пятнадцати минут. Быть может, падение – настоящая удача, мой шанс ускользнуть? Однако радости хватило ненадолго; попытавшись поднять лошадь на ноги, я обнаружила, что одна нога ее вывернута под невозможным углом. Все, дальше она со мной не пойдет. Я даже не могла ничем помочь несчастному животному, ведь арбалета больше не было. Впрочем, какая разница, у меня бы все равно рука не поднялась. Одно убийство в день уже и так ровно на одно больше допустимого.
Что толку опережать солдат на пятнадцать минут, когда они верхом, а я нет? С одной стороны от меня был обрыв, с которого я только что упала, с другой – река. Я знала, что эта речка обычно до конца не замерзает, а если и замерзает – человеческий вес такой лед не выдержит. О том, чтобы переправиться на другой берег, и речи быть не могло, а лезть обратно наверх – тоже ничего хорошего. Мне оставалось только выбрать, в какую сторону бежать вдоль берега, и надеяться на лучшее. План нелепый, с заранее известным исходом. Наемники меня поймают, это лишь вопрос времени.
Конрад без колебаний отрубил Брандейсу голову; смеясь, отдал приказ поджечь тебя. Я понимала, ты был прав: когда меня поймают, быстрая смерть станет большим везением. А гораздо вероятнее – меня изнасилуют.
Я иначе взглянула на тонкую корку льда. Шансов достичь противоположного берега было мало, но и не попытаться теперь я тоже не могла. Если у меня каким-то образом получится, солдаты не смогут переправиться за мной. Им придется отказаться от преследования, – даже самый тощий солдат наверняка провалится под лед. К чему рисковать? Наемники не знали, кто я. Обычная бродяжка, сожительница беглого солдата – что им за дело, выживу я или умру? Конрад все доказал, а казнив двоих дезертиров, и так убил на одного больше, чем предполагалось. Должен же он был обрадоваться?
Я шагнула на лед… кажется, довольно крепкий. Впрочем, к середине реки он будет истончаться. Чуть подальше виднелись полыньи – словно черные одеяла на белой поверхности. Еще пара шагов… послышался хруст. Ветер швырял мне в лицо снег, до берега уже было футов пятнадцать. Если лед треснет, достану ли я до дна?
Я продолжала делать крошечные, скользящие шажки. Спешила и робела, но все равно двигалась недостаточно быстро. Наемники шумно приближались, и я заковыляла быстрее. Уговаривала себя, что чем дальше от берега, тем безопасней, что самое главное – оказаться вне пределов досягаемости их стрел.
Лед подо мной чуть поддался, сильнее прежнего, я инстинктивно схватилась за живот и, обернувшись, увидела, что наемники уже на берегу, уже нашли мою охромевшую лошадь. Потом увидели меня, вскинули арбалеты… а я понимала, что продвинулась недостаточно далеко. Несколько стрел полетело в мою сторону, но ветер их раскидал. Солдаты наверняка учтут эту первую пристрелку и второй раз прицелятся лучше. А мишенью, конечно, буду я.
Второго залпа так и не последовало. По знаку Конрада наемники опустили оружие. Конрад вряд ли стал бы волноваться о потраченных напрасно стрелах. Он мог счесть меня достойной жить, если только я сумею пересечь реку. Тоже сомнительно. Скорей всего Конрад просто наслаждается развлечением: женщина на тонком льду.
Солдаты столпились у речки с самым решительном видом – явно были готовы выжидать сколько потребуется.
Я понимала, что назад дороги нет, и сделала еще шаг. Лед подо мной затрещал, я инстинктивно рухнула на колени, выбросила вперед руки, стараясь приземлиться на четвереньки. Убеждала себя: нужно просто двигаться, хотя бы добраться до середины реки и чуть дальше, и тогда я уцелею, ведь, теоретически, в центре лед самый тонкий. Говорила себе, что стоит только пересечь воображаемую линию, и нерожденный мой ребенок выживет.
Но как поступить лучше? Растянуться на животе и медленно ползти вперед? Довольно разумно. Главное как можно равномернее распределить вес тела. Но потом я подумала, не получится ли, что так я лишь скорее попаду на самый тонкий лед, и он треснет, и наступившая цепная реакция поглотит меня целиком?.. В любом случае я боялась опираться на собственный живот. Тогда бежать, в надежде, что скорость сама перенесет меня через реку? Тело мое говорило «нет», а вера требовала обратного. В конце концов, ведь именно дыхание Господа с идеальной точностью направило мою стрелу прямо тебе в сердце. Разве не может то же дыхание подхватить меня сзади, перенести над опасностью? Какого еще момента ждать, когда же, если не теперь, отдаться на милость Господа?
Я посмотрела на противоположный берег, воображая себя самое стрелой, а предстоящий путь – траекторией. Чуть выпрямилась, телом чувствуя, сколь непрочен лед. Напрягла ноги, как можно крепче уперлась. Приподняла колено и с короткой молитвой обратила взгляд к свободе дальнего берега, сосредоточилась на ней – своей цели. И рванула вперед, положившись на Господа.
Я успела сделать лишь несколько шагов, и тут лед поддался, и я рухнула, как будто выбрасывалась из окна. Ледяная вода насквозь пробрала меня холодом, тяжесть промокшей одежды потянула вниз. Первая мысль – о ребенке! Я забилась, замахала руками, тщась ухватиться хоть за что-нибудь. Казалось, только бы уцепиться за кромку проруби, и я сумею выбраться на лед. Но лед крошился под моими пальцами. Чем больше усилий я прилагала, тем шире становилась полынья. Жизнь утекала от меня, от ребенка… И несколько минут спустя, хоть мысли еще металась, тело мое перестало отзываться.
Течение реки повлекло меня вниз, куда-то под лед. Я, конечно, понимала, что двигаюсь, но казалось, что это полынья плывет надо мной, уплывает прочь, за грань видимости. Над головой у меня осталась только твердая ледяная корка. Лед не мог быть очень уж толстым, однако, сколько бы я ни била его ладонями, он никак не ломался изнутри. Мне не на что было опереться, внизу – лишь вода.
Оставалась единственная надежда: задержать дыхание и молиться, чтобы течение вынесло меня к другой полынье.
Так странно чувствовать полное отключение тела. Судно, что несло тебя по жизни, что всегда служило верой и правдой, перестает реагировать на команды твоей души. Как будто щелкнули выключателем и электричество пропало. Я поняла: даже если течение вынесет меня на открытую воду, будет поздно. Руки мои не сумеют удержаться за кромку льда, а если все же это и удастся, мне не хватит сил, чтобы выбраться из ледяной воды.
А хуже всего было осознавать, что теперь-то ребенок наверняка пострадал. И тогда я пала духом. Закрыла глаза, потому что так и бывает с людьми под водой, на грани гибели… Тело мое стало опускаться ко дну, а страх просто кончился. Промелькнул миг восхитительно прекрасного приятия. «Так будет проще», – с каким-то облегчением подумала я в последние секунды перед темнотой.
А дальше… я могу рассказать тебе, что случилось, но не могу объяснить как следует, чтобы ты понял. При рождении я получила в дар способность к языкам, и совершенствовала этот дар несколько сотен лет, но нету слов, способных описать совершившееся в тот день. Ни в английском, ни в любом другом известном мне языке.
Я проснулась, но это было не совсем пробуждение, ведь я не слала. Скорее провела какое-то время вне всякого сознания, а теперь возвратилась космыслению действительности. Однако не к привычному осмыслению, восприятию мира вокруг… то было нечто более значительное, нечто безбрежно-широкое и бесконечно глубокое. Я по-прежнему находилась подо льдом, меня все так же несла Пегниц, и в то же время я была не в водах какой-то конкретной реки. Я оказалась в водах целого мира, всей Вселенной, но была даже не в воде, а скорее частью этой воды. Я стала неотличима от самой воды; я сделалась жидкостью.
Когда люди переживают клиническую смерть, они всегда говорят о туннеле, о свете в конце. Я испытала иное. Свет действительно был, только не в туннеле, а повсюду. Светящийся воздух поддерживал меня, я парила, хотя внизу и не было поверхности, над которой можно парить. Свет разливался во мне и вокруг; я была и водой и светом. Я казалась самой себе парящим и жидким сиянием, светящимся ровно, без тепла или холода. Я больше не чувствовала своего тела.
Времени нет там, где тело прекращает свое существование, ведь время можно воспринимать только телом. Мы редко замечаем собственное внутреннее чувство времени, пока оно не пропадает. Вот почему амнезия так внезапно сбивает с толку: люди пугаются не оттого, что утратили воспоминания – мы все забываем, – но оттого, что лишились времени.
Я ощутила присутствие неких сущностей. Их нельзя было назвать привидениями или духами, потому что даже столь призрачной формы у них не было. Они существовали лишь постольку, поскольку я их ощущала. Впрочем, и «ощущала» неподходящее слово – разве можно «ощущать» нематериальное? И эти сущности, как свет и вода, тоже были внутри меня. Настолько полно я их чувствовала, что догадалась: они не теперь появились внутри меня, они всегда здесь были. Я просто их не замечала всю свою прежнюю жизнь. Своего рода самозащита.
Это можно сравнить с попыткой прислушаться к разговору: невозможно сосредоточиться на словах, если вслушиваться одновременно в тиканье часов на стене, и гул машин на улице, и шаги в коридоре, и дыхание мужчины рядом с женщиной, которая прихлебывает чай. Нельзя воспринимать все звуки одновременно; остается слушать лишь того, кто говорит. Вот так же и с бесчисленными голосами человеческого тела.
Слушаешь собственные мысли, а все остальное отключаешь.
Но теперь я могла объять каждый голос внутри. Я слышала все эти сущности, как будто расходящиеся внутри меня золотыми кругами. Я могла их попробовать, и на вкус они были как спокойствие. Они касались меня словно музыка…
Видишь? Я хотела бы объяснить, но не умею! Это выше человеческих сил! Те, кто думает, будто можно пересказать извечную природу Божественности, никогда ее не испытывали.
Три сущности выделились средь остальных в этом внутреннем хоре и выступили вперед. Хотя они не приняли физических форм, я все равно определила в них людей, какими они были некогда прежде, хотя в реальной жизни знала только одного – отца Сандера. Второй был Мейстер Экхарт, а третья – Мехтильда Магдебургская.
Я догадалась, что это не фокус, не трюк, но драгоценный дар. И восприняла как нечто совершенно естественное, когда отец Сандер дал понять, что рад снова оказаться рядом со мной. Слов не было, я скорее чувствовала, как его мысли трутся о мои собственные. Схожим образом ощущалось и когда ко мне обращались Мейстер Экхарт и сестра Мехтильда. Наш «разговор» был калейдоскопом ослепительных вибраций.
Они объяснили, что явились не за тем, чтобы забрать меня, ибо я пока не готова. Я не умерла как нужно, я еще не закончилась. Они помогут мне достичь готовности умереть, для чего и были назначены моими Наставниками.
«Почему меня не отсылают в Ад? – мысленно передала я. – Я убила своего любимого!»
Это бывает по-другому. Ева согрешила, когда съела яблоко, и в наказание ей было грехопадение. А за проступки твоей жизни? Что за искупление потребно?
«Это не мне решать…»
Как раз тебе! Судьба увела тебя от Служения Богу и сделала орудием смерти. Ты раскаялась?
«Нет! – Даже перед лицом Вечности я не забыла жизнь с тобой. – Пусть я нарушила монастырские клятвы, пусть тем самым предала свою настоятельницу и Господа Бога, но никогда я не предавала себя. Я оставалась верна своему сердцу и никогда не раскаюсь в любви! Это единственный мой великий поступок…»
Три Наставника поняли, что даже при смерти я стану держаться за любовь к тебе. Разумеется, все это они видели не в первый и не в последний раз.
Сердце твое всегда было независимо, это твой высший и самый тяжкий дар.
Следовательно, кара твоя осуществится посредством сердец.
«Да будет так».
Ты научилась отдавать другому свое сердце без остатка, но еще не научилась делить это сердце меж собой и другим.
«Признаю, это так и есть».
Ты вернешься в мир, и грудь твоя наполнится заново тысячами сердец. Каждое должна ты отдать, пока не останется одно, последнее.
«Как я этого достигну?»
Сердца эти следует отдавать из груди; пусть они умрут для тебя и найдут жизнь в других. Так ты сумеешь превозмочь свою земную природу и подготовиться к Христу.
«Я не понимаю, каким способом освобождать сердца».
Ты узнаешь способ.
«А когда останется только одно, последнее?»
Его ты не сможешь отдать сама. Последнее сердце нужно передать твоему любовнику. Он должен принять его, но не может держать. Он должен выпустить его, освободить тебя. Лишь так ты, наконец придешь к Господу.








